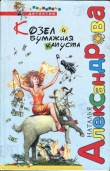Текст книги "Перстень Левеншельдов (сборник)"
Автор книги: Сельма Лагерлёф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
С тех пор больше не существовало на свете Маргареты Сельсинг, а существовала лишь майорша из Экебю. И она не была ни добра, ни застенчива, она верила только в великое зло и не замечала добра.
Ты знаешь, верно, что случилось потом. Мы жили в имении Ше, майор и я. Но он не был богат, как говорили люди. И у меня нередко бывали тяжелые дни.
Но тут вернулся Альтрингер – теперь он был богат. Он стал хозяином Экебю, по соседству с Ше. Он сделался хозяином еще шести заводов близ озера Левен. Он был дельный, предприимчивый, прекрасный человек!
Он помогал нам в нашей бедности. Мы разъезжали в его экипажах, он посылал съестные припасы на нашу поварню, вина для нашего погреба. Он наполнил мою жизнь пирами и увеселениями. Майор отправился на войну, но что нам было до этого! Один день я гостила в Экебю, на другой день он приезжал в Ше. Казалось, на берегах Левена тогда вечно веселились и водили хороводы.
Но тут обо мне и об Альтрингере пошла недобрая молва. Если бы Маргарета Сельсинг была жива, ей это бы причинило большое горе, но мне было хоть бы что. Тогда я еще не понимала: я столь бесчувственна оттого, что мертва.
Но вот молва о нас дошла до моих отца с матерью, туда, где они жили, среди угольных ям в лесах Эльвдалена. Старушка, недолго думая, отправилась сюда, к озеру, чтобы поговорить со мной.
Однажды, когда майора не было дома, а я сидела за столом с Альтрингером и другими гостями, приехала она. Я увидела, как она вошла в зал, но я, Йеста Берлинг, не почувствовала даже, что она – моя мать. Я поздоровалась с ней, как с чужой, и пригласила сесть к моему столу и принять участие в трапезе.
Она хотела поговорить со мной как с дочерью. Но я сказала, что она ошиблась – мои родители умерли, они оба умерли в день моей свадьбы.
Тогда она приняла условия игры. Ей было семьдесят лет, двадцать миль проехала она за, три дня! И вот она безо всяких церемоний села за стол и принялась за еду. Она была на редкость сильным человеком.
Она сказала: как печально, что именно в этот день я понесла столь тяжкую утрату.
– Самое печальное, – сказала я, – что родители мои не умерли на день раньше, тогда не было бы и свадьбы.
– Разве вы, милостивая фру майорша, не довольны своим замужеством? – спросила она.
– Вот именно, – ответила я, – но теперь я довольна. Я всегда буду рада повиноваться воле моих дорогих родителей.
Она спросила, была ли на то воля моих родителей, чтоб я навлекла позор на себя и на них и изменяла бы мужу. Малую честь выказала я своим родителям, сделавшись притчей во языцех у всех и каждого.
– Как постелишь, так и поспишь, – ответила я ей.
И вообще, чужой госпоже должно бы понять: я не намерена допустить, чтобы кто-либо порочил дочь моих родителей.
За столом ели только мы, мы – вдвоем. Окружавшие нас мужчины сидели молча, не в силах взять в руки нож или вилку.
Старушка осталась у меня на сутки, чтобы передохнуть, а потом уехала.
Но все время, пока она оставалась у меня, я так и не смогла понять, что она – моя мать. Я знала лишь, что моя мать – умерла.
Когда она собралась уезжать, Йеста Берлинг, и я стояла рядом с ней на лестнице, а экипаж подали к парадному входу, она сказала мне:
– Сутки пробыла я здесь, а ты так и не поздоровалась со мной, как с родной матерью. По безлюдным дорогам ехала я сюда, проехала целых двадцать миль за три дня, и твой позор заставляет мое тело дрожать так, словно его иссекли плетью. Пусть же все отрекутся от тебя так, как ты отреклась от меня, пусть тебя выгонят, как ты выгнала меня! Пусть проселочная дорога станет твоим домом, сноп соломы – постелью, а угольная яма – твоим очагом. Пусть позор и бесчестье будут тебе наградой! Пусть другие бьют тебя так, как бью тебя я!
И она сильно ударила меня по щеке.
А я взяла ее на руки, снесла вниз по лестнице и усадила в экипаж.
– Кто ты такая, что проклинаешь меня? – спросила я. – Кто ты такая, что бьешь меня? Такого я ни от кого не потерплю!
И я тоже дала ей пощечину.
Экипаж тут же тронулся в путь, но тогда, в тот же час, Йеста Берлинг, я узнала, что Маргарета Сельсинг – мертва.
Маргарета Сельсинг была добра и невинна, она не ведала зла. Ангелы плакали на ее могиле. Если б она была жива, она никогда не ударила бы свою мать.
Нищий, сидевший у двери, слушал, и слова майорши заглушили на миг призывный шелест вечных лесов. Надо же, эта могущественная госпожа притворилась столь же грешной, как он, стала его сестрой – такой же пропащей, как и он, чтобы вселить в него мужество жить! И ему должно было научиться тому, что не только на нем, но и на других тоже лежит отпечаток горя и позора. Поднявшись, он подошел к майорше.
– Хочешь ли ты жить теперь, Йеста Берлинг? – спросила она голосом, прерывающимся от слез. – Зачем тебе умирать? Из тебя, верно, мог бы получиться хороший священник; но никогда тот Йеста Берлинг, которого ты утопил в вине, не был столь кристально чист и невинен, как та Маргарета Сельсинг, которую я задушила своей ненавистью. Ты хочешь жить?
Йеста упал на колени пред майоршей.
– Простите, – сказал он. – Не могу.
– Я – старая женщина, закаленная множеством горестей, – ответила майорша, – и я сижу здесь и отдаю себя самое в награду нищему, которого нашла полузамерзшим в сугробе у обочины. Поделом мне! Если ты уйдешь и кончишь жизнь самоубийством, ты по крайней мере не сможешь рассказать кому-либо о моем безумстве!
– Майорша, я не самоубийца, я приговоренный к смерти! Не делайте мою смертную борьбу чрезмерно тяжкой! Я не должен жить! Мое тело одержало верх над душой, поэтому я должен освободить ее, позволить ей вознестись к Богу.
– Вот как, ты полагаешь, что попадешь туда?
– Прощайте, фру майорша, и спасибо вам!
Нищий поднялся с колен и, опустив голову, поплелся к дверям. Эта женщина сделала тяжким его путь на север, к бескрайним лесам.
Подойдя к дверям, он не мог не оглянуться. И тут он встретил взгляд майорши, молча сидевшей и глядевшей ему вслед. Никогда не видел он столь изменившегося лица, и, остановившись, он уставился на нее. Она, недавно гневная и грозная, сидела в каком-то молчаливом просветлении, а глаза ее сияли сочувствием и милосердной любовью.
И что-то в нем, в его собственной заблудшей душе растаяло под этим ее взглядом. Прижавшись лбом к дверному косяку, обхватив голову руками, он заплакал, заплакал так, что сердце его чуть не разорвалось.
Швырнув свою трубку в очаг, майорша подошла к Йесте. Все ее движения внезапно стали нежными, как у матери.
– Полно, полно, мой мальчик!
И она усадила его рядом с собой на скамью у дверей, и он плакал, уткнувшись головой в ее колени.
– Ты все еще собираешься умереть?
Тут он хотел вскочить на ноги. Ей пришлось насильно удержать его.
– Сейчас я говорю тебе: ты волен поступать, как хочешь. Но я обещаю тебе, что, если ты снова захочешь жить, я возьму к себе дочку пастора из Брубю и выращу из нее человека. Так что она сможет возблагодарить Бога за то, что ты, Йеста, украл у нее муку. Ну как, хочешь жить?
Он поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза:
– Это – правда?
– Да, обещаю тебе, Йеста Берлинг.
В тоске и отчаянии он стал ломать руки. Он увидел пред собой острый, пронзительный взгляд, сжатые губы и исхудалые маленькие ручки. Стало быть, это юное существо обретет защиту и опеку, и следы унизительных побоев будут стерты с ее тела, а злоба из ее души! Теперь путь к вечным лесам для него закрыт.
– Я не убью себя до тех пор, пока девочка будет под вашей опекой, фру майорша, – сказал он. – Я точно знал, что вы, фру майорша, заставите меня жить. Я сразу же почувствовал, что вы сильнее меня.
– Йеста Берлинг! – торжественно произнесла она. – Я сражалась за тебя, как за самое себя. Я сказала Богу: «Если хоть что-то от Маргареты Сельсинг еще живо во мне, то дозволь ей, Маргарете, явиться и выказать себя так, чтобы этот человек не смог уйти и убить себя!» И он дозволил это, и ты увидел ее, и потому ты не смог уйти. И она шепнула мне, что ради бедного дитяти ты, верно, посмеешь отказаться от своего намерения. Вы, дикие птицы, летаете дерзко и отважно, но Господу нашему ведома та сеть, что и вас уловит.
– Велик Бог и неисповедимы его пути, – сказал Йеста Берлинг. – Он сыграл со мной злую шутку, он отверг меня, но все же не позволил мне умереть. Да свершится его святая воля!
С того самого дня Йеста Берлинг стал кавалером в Экебю. Дважды пытался он выбраться оттуда и стать на ноги, чтобы жить своим трудом. Однажды майорша подарила ему торп близ Экебю. Он переехал туда, намереваясь жить торпарем.[10] Некоторое время это ему удавалось, но вскоре он устал от одиночества, от повседневной, изнурительной работы и снова стал кавалером. В другой раз это случилось, когда его пригласили домашним учителем графа Хенрика Доны в поместье Борг. В то время он влюбился в юную Эббу Дону, сестру графа, но она умерла в тот самый час, когда он полагал, что вот-вот завоюет ее сердце, и он оставил все мысли о том, чтобы стать кем-либо другим, кроме как кавалером в Экебю. Ему казалось, что для священника, лишенного сана, все пути к спасению закрыты.
Глава первая
ЛАНДШАФТ
Теперь я собираюсь описать длинное озеро, благодатную равнину и синие горы, поскольку они были той самой ареной, где разыгрывалась веселая жизнь Йесты Берлинга и кавалеров из Экебю.
Озеро это начиналось высоко в горах на севере, а место для озера там – просто чудесное. Лес и горы неустанно собирают для него влагу. Круглый год низвергаются туда потоки и ручьи. Для озера предназначен и сыпучий светлый песок, устилающий его дно, и мысы, и каменистые островки, которые отражаются в озерной глади и которыми все любуются. Водяной и русалки играют там на вольных просторах, и озеро быстро разрастается – обширное и прекрасное. Там, в горах севера, оно веселое и дружелюбное. Стоит посмотреть на него летним утром, когда оно только-только пробуждается ото сна, окутанное пеленой тумана, чтобы заметить, какое оно бодрое. Сначала оно чуточку дурачится, затем медленно-медленно выползает из легкой дымки, такое чарующе прекрасное, что его едва можно узнать. Но вот оно одним рывком сбрасывает с себя весь туманный покров и ложится пред вами во всей своей обнаженности, в своей розовой наготе, сверкая на утреннем свету.
Но озеро не довольствуется одними лишь легкомысленными играми, оно перехватывает себе талию, превращаясь в узкий пролив, оно прорывается сквозь несколько песчаных холмов и ищет для себя новое королевство, новые просторы. И находит… Оно становится все обширнее и могущественнее, у него открываются новые глубины, которые можно заполнить водой, и столь украшающий озеро живописный пейзаж. Но внезапно вода становится темнее, берега – более однообразными, ветры – более пронизывающими, а вид самого озера – более строгим. Великолепно, прекрасно это озеро! Сколько на нем плавает судов и сплавных плотов! И поздно наступает для него время зимнего отдыха, редко раньше Рождества. Озеро часто гневается, вскипая белой пеной и опрокидывая парусные суда, а порой, раскинувшись в мечтательном покое, отражает голубое небо.
Озеро стремится выбраться как можно дальше на широкие просторы, хотя чем ниже спускается оно на юг, тем более громоздкими кажутся горы и все более тесным пространство. Так что озеру еще раз приходится, подобно узкому проливу, проползать меж песчаных берегов. Затем оно в третий раз расширяется, но, правда, уже не отличается прежней красотой и достоинством.
Берега понижаются и становятся однообразными, слабее дуют ветры, озеро рано впадает в зимнюю спячку. Оно по-прежнему красиво, но утрачивает юношескую пылкость и мужественную силу; оно становится таким же, как и все другие озера. Обеими своими руками – водными протоками – нащупывает оно дорогу к Венерну, а когда путь найден, Левен низвергается в своей старческой слабости по крутым склонам, и, свершив этот последний, сопровождаемый грохотом подвиг, отправляется на покой, погружается в спячку.
Долина такая же длинная, как и озеро. Но надо думать, что ей трудно пробиваться меж горных гряд и хребтов. Начинается долина с самой котловины у северной оконечности озера, где оно впервые осмеливается раскинуться вширь, а затем тянется все дальше, пока она победоносно не располагается на покой у берегов Венерна. Тут и речи не может быть о чем-либо ином, кроме того, что равнина охотнее всего протянулась бы вдоль берегов озера, каким бы длинным оно ни было, но горы не оставляют ее в покое. Горы – это громадные стены из серого гранита, поросшие лесом, изрезанные ущельями, в которых трудно продвигаться вперед, богатые мхами и лишайниками. В стародавние же времена здесь обитали несметные стаи дичи. Топкое болото или лесное озерцо с темной водой часто встречаются наверху в горах среди тянущихся вдаль горных гряд. То тут, то там видны также днища угольных ям или лесные просеки, откуда выбраны бревна и дрова, или же земля, выжженная под пашню. Все это – свидетельство того, что и горы могут трудиться. Но обычно они беззаботны, спокойны и довольствуются лишь тем, что заставляют тени и дневной свет играть в свои вечные игры на их склонах.
И с этими-то горами равнина, кроткая, богатая и любящая труд, ведет неустанную борьбу, впрочем, вполне дружественную.
– Я хочу быть в полной безопасности, – говорит равнина горам, – и для этого совершенно достаточно окружить меня со всех сторон вашими склонами-стенами!
Но горы не желают и слушать подобные речи. Они высылают длинные вереницы холмов и лишенных растительности плоскогорий вплоть до самого озера. Они воздвигают великолепные сторожевые башни на каждом мысу и, по существу, столь редко покидают берега озера, что равнина лишь в нескольких местах может врезаться в мягкий песок прибрежья. Но ведь сетовать все равно не имеет смысла.
– Радуйся, что мы стоим здесь на страже, – говорят горы. – Подумай о днях перед самым Рождеством, когда холодные, как смерть, туманы день за днем ползут над Левеном! Добрую службу мы служим тебе тем, что стоим здесь.
Равнина же сетует, что ей тесно и что ей открывается отнюдь не живописный вид.
– Ты глупа, – отвечают горы, – тебе надобно хоть раз испытать, как дуют ветры внизу у озера. Нужен по меньшей мере гранитный хребет и еловая шуба, чтобы выдержать такой сквозняк. А вообще-то, хватит с тебя и того, что ты смотришь на нас.
Да, смотреть на горы – этим-то как раз равнина и занимается. Ей хорошо известны все те диковинные переливы света и теней, которые скользят по их склонам. Она знает, как при дневном свете опускаются они совсем низко к самому окоему; а при утреннем или вечернем свете – они, ярко-голубые, словно небо в зените, поднимаются на большую высоту. Иногда на них падает такой резкий свет, что они становятся зелеными или сине-черными, и каждая сосна, каждая дорога и каждое ущелье видны на расстоянии многих миль.
Однако кое-где горы изволят посторониться и дают равнине выйти вперед и поглядеть на озеро. Порой ей удается увидеть озеро в страшном гневе, когда оно, словно дикая кошка, шипит и брызжет слюной. А иной раз равнина видит его подернутым холодным туманом, который появляется оттого, что болотница варит пиво или стирает белье. И тогда равнина тотчас же признает, что горы правы, сторонясь озера, и снова прячется в свою тесную темницу.
С незапамятных времен возделывали люди эту великолепную равнину, и там вырос большой приход. Повсюду, где река со своим белопенным водопадом бросается на береговой откос, появились заводы и мельницы. На светлых, открытых пространствах, где равнина подступает прямо к озеру, были построены церкви и пасторские усадьбы. По краям же долин, у подножья гор, на каменистой почве, где урожаи скудны, стоят дома офицеров, крестьянские и помещичьи усадьбы.
Однако следует заметить, что в двадцатые годы девятнадцатого века здешние места были далеко не так хорошо обжиты, как сейчас. Немало было в ту пору лесов, озер и болот, которые можно теперь возделывать. Вообще-то люди были тогда не столь красноречивы и добывали себе пропитание извозом и поденной работой на многочисленных заводах, а то и службой в чужих краях. Прокормиться земледелием было нельзя. Обитатели равнины одевались в те времена в домотканое платье, ели овсяный хлеб и довольствовались поденной платой в двенадцать скиллингов. Многие жили в большой нужде, но у людей был легкий, веселый нрав при врожденных дарованиях и трудолюбии, что во многом облегчало им жизнь.
Но вся эта триада – длинное озеро, плодородная равнина и синие горы составляли и составляют еще и поныне один из красивейших ландшафтов, точно так же, как здешние жители и поныне еще остаются сильными, мужественными и талантливыми. Ныне они стали также намного богаче и образованнее.
Пусть же счастье сопутствует тем, кто живет там, на севере, у длинного озера и близ синих гор! Кое-что из их воспоминаний я и хочу здесь вам поведать.
Глава вторая
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
Синтрам – так зовут злого заводчика в Форсе, того самого, с неуклюжим обезьяним телом и длинными руками, с лысой головой и уродливым, искаженным гримасами лицом. Того самого, кто наслаждается, сея зло.
Синтрам – так зовут того, кто нанимает в работники лишь мошенников да разбойников и держит в служанках лишь вздорных да лживых девиц. Того, кто доводит до бешенства собак, тыча иглами им в морду, и счастливо живет среди злобных людей и свирепых животных.
Синтрам – так зовут того, для кого составляет величайшее счастье надевать личину мерзкого врага рода человеческого – с рогами и хвостом, конским копытом и мохнатым телом, и внезапно появляться из темных углов, да из-за печки или дровяного сарая, либо стращать пугливых детей и суеверных женщин.
Синтрам – так зовут того, кто радуется, когда старая дружба сменяется старой враждой, а сердца отравляются ложью.
Синтрам – так зовут его, и однажды он явился в Экебю.
* * *
– Тащите большие дровни в кузницу, ставьте их посредине и кладите на дровни днище телеги. Вот у нас и стол! Ура! Да здравствует стол, вот и стол готов!
– Давайте стулья, давайте все, на чем можно сидеть! Сюда – трехногие скамеечки сапожника и пустые ящики! Сюда – старые драные мягкие кресла без спинок, тащите сюда беговые сани без полозьев и старый экипаж! Ха-ха-ха, тащите и старый экипаж! Он будет кафедрой!
Посмотрите только на него! Сорвано одно колесо и весь кузов! Остался лишь облучок, подушки испорчены, они поросли кукушкиным льном, кожа порыжела от старости. Эта древняя развалина – высока, как дом. Подоприте ее, подоприте, а не то она рухнет!
– Ура! Ура! В кузнице Экебю ночью празднуют Рождество!
За шелковым пологом двуспальной кровати спят майор и майорша, спят, не подозревая, что все кавалеры во флигеле все еще бодрствуют. Отяжелевшие от рисовой каши и горького рождественского пива, спят работники и служанки, не до сна лишь кавалерам из флигеля. Кто мог догадаться, что кавалеры во флигеле не спят?!
Босоногие кузнецы не переворачивают раскаленные болванки, перемазанные сажей мальчишки не тащат тележки, груженные углем. Огромный молот, словно рука со сжатым кулаком, висит наверху, под самым потолком, наковальня – пуста, печи не разевают свои огненные пасти, чтобы поглотить уголь, не скрипят кузнечные меха. На дворе Рождество. Кузница спит.
Спит, спит! О ты, дитя человеческое, ты спишь, меж тем как кавалеры бодрствуют! Длинные клещи стоят вертикально на полу с сальными свечами в клешнях. От десятиведерного котла из сверкающей меди тянется к окутанному тьмой потолку голубое пламя пунша. Роговой фонарь Бееренкройца подвешен на молот из пруткового железа. Золотистый пунш искрится в чаше, словно яркое солнце. Там есть стол, есть скамья. Кавалеры празднуют рождественскую ночь в кузнице.
Здесь царят шум и веселье, музыка и песни. Но полуночный гам никого не может разбудить. Ведь грохот из кузницы заглушается могучим ревом водопада.
Здесь царят шум и веселье. Подумать только, если бы майорша видела все это!
Ну и что из того?! Она, разумеется, села бы с кавалерами и осушила бокал вина. Замечательная женщина, эта майорша, она не гнушается ни громовой застольной песни, ни партии в килле.[11] Эта богатейшая женщина в Вермланде уверена в себе, как мужчина, горда, как королева. Она любит пение, звуки скрипки и валторны. Обожает и вино, и карты, и накрытый стол, окруженный веселыми гостями. Она следит за тем, как расходуются припасы в кладовой, но когда в доме танцуют и веселятся, ей по душе танцы да веселье в горнице и в зале, и кавалерский флигель, полный кавалеров.
Взгляните на них, когда они сидят вокруг чаши, кавалер подле кавалера! Их – двенадцать, двенадцать мужей. Это не какие-нибудь там порхающие мотыльки, не модники, а одни лишь мужи, слава которых долго не померкнет в Вермланде, отважные мужи, могучие мужи!
Не какие-нибудь высохшие старцы с пергаментными лицами и не туго набитые денежные мешки, а бедные мужи, беззаботные мужи – истинные кавалеры, кавалеры с головы до пят.
Не какие-нибудь маменькины сынки, не сонные владельцы собственного хеммана, а бродяги, веселые мужи, рыцари – герои бесчисленных приключений.
Пуст ныне кавалерский флигель, уже много лет пуст! Экебю больше не пристанище избранных, не пристанище бездомных кавалеров. Отставные офицеры и бедные дворяне не колесят больше по Вермланду в шатких одноколках. Но пусть мертвые оживут, пусть они восстанут из мертвых – веселые, беззаботные, вечно молодые!
Все эти славные мужи умеют играть на одном или нескольких инструментах, все они большие оригиналы, знают множество песен и поговорок, головы у кавалеров набиты ими, словно муравейник муравьями. Но у каждого все же есть свой собственный дар, своя редкостная добродетель кавалера, отличающая его от прочих.
Прежде всего из тех, кто сидит вокруг чаши с пуншем, я хочу назвать Бееренкройца, полковника с длинными седыми усами, игрока в килле, исполнителя песен Бельмана.[12] А рядом с ним – его друг и боевой соратник, молчаливый майор и великий охотник на медведей Андерс Фукс. Третий же в этой компании – коротышка Рустер, барабанщик, который долгое время был денщиком полковника, но удостоился звания кавалера за генеральский бас и умение варить пунш. Затем следует упомянуть старого прапорщика Рутгера фон Эрнеклу, обольстителя дам. На нем шейный платок с булавкой, жабо и парик; а нарумянен он, как женщина. Он был одним из первейших кавалеров, точно таким же, как Кристиан Берг, бравый капитан, замечательный герой, обмануть которого, однако, было столь же просто, как сказочного великана. В обществе этих двоих часто видели маленького, кругленького патрона Юлиуса, живого, веселого и ярко одаренного человека – оратора, художника, исполнителя песен и рассказчика анекдотов. Он охотно подтрунивал над разбитым подагрой прапорщиком и глупым великаном.
Был там и огромный немец Кевенхюллер, изобретатель самоходного экипажа и летательной машины, тот, чье имя еще звучит в шелесте лесной листвы. Человек чести как по рождению, так и по внешнему виду, с длинными закрученными усами, остроконечной бородкой, орлиным носом и узкими косыми глазками, окруженными сетью скрещивающихся морщин. Там сидел и великий воин – кузен Кристофер, никогда не покидавший стен кавалерского флигеля, если только не ожидалась охота на медведя или отчаянная авантюра. А рядом с ним – дядюшка Эберхард, философ, перебравшийся в Экебю не ради игр и веселья, а ради того, чтобы, не заботясь о хлебе насущном, завершить свой великий труд о науке всех наук.
Самыми последними я называю лучших из всей плеяды, кроткого Левенборга, благочестивого человека, который был слишком хорош для этого мира и мало что смыслил в его путях-дорогах. И Лильекруну, великого музыканта, владельца прекрасного дома, о котором он вечно тосковал, но все же должен был оставаться в Экебю, ибо душа его нуждалась в богатстве и разнообразии впечатлений: иначе жизнь казалась ему невыносимой.
У всех одиннадцати кавалеров юность была позади, и многие из них вступили уже в пору старости. Но был среди них один, кому едва исполнилось тридцать, кто сохранил еще нерастраченными все силы души и тела. То был Йеста Берлинг, кавалер из кавалеров, единственный в своем роде, более великий оратор, певец, музыкант, охотник, бражник и игрок, чем все они, вместе взятые. Он обладал всеми достоинствами кавалера. Какого доблестного мужа сделала из него майорша!
Посмотрите же на него сейчас, когда он поднялся на кафедру! Над ним тяжелыми гирляндами спускается с черного потолка тьма. Его русая голова светится на этом фоне, словно голова юного бога, юного светоносца, который привел в порядок царивший в мире хаос. Он стоит, статный, красивый, жаждущий приключений.
Говорит же он с величайшей серьезностью.
– Братья и кавалеры! Близится ночь, долго тянется праздник, пора уже поднять тост за тринадцатого, сидящего за нашим столом.
– Любезный брат Йеста! – восклицает патрон Юлиус. – Здесь нет никакого тринадцатого, нас всего двенадцать!
– В Экебю каждый год умирает один человек, – еще мрачнее продолжает Йеста. – Один из тех, кто гостит в кавалерском флигеле, умирает, умирает один из веселых, беззаботных, вечно юных. И немудрено! Кавалеры не должны стариться. Если наши дрожащие руки не смогут поднимать бокалы, если наши тускнеющие глаза не смогут различать карты, чем станет тогда для нас жизнь и кем станем мы для жизни?
Умереть должен один из тринадцати, один из тех, кто празднует Рождество в кузнице Экебю. Но каждый год появляется кто-то новый, чтобы пополнить наши ряды.
Это должен быть человек, сведущий в искусстве приносить радость, тот, кто умеет играть на скрипке и в карты! Старым мотылькам должно умереть, пока светит летнее солнце. За здоровье тринадцатого!
– Но, Йеста, нас же всего двенадцать, – возразили кавалеры, не дотрагиваясь до своих бокалов.
Йеста Берлинг, которого все они называют поэтом, хотя он никогда не писал стихов, с непоколебимым спокойствием продолжает:
– Братья и кавалеры! Разве вы забыли, кто вы? Вы те, благодаря кому в Вермланде царит радость. Вы те, кто вселяет жизнь в смычки скрипок, побуждает танцевать, заставляет музыку и песни звучать по всей стране. Вы умеете отвращать ваши сердца от золота, ваши руки от работы. Не будь вас, умерли бы танцы, умерло бы лето, розы, игра в карты, не стало бы песен. И во всем этом благословенном краю не осталось бы ничего, кроме железа и заводчиков. Радость будет жить, пока живы вы. Шесть лет праздновал я рождественскую ночь в кузнице Экебю, и никто прежде не отказывался пить за тринадцатого!
– Но, Йеста, – закричали все кавалеры, – если нас только двенадцать, зачем же нам пить за тринадцатого?!
Глубокая печаль омрачает лицо Йесты.
– Разве вас только двенадцать? – спрашивает он. – Как же так? Неужто мы все должны быть стерты с лица земли? Неужто в будущем году нас останется только одиннадцать, а год спустя только десять? Неужто наши имена станут всего лишь легендой, а все мы сгинем? Я призываю тринадцатого, ведь я поднял тост за его здоровье. Из бездны морской, из недр земных, с небес, из ада призываю я его, того, кому должно пополнить плеяду кавалеров!
Тут в дымовой трубе что-то зашумело, заслонка плавильной печи поднялась и явился тринадцатый.
Весь мохнатый, с хвостом и конским копытом, с рогами и остроконечной бородкой. При виде его кавалеры с криком вскакивают.
Но Йеста Берлинг, ликуя, восклицает:
– Тринадцатый явился! За здоровье тринадцатого!
Вот он и явился, старинный враг рода человеческого, явился к безрассудно смелым кавалерам, нарушившим мир святой ночи. Вот он – дружок ведьм с горы Блокулла,[13] тот, что подписывает договор кровью на черной как уголь бумаге, тот, что семь дней напролет отплясывал с графиней в Иварснесе и целых семь пасторов не могли прогнать его прочь. Он явился.
При виде его мозг старых искателей приключений заработал с лихорадочной быстротой: ради чьей души рыскает он этой ночью – недоумевали они.
Многие из них готовы были в ужасе удрать, но вскоре они поняли, что рогатый явился вовсе не для того, чтобы увлечь их в свое царство мрака, а потому, что его привлекли звон бокалов и песни. Он желал насладиться человеческой радостью в эту святую рождественскую ночь, он желал сбросить тяжкое бремя власти в эту ночь радости.
О, кавалеры, кавалеры, кто из вас помнит еще о том, что нынче – рождественская ночь? Именно в эту пору ангелы поют пастухам на полях.
Именно в эту пору дети лежат, боясь крепко заснуть, не проснуться вовремя и пропустить светлую заутреню. Скоро настанет пора зажигать рождественские свечи в церкви прихода Бру, а далеко в лесной чаще на своем хеммане юноша приготовил вечером смоляной факел, чтобы освещать дорогу в церковь своей девушке. Во всех домах хозяйки выставили в окнах ветвистые подсвечники, остается только зажечь свечи, когда прихожане пойдут мимо. Пономарь поет во сне рождественские псалмы, а старый пробст лежит и тревожится, достанет ли у него голоса, чтобы провозгласить во время обедни: «Слава Богу на небеси, миру на земле, людям с добрыми помыслами!»
О, кавалеры, лучше бы вам в эту мирную ночь спать в своих постелях, нежели якшаться с князем тьмы!
Но они приветствуют его криками «Добро пожаловать!», «За здоровье тринадцатого!». Нечистому подают чашу с пламенным пуншем. Они отводят ему почетное место за столом и глядят на него с такой радостью, словно его уродливой роже сатира присущи милые черты возлюбленных их юности.
Бееренкройц приглашает его сыграть с ним партию в килле, патрон Юлиус поет ему лучшие свои песни, а Эрнеклу беседует с ним о прекрасных женщинах, этих дивных, услаждающих жизнь созданиях.
Он благоденствует, этот рогатый, с княжеской осанкой прислоняясь к облучку старого экипажа, и вооруженной когтем лапой подносит чашу с пуншем к своей улыбающейся пасти.
Но Йеста Берлинг, разумеется, держит речь.
– Ваша милость, – говорит он, – мы долго ждали вас здесь, в Экебю, ибо доступ в какой-либо другой рай вам, полагаю, затруднителен. Как вашей милости должно быть уже известно, здесь живут вольно, не сеют и не жнут. Жареные воробьи сами летят нам в рот, а кругом в ручьях и водных протоках текут горькое пиво и сладкое вино. Место здесь, заметьте, ваша милость, прекрасное.
Мы, кавалеры, право же, ждали вас, потому что прежде наша плеяда была далеко не полной. Видите ли, дела обстоят так, что мы представляем собой нечто более значительное, нежели то, за что мы себя выдаем. Мы – те самые двенадцать, та самая поэтическая плеяда, которая живет в веках. Нас было двенадцать, когда мы правили миром там, на окутанной облаками вершине Олимпа, и нас было двенадцать, когда мы, обернувшись птицами, сидели на зеленых ветвях древа Игдрасил.[14] Повсюду, где только слагались поэмы, появлялись следом и мы. Разве не мы, двенадцать могучих мужей, сидели вокруг Круглого стола короля Артура[15] и разве не вступили мы, двенадцать паладинов, в армию Карла Великого?[16] Один из нас был Тором,[17] один Юпитером, и как на таковых должно смотреть на нас каждому еще и сегодня. Ведь сияние божества видится и под лохмотьями, а львиная грива и под ослиной шкурой. Время не пощадило нас, но когда мы здесь, кузница становится Олимпом, а кавалерский флигель – Вальхаллой.[18]