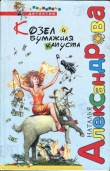Текст книги "Перстень Левеншельдов (сборник)"
Автор книги: Сельма Лагерлёф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
Глава двадцать третья
ПАТРОН ЮЛИУС
Патрон Юлиус несет вниз из кавалерского флигеля красный деревянный сундук. Он наполнил душистой померанцевой водкой зеленый бочонок, с которым не расставался во многих путешествиях, а в большой резной ларец положил масло, хлеб, старый зеленовато-коричневый сыр, жирный окорок и плавающие в малиновом варенье оладьи.
Затем патрон Юлиус обошел усадьбу, прощаясь со слезами на глазах с прекрасным Экебю. Он в последний раз погладил рукой обшарпанные кегельные шары и потрепал по щекам круглолицых ребятишек, игравших на пригорке у завода. Он обошел все садовые дорожки и гроты в парке. Заглянул в конюшню и хлев, погладил лошадей по крупу, потряс злого быка за рога и позволил телятам полизать его руки. Под конец он с затуманенными от слез глазами вернулся в дом, где его ожидал прощальный завтрак.
О горестная судьба! Какая непроглядная тьма вокруг! Еда казалась ему отравленной, вино горьким, как желчь. У кавалеров и у него самого горло сдавило от волнения. Прощальные речи прерывались рыданиями. Что за горестная судьба! С этой поры жизнь его будет сплошным страданием и тоской. Никогда более не заиграет улыбка на его губах, песни умрут в его памяти, как умирают цветы на тронутой осенним морозом земле. Сам он зачахнет, поблекнет и увянет, как роза в осенние холода, как лилия в сухой земле. Никогда более не увидят кавалеры несчастного Юлиуса. Тени мрачных предчувствий поселились в его душе – так гонимые ветром тучи бросают черные тени на свежевспаханные поля. Он уезжает домой, чтобы там умереть.
Пышущий здоровьем, полный сил стоит он перед ними. Никогда более не спросят они в шутку, когда он в последний раз видел кончики своих пальцев на ногах, не попросят со смехом одолжить им его щеки вместо кегельных шаров. В его печени и легких пустил недуг свои корни. Злая хворь грызет и изнуряет его. Он давно понял, что дни его сочтены.
О, лишь бы только кавалеры сохранили верную память о покойном! Лишь бы только они не забыли его!
Долг призывает его. Дома ждет его мать. Она ждет его целых семнадцать лет. И вот она прислала письмо, она зовет его, и он должен повиноваться. Он знает, что возвращение домой обернется для него смертью, но повинуется, как добрый сын.
О восхитительные пирушки! О вы, прекрасные заливные луга и гордый водопад! О вы, увлекательные приключения, натертые до блеска скользкие полы танцевального зала, ты, милый сердцу кавалерский флигель! О скрипки и валторны, о ты, жизнь, исполненная счастья и веселья! Разлука с вами равносильна смерти.
Патрон Юлиус заходит в кухню проститься с прислугой. Он обнимает и с необычайным волнением целует всех, от экономки до старушки-приживальщицы. Служанки плачут, сокрушаясь над его горькой участью. Подумать только, такому доброму и веселому господину суждено умереть, и они никогда более не увидят его!
Патрон Юлиус велит выкатить из сарая его тарантас и вывести из конюшни его лошадь. Стало быть, его тарантасу не суждено спокойно догнивать в Экебю, а старой Кайсе придется расстаться с привычной кормушкой. Он не хочет сказать ничего худого о своей матушке, но раз она не думает о нем, так подумала хотя бы о них. Сумеют ли они перенести столь долгое путешествие?
Но тяжелее всего расставаться с кавалерами.
Маленький, кругленький Юлиус, которому было бы легче катиться по земле, чем ходить, всем телом, от головы до пят, ощущает трагизм своего положения. Он вспоминает при этом гордого афинянина, спокойно осушившего чашу с ядом в кругу учеников.[47] Он вспоминает короля Йесту, предсказавшего своему народу, что они захотят однажды вырыть его из могилы.
Под конец он поет свою лучшую песню. При этом он думает о песне умирающего лебедя. Ему хочется, чтобы они запомнили его гордую душу, которая не унизится до жалоб и стенаний, что он уходит под сладостные звуки песен.
Наконец выпит последний бокал, спета последняя песня, в последний раз он заключает в объятия каждого из друзей. Он надевает плащ и берет в руки хлыст. Кавалеры едва сдерживают слезы, и его глаза тоже заволакивает влажная пелена, он уже ничего не видит вокруг.
Тут кавалеры хватают его и принимаются качать. Гремят крики «ура». Наконец кто-то опускает его, он сам не понимает куда. Щелкнул кнут, тарантас под Юлиусом качнулся и унес его прочь. Когда Юлиус вновь обрел способность различать окружающее, он был уже далеко.
Хотя кавалеры и были искренне огорчены, печаль не могла окончательно задушить в них чувство юмора. Кто-то из них, не знаю, был ли это старый воин Бееренкройц, любитель игры в килле, или уставший от жизни кузен Кристофер, – словом, кто-то из них устроил так, что старую Кайсу не пришлось выводить из конюшни, не пришлось и выкатывать из сарая развалюху тарантас. Они впрягли большого красного с белыми пятнами вола в телегу, на которой возили сено, водрузили на нее красный сундук, зеленый бочонок, ларец с провизией и посадили патрона Юлиуса с затуманенными глазами не на ларец или сундук, а на спину пятнистого вола.
Вот видите, какие люди! Слишком слабы, чтобы принять печаль со всей ее горечью. Разумеется, кавалеры скорбели о своем друге, уехавшем умирать, об этой увядшей лилии, пораженном насмерть и спевшем предсмертную песню лебеде. И все же они немного повеселели, глядя, как он едет на спине здоровенного вола, как его грузное тело при этом сотрясается от рыданий, как он бессильно опустил руки, простертые было для последнего объятия, и возводит укоризненный взор к небесам.
Постепенно пелена, застилавшая глаза Юлиуса, начала спадать, и он заметил, что едет, покачиваясь на спине какого-то животного. Говорят, это заставило его задуматься над тем, что многое могло измениться за эти семнадцать лет. Старую Кайсу было просто не узнать. Неужто это оттого, что в Экебю ее кормили лишь овсом и клевером? И тут он вспомнил, не знаю, подслушали ли его придорожные камни или птицы в кустах, но он в самом деле воскликнул:
– Черт меня побери, Кайса, если у тебя не выросли рога!
Поразмыслив еще немного, он осторожно соскользнул со спины вола на телегу, уселся на резной ларец и, погруженный в тяжкие раздумья, поехал дальше.
Через некоторое время, подъезжая к Брубю, он услыхал задорную песенку:
Раз и два,
два и три.
Что за егеря, посмотри!
Песенка звенела ему навстречу, но пели ее вовсе не егеря, а веселые барышни из Берги и хорошенькие дочери мункерудского судьи, которые шли по дороге. На плечах они несли, как ружья, длинные палки, на которые они повесили узелки с провизией. Несмотря на летнюю жару, девушки шагали бодро, напевая в такт:
Раз, два,
два и три…
– Куда это вы отправились, патрон Юлиус? – закричали они, поравнявшись с ним, не замечая печати грусти на его лице.
– Спешу прочь от приюта греха и гордыни, – ответил Юлиус. – Не хочу более пребывать в кругу бездельников и греховодников. Еду домой к матушке.
– Ах! – воскликнули они. – Неужто это правда? Неужто патрон Юлиус и в самом деле решил покинуть Экебю?
– Да, – сказал он твердо и ударил кулаком по сундуку с платьем. – Я покидаю Экебю подобно Лоту, бежавшему из Содома и Гоморры. Теперь там не осталось ни одного праведного человека. Когда же земля разверзнется над ними и с небес на их головы обрушится дождь из кипящей серы, я стану радоваться справедливому Божьему суду. Прощайте, девушки, берегитесь Экебю!
Он хотел было ехать дальше, но не тут-то было. Девушки и не думали его отпускать, они собирались подняться на Дундерклеттен, путь до этой горы был долгий, и они решили, что не худо было бы подъехать к ней на телеге Юлиуса.
Счастлив тот, кто может радоваться солнечному свету и жизни, кому не надо прятать темя под шапкой. Не прошло и двух минут, как девушки добились своего. Патрон Юлиус повернул назад и поехал к Дундерклеттену. Покуда девушки карабкались на телегу, он сидел, улыбаясь, на погребце с провизией. По обочинам дороги росли ромашки, медуница и мышиный горошек. Вол время от времени останавливался передохнуть. Тогда девушки слезали с телеги и рвали цветы. Вскоре голову Юлиуса и рога вола украсили роскошные венки.
Дальше на пути им начали попадаться светлые молодые березки и темный ольшаник. Тут девушки наломали веток и так разукрасили ими телегу, что она стала похожа на движущуюся рощицу. Веселые игры сменяли одна другую целый день. На душе у Юлиуса с каждым часом становилось все светлей и радостней. Он поделился с ними едой и пел им песни. Когда же они добрались до вершины Дундерклеттена, перед ними открылась картина столь величественная и прекрасная, что у растроганных девушек на глазах заблестели слезы, а у Юлиуса сильно забилось сердце, из уст его полились потоком восторженные слова о любимом крае.
– Ах, Вермланд, мой прекрасный, благословенный край! Нередко, глядя на карту, я задумывался над тем, кто же ты? И вот теперь меня осенило. Ты старый святой отшельник, что сидит неподвижно, скрестив ноги и опустив руки на колени. На голове у тебя остроконечная шапка, низко надвинутая на полузакрытые глаза. Ты мыслитель и мечтатель, о, как ты красив! Бескрайние леса – твое одеяние. Его окаймляют длинные ленты синих рек и ровные гряды синих холмов. Ты так скромен и прост, что чужеземец не заметит твоей красоты. Ты беден, как и подобает отшельнику. Ты сидишь спокойно, позволяя волнам Венерна омывать твои ноги. Слева у тебя рудники и шахты – это бьется твое сердце. Глухие дебри на севере, таинственная тьма и холодная красота – это твоя голова, мечтатель.
Я гляжу на тебя, суровый великан, и на глаза мои невольно набегает слеза. Ты строг в своей красоте, ты – созерцание, нищета, самоотречение, и все же в этой строгости я вижу черты нежности и красоты. Я смотрю на тебя и преклоняюсь пред тобою. Стоит мне бросить взгляд на твои бескрайние леса, стоит мне прикоснуться к краю твоей одежды, как душа моя исцеляется. Час за часом, год за годом вглядывался я в твой священный лик. Какие тайны прячешь ты, божество самоотречения, за полуопущенными веками? Сумел ли ты разгадать тайну жизни и смерти или размышляешь над ней по-прежнему, о священный великан? Для меня ты хранитель великих возвышенных мыслей. Вот я вижу, как по тебе и вокруг тебя ползают люди, существа, не замечающие печати величия и суровости на твоем челе. Они видят в тебе одну лишь красоту и, зачарованные ею, забывают обо всем остальном.
Горе мне, горе всем нам, детям Вермланда! Мы требуем от жизни лишь только красоты, одной лишь красоты. Мы, дети нужды, печали и нищеты, воздеваем руки к небу в единой мольбе и жаждем лишь одного – красоты. Да будет жизнь подобна розовому кусту, пусть расцветает жизнь любовью, вином и наслаждением, и пусть эти розы будут доступны каждому. Вот чего мы желаем, но наша страна отмечена печатью суровости, лишений и печали. Наш край – вечный символ печальных раздумий, хотя сами мы лишены способности мыслить.
О Вермланд, мой прекрасный, благословенный край!
Он говорил вдохновенно, и голос его дрожал. Девушки слушали его, удивленные и растроганные. Они никак не ожидали, что за искрящимся весельем и шуткой может скрываться такая глубина чувств.
Вечером девушки опять уселись на телегу, они вряд ли догадывались, куда вез их патрон Юлиус, пока вол не остановился у дверей дома в Экебю.
– А теперь, девушки, – воскликнул Юлиус, – войдем в дом и потанцуем!
Что же сказали кавалеры при виде патрона Юлиуса с увядшим венком на шляпе и сидевших на телеге девушек?
– Теперь нам ясно, что девушки перехватили его, не то бы он вернулся к нам гораздо раньше.
Ведь кавалеры знали, что это семнадцатая попытка Юлиуса покинуть Экебю, на каждый год его жизни здесь приходилось по одной попытке. Но сейчас Юлиус забыл и про эту попытку, и про все предыдущие. Его совесть снова заснула до следующего года.
Патрон Юлиус был мастер на все руки. Он был легок на ногу в танце и неутомим за карточным столом. Рука его одинаково хорошо владела пером, кистью и смычком. Он был обладателем чувствительного сердца, дара красноречия и неисчерпаемого запаса песен. Но чему все бы это послужило, если у него не было бы совести, хотя она и давала о себе знать лишь раз в году, подобно стрекозе, которая высвобождается из мрака и обретает крылья, чтобы прожить всего несколько часов на дневном свету в блеске солнечных лучей?
Глава двадцать четвертая
ГЛИНЯНЫЕ СВЯТЫЕ
Церковь в Свартше белая внутри и снаружи; белы ее стены, кафедра проповедника, хоры, потолок, оконные проемы и алтарный покров – все бело. Церковь в Свартше лишена каких бы то ни было украшений, на стенах здесь нет ни росписи, ни щитов с родовыми гербами. На алтаре лишь деревянное распятие да белый льняной покров. Прежде здесь все было иначе. Потолок украшали фрески, и повсюду стояло множество ярко раскрашенных каменных и глиняных изваяний.
Давным-давно жил в Свартше один художник. Однажды, любуясь синим летним небом, он обратил внимание на легкие облака, плывущие к солнцу. Он видел, как эти легкие облака, показавшиеся утром на горизонте, поднимались, громоздясь друг на друга, все выше и выше, как эти великаны медленно вырастали и устремлялись ввысь, чтобы взять приступом небесный купол. Вот одно облако, словно корабль, расправляет паруса, другое – точно воин поднимает боевое знамя. Они стремятся захватить все небо. Подплывая к солнцу, владыке небесного пространства, эти разбухшие чудовища преображаются, принимают кроткий вид. Лев с разинутой пастью превращается в густо напудренную даму. Великан с вытянутыми руками готов задушить всех, кто попадется ему на пути, становится погруженным в мечтания сфинксом. Иные прикрывают свою ослепительную наготу отороченными золотой каймой плащами. А вон те слегка нарумянили свои белоснежные щеки. Тут и равнины, и леса, и обнесенные стенами замки с высокими башнями. Наконец белые облака завладевают всем летним небом. Они обволакивают весь синий небосвод. Они подплывают к солнцу и закрывают его.
«О, как было бы прекрасно, – думает набожный художник, – если томящиеся души людей могли бы вознестись на эти громоздящиеся друг на друга горы и плыть на них, качаясь, словно на корабле, все дальше ввысь!»
Внезапно ему пришло в голову, что белые летящие облака и есть те ладьи, на которых отлетают души праведников.
И тут он увидел их. Они стояли на этих легко скользящих громадах с лилиями в руках, увенчанные золотыми коронами. Навстречу им, паря на широких и сильных крыльях, устремлялись ангелы. О, какое множество праведных душ! И по мере того как росли и ширились облака, их становилось все больше. Они покоились на ложе из облаков, словно кувшинки на озерной глади. Они украшали его, как лилии украшают луга. О, как величественно они возносились! Облако клубилось за облаком, а в них он увидел небесную рать – сонмы ангелов в серебряных доспехах и окаймленных пурпуром мантиях.
Вскоре художник расписал потолок церкви в Свартше. Он хотел изобразить на нем возносящиеся ввысь летние облака, уносящие праведников к райским кущам. Рука, державшая кисть, была крепкой, но недостаточно гибкой, и облака у него походили скорее на кудрявые локоны кудрявых париков, чем на растущие горы белого тумана. Изобразить святых такими, какими они представлялись ему в буйной фантазии, художник не сумел и облачил, наподобие смертных, в длинные красные рубахи, жесткие епископские митры и черные сутаны со стоячими воротничками. Он наделил их большими головами и маленькими телами и снабдил носовыми платками и молитвенниками. Из уст у них вылетали латинские изречения. А для тех, кого художник считал самыми совершенными, он расставил на облаках стулья, чтобы они могли возноситься в вечность уютно сидя.
Поскольку все в округе знали, что души умерших и ангелы никогда не являлись бедному художнику, то и не слишком удивлялись тому, что они у него вышли слишком земными. И все же многие считали эту роспись прекрасной и умилялись ей. Думается, было бы достаточно и того, чтобы и мы любовались ею.
Но в тот год, когда в Экебю хозяйничали кавалеры, граф Дона велел побелить всю церковь. Тогда-то и была закрашена роспись на потолке и выброшены все глиняные святые.
Ах эти глиняные святые!
Ничто не могло бы причинить мне столь сильную печаль, как гибель этих святых. Никакая человеческая жестокость не могла бы вызвать в моей душе столь сильную горечь, как этот поступок.
Вы только подумайте! Тут был и святой Улоф в короне поверх шлема,[48] с топором в руке и коленопреклоненным великаном у ног. На кафедре проповедника стояла Юдифь в красной кофте и синей юбке, с мечом в одной руке, а в другой вместо головы ассирийского полководца она держала песочные часы. Здесь была и таинственная царица Савская в синей кофте и красной юбке с гусиной лапой вместо одной ступни, в руке она держала Книгу пророчеств. На скамье на хорах одиноко лежал седовласый святой Георгий; конь и дракон были разбиты. Здесь был и святой Христофор с зеленеющим посохом, и святой Эрик[49] в длинной, шитой золотом мантии, со скипетром и секирой в руках.
Много раз сидела я по воскресеньям в этой церкви и горевала, что в ней не осталось ни фресок, ни глиняных святых. Что из того, что у некоторых из них не хватало носа или ноги, что кое-где сошла позолота, а краски осыпались? Я бы на это не посмотрела.
Говорят, что с глиняными святыми было немало хлопот: они теряли то скипетры, то уши или руки, и их постоянно приходилось чинить и обновлять. Прихожанам это надоело, и они жаждали от них избавиться. Однако крестьяне не причинили бы им никакого вреда, если бы не граф Хенрик Дона. Это он велел убрать их.
Я ненавидела его за это, как только может ненавидеть дитя. Я ненавидела его, как голодный нищий ненавидит скупую хозяйку, отказавшуюся подать ему кусок хлеба. Я ненавидела его, как бедный рыбак ненавидит негодного мальчишку, испортившего лодку. Разве я не страдала от голода и жажды во время долгих богослужений? А он лишил меня хлеба, которым питалась моя душа. Разве я не стремилась подняться к небесам в бесконечное пространство? А он разбил мою ладью и разорвал сеть, которой я могла бы поймать святые видения.
В мире взрослых нет места для настоящей ненависти. Разве могла бы я теперь ненавидеть столь жалкое существо, как граф Дона, или безумца, как Синтрам, или поблекшую светскую даму вроде графини Мэрты? Другое дело, когда я была ребенком! Счастье их, что их давно нет в живых.
Наверно, пастор, стоявший на кафедре, проповедовал миролюбие и всепрощение, но до того места в церкви, где мы сидели, его слова не долетали. Ах, если бы старые глиняные святые стояли там по-прежнему! Они бы читали мне проповедь, и я понимала бы каждое их слово!
И я часто сидела и думала, как же могло случиться, что их вынесли из церкви и уничтожили?
Когда граф Дона объявил свой брак незаконным, вместо того чтобы отыскать жену и поправить дело, это вызвало всеобщее возмущение, ведь все знали, что его жена ушла из дома оттого, что ее там замучили чуть ли не до смерти. И видно для того, чтобы сделать доброе дело и тем самым вернуть милость Божию и уважение людей, он решил подновить церковь в Свартше. Граф велел побелить стены и замазать росписи на потолке. А изваяния он сам и его слуги погрузили в лодку и утопили их в пучине Левена.
Как посмел он поднять руку на величие Господне?
И как Господь праведный дал свершиться подобному святотатству? Разве рука, отрубившая голову Олоферну, больше не поднимала меч? Разве царица Савская забыла тайны своего искусства ранить опаснее отравленной стрелы? Святой Улоф, святой Улоф, старый викинг; святой Георгий, святой Георгий, покаравший дракона, неужто отшумела слава ваших подвигов, слава сотворивших чудо?
Видно, святые не хотели наказать варваров. Раз крестьяне из Свартше не желали больше платить за краски на их одежды и золото на их короны, они позволили графу Доне погрузить их в бездонную глубину Левена. В столь жалком виде они не хотели стоять в храме Божьем. О беспомощные глиняные святые, помните ли вы времена, когда перед вами преклоняли колени в жаркой молитве?
Я думала не раз о лодке, которая однажды летним вечером скользила по глади Левена, нагруженная глиняными святыми. Человек, сидящий на веслах, медленно гребет, бросая робкие взгляды на старинных пассажиров, лежащих на носу и на корме, но граф Дона не испытывает страха. Он берет святых одного за другим, поднимает их высоко над головой и бросает в воду. Лицо его спокойно, дыхание ровно. Он чувствует себя борцом за истинное евангельское учение. И чуда во спасение древних святых не произошло. Безгласные и покорные, спустились они в пучину забвенья.
На следующее воскресенье церковь в Свартше сияла ослепительной белизной. Ни росписи, ни изваяния не мешали более прихожанам углубиться в молитвы. Лишь внутренним взором должны созерцать они великолепие небес и лики святых. Людские молитвы должны на собственных могучих крыльях возноситься к Всевышнему. Никогда более не будут они цепляться за край одежд глиняных святых.
Зеленый наряд земли, возлюбленного жилища человека, лазурное небо, цель его устремлений. Весь мир сияет яркими красками. Отчего же стала белой церковь? Белой, как зима, голой, как нищета, бледной, как ужас! Она не искрится инеем, как зимний лес. Не сияет жемчугом и кружевами, как невеста в белоснежном подвенечном наряде. Церковь стоит холодная, побеленная известью, нет в ней ни изваяний, ни росписи.
В это воскресенье граф Дона сидит на хорах в нарядном кресле, всем прихожанам должно видеть и благодарить его. Ему должны воздавать почести, ведь он велел починить старые скамьи, уничтожить безобразные изваяния, вставить новые стекла вместо разбитых и побелить всю церковь. Ясное дело, он был волен поступить, как ему угодно. Если он хотел смягчить гнев Всемогущего, то поступил правильно, украсив святой храм по своему разумению. Но почему же тогда он ждет благодарности?
Он еще не искупил свой грех, ему бы стоять на коленях внизу на позорной скамье и просить своих братьев и сестер взывать к Богу с мольбой, чтобы он позволил ему остаться в святом храме. Ему бы впору предстать перед ними жалким грешником, а не сидеть на почетном месте на хорах в ожидании награды за то, что он пожелал примириться с Богом.
О, граф, Бог без сомнения ожидал увидеть тебя на позорной скамье. Он не позволит тебе глумиться над собой лишь потому, что люди не посмели осудить тебя. Господь справедлив, он заставит говорить камни, если молчат люди.
Когда богослужение окончилось и был пропет последний псалом, никто не покинул церковь; пастор поднялся на кафедру, чтобы сказать графу благодарное слово. Однако до этого дело не дошло.
Внезапно двери распахнулись, и в церковь вошли покрытые зеленой тиной, измазанные коричневым илом древние святые, с которых капала вода Левена. Видно, они почувствовали, что здесь будут воздавать хвалу человеку, который надругался над ними, изгнал их из храма Божьего и сбросил на погибель в холодные волны Левена. Древние святые вернулись, чтобы сказать свое слово.
Им не по душе монотонный плеск волн. Они привыкли к псалмопению и молитвам. До сих пор они безмолвствовали и не роптали, думая, что все творится во славу Божию. Да, видно, ошиблись они. Здесь на хорах в почете и славе сидит граф Дона, он желает, чтобы ему в Божьем храме поклонялись и воздавали хвалу. Такого они не потерпят. И посему они поднялись из своей мокрой могилы и вошли в церковь, где прихожане сразу узнали их. Вот идет святой Улоф с короной на шлеме и святой Эрик в шитой золотом мантии, а вот святой Георгий и святой Христофор, и больше никого. Царица Савская и Юдифь не возвратились.
Когда люди пришли в себя от изумления, по церкви пролетел шепот:
– Это кавалеры!
И в самом деле, это были кавалеры. Они пошли прямиком к графу, не говоря ни слова, подняли его на плечи вместе с креслом, вынесли из церкви и поставили на склоне церковного холма.
Они ничего не говорили, не смотрели ни вправо, ни влево. Они просто-напросто вынесли графа Дону из Божьего храма, а после направились кратчайшим путем к озеру. Никто не пытался помешать им, а они не стали тратить времени на объяснения. Все было ясно без слов: «Мы, кавалеры из Экебю, решили, что граф Дона не достоин того, чтобы его восхваляли в Божьем храме. И потому мы выносим его отсюда. Если кто пожелает втащить его обратно, пусть тащит».
Но назад его никто не потащил. Пастор так и не произнес хвалебного слова. Народ повалил из церкви. Каждый думал, что кавалеры поступили по справедливости.
Все вспоминали, как жестоко мучили в Борге светловолосую молодую графиню. Вспоминали, как добра она была к бедным, как красива она была – смотреть на нее и то было утешением.
Ясное дело, грешно дебоширить в церкви, однако пастор и прихожане понимали, что сами чуть было не сыграли со Всемогущим еще более злую шутку. И они стояли, посрамленные, перед неуемными старыми безумцами.
– Когда люди молчат, говорят камни, – сказали они.
После этого дня графу Хенрику стало в Борге неуютно. Темной ночью в начале августа к парадной лестнице была подана крытая карета. Ее окружили слуги, и из дома вышла графиня Мэрта, закутанная в шаль, с густой вуалью на лице. Хотя граф Хенрик вел ее под руку, она дрожала от страха. С большим трудом удалось уговорить ее пройти через переднюю и веранду и выйти из дома.
Она села в карету, за ней последовал граф Хенрик, дверца кареты захлопнулась, и кучер вовсю погнал лошадей. Когда на другое утро сороки проснулись, графиня была уже далеко.
Граф поселился где-то далеко на юге. Борг продали, и он с тех пор много раз переходил из рук в руки. Всем нравилась эта усадьба. Однако счастливы здесь были немногие.