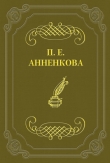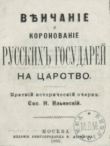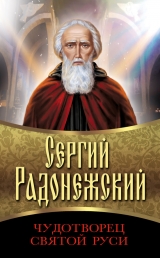
Текст книги "Преподобный Сергий Радонежский. Полное жизнеописание"
Автор книги: Сборник Сборник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Дальнейшая история монастыря может быть разделена на два отдела: история его зданий; история имевших место в нем замечательных происшествий и совершенных его монахами, собственно, настоятелями, замечательных деяний.
История зданийМежду зданиями мы укажем: в отношении к церквам – постепенное их умножение, а в отношении к прочим зданиям – замену деревянного строения каменным.
После каменной церкви Святой Троицы, построенной преподобным Никоном над мощами Преподобного Сергия, все последующие церкви монастыря были каменные (собственно – кирпичные, тогда как церковь Святой Троицы именно каменная, из каменных тесанных кубов). Порядок постепенного их строения есть следующий.
Преподобный Никон, приступив к строению над мощами Преподобного Сергия каменной церкви, перенес бывшую над ними деревянную церковь на другое место, сажен на 15 к востоку от прежнего места (где теперь Духовская церковь). В 1476 г. деревянная церковь, посвященная так же Святой Троице, как и на прежнем месте, заменена была каменной, так что в монастыре стало две каменные церкви во имя Святой Троицы.
В 1512 г. поставлены были в монастырской стене каменные святые ворота и на них церковь во имя Преподобного Сергия (с сохранением при ней, как сказали мы выше, и деревянной церкви святого Димитрия Солунского).
В 1548 г. была поставлена каменная церковь над гробом преподобного Никона, который причислен был к лику святых (канонизован) на соборе предшествующего 1547 г.
В 1553 г. на месте второй Троицкой церкви, складенной в 1476 г. и, вероятно, пришедшей в ветхость (а, может быть, и совсем упавшей), складена была новая церковь, по-прежнему посвященная Святой Троице.
В последние годы правления Ивана Васильевича Грозного († 18 марта 1584 г.), неизвестно, когда именно, начат строением Успенский собор, оконченный в 1585 г. и освященный 15 августа того же года.
В 1621 г. была поставлена у трапезы, находившейся на месте нынешней колокольни (была прикладена к ней) церковь преподобного Михаила Малеина.

Вид монастыря на старинном рисунке
В 1623 г. вместо прежней церкви преподобного Никона складена новая, более обширная.
В 1635 г. складена больничная церковь Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия.
В продолжение 1687–1692 гг. была построена новая трапеза с церковью при ней Преподобного Сергия, после чего прежняя трапеза и прежняя церковь, пришедшие в ветхость, были разобраны.
Между 1692 и 1693 гг. была перестроена надворотная церковь, причем посвящена была уже не Преподобному Сергию (имени которого была посвящена новая трапезная церковь), а Иоанну Предтече.
В 1734 г. была построена церковь над гробом преподобного Михея, бывшего келейником Преподобного Сергия и удостоившегося присутствовать при посещении Сергия Божией Матерью.
В 1753 г. построена церковь Смоленской Божией Матери.
Не отдельно построены, а устроены в существовавших зданиях: в 1758 г. в архимандричьих кельях в честь Казанской Божией Матери, в 1853 г. в корпусе странноприимной больницы (Варваринском) в честь святых великомучениц Варвары и Анастасии и в 1875 г. в наместничьих кельях в честь Покрова Божией Матери.
К церквам принадлежит колокольня. После одной или нескольких деревянных колоколен известная нам с начала XVII в. (с осады лавры поляками) колокольня монастыря уже каменная, предшествующая нынешней, находилась у западной стены второй церкви Святой Троицы или нынешней Духовской. Когда она была построена, остается неизвестным, но, по всей вероятности, одновременно с церковью, т. е. в 1553 г.
Нынешняя колокольня начата строением в 1741 г. и окончена в 1756 г., а потом надстроена после 1767 г.
Нынешние стены монастыря строены в продолжение 10 лет – с 1540 по 1550 г.
Что касается до келий монастыря, то одновременно с тем, как превращать их из деревянных в каменные, произведена была в отношении к ним та перемена, что восточная линия их, стоявшая слишком близко к церквам, отодвинута была к монастырской стене. В Кратком летописце монастыря читаем под 1556 г.: «Того же лета у Живоначальной Троицы монастырь раздвигали и кельи (должно разуметь именно восточную линию келей, потому что линия северная, которую также можно было бы отодвинуть к стене, была уничтожена или при этом, или несколько ранее этого) разносили к конюшням; а от старого места отнесли кельи до нового места 40 сажен, где нынеча стоят».
Западная линия келий начала превращаться из деревянной в каменную с 1552 г., в котором были поставлены в этой линии каменные больница и келарская. Южная и восточная линии келей выстроены были каменные в 1640 г. К 1641 г., в котором по приказанию государя составлена была подробная опись монастыря, сохранившаяся до настоящего времени, все кельи в нем были каменные (хотя при этом еще уцелел некоторый остаток и келий деревянных).
Внешний вид нынешних келий, нисколько не говорящий о XVII в., и на самом деле – не от этого века, а от гораздо позднейшего времени, о чем ниже, в особой главе о кельях.
Каменная трапеза была поставлена неизвестно когда, до 1621 г.
Каменный царский дворец на место деревянного был построен в конце царствования Петра Великого, между 1718–1721 гг.
(В 1892 г. по линии ограды Пафнутиевского сада устроен странноприимный дом. В 1893–1895 гг. устроены с западной стороны лавры в Пафнутьевом саду: корпус «больницы – богадельни» с церковью пр. Иоанна Лествичника вверху и свв. великомучениц Варвары, Анастасии и Акилины внизу и длинный «переходный» корпус, перекинутый через речку Кончуру и соединяющий здание больницы – богадельни с лаврой).
История происшествий и деянийВ 1442 г. Троицкий игумен Зиновий примирил в своем монастыре великого князя Василия Васильевича с его двоюродным братом Дмитрием Юрьевичем Шемякой, заставив их поцеловать друг к другу крест у гроба Преподобного Сергия.
В 1446 г. (13 февраля) великий князь Василий Васильевич был захвачен в Троицком монастыре по поручению Шемяки Можайским князем Иваном Андреевичем, после чего был Шемякой ослеплен.
Между 1445 и 1446 гг. Троицкий монастырь, власти которого имели неудовольствие на местного Радонежского князя, каковым был Боровский князь Василий Ярославич, взят был великим князем у последнего в свое непосредственное владение.
В 1479 г. (4 апреля) крещен был в монастыре у Троицы сын великого князя Ивана Васильевича Василий, будущий его преемник, чудесно дарованный родителям Преподобным Сергием.
В 1510 г. великий князь Василий Иванович, возвратившись в Москву после взятия Пскова, что было 20 января того же года, 16 июня приходил к Троице, «да поставил свещу негасимую у Сергиева гроба».
Выше мы сказали о поставлении у Троицы в 1512 г. каменных ворот и на воротах церкви Преподобного Сергия. Это поставление ворот и над ними церкви должно быть также относимо к числу событий в истории монастыря. Здание заложено было совсем в необычное для каменных работ время, 3 октября, и, вероятно, дело должно быть понимаемо так, что ворота с церковью на них Преподобного Сергия были обетным делом со стороны великого князя Василия Ивановича, которому предстояла война с литовцами и который отправился в поход на эту войну 19 декабря (и который в следующем году присутствовал при освящении надворотной церкви).
В 1530 г. (4 сентября) крещен был в Троицком монастыре сын великого князя Василия Ивановича Иван, будущий царь Иван Васильевич Грозный.
В 1551 г., по ходатайству игумена Артемия, переведен был к Троице из Тверского Отрочаго монастыря преподобный Максим Грек, который и скончался здесь в 1556 г.

Благословение Преподобным Сергием Дмитрия Донского
В 1552 г. царь Иван Васильевич держал свой обратный путь в Москву из-под взятой Казани на Троицкий монастырь, в котором, после усердной благодарственной молитвы Святой Троице и Преподобному Сергию, «игумену и братье великие слова с челобитьем говорил за их труды и подвиги, (что) их молитвами (он) государь благая получил».
В 1564 г., в ночь с чудотворцовой памяти, т. е. с 25 сентября на 26, случился в монастыре большой пожар, причем до такой степени погорели всякие запасы на обиход монастырский, что не досталось братиям ни на один день запаса снедного.
В 1586 г. (8 июля) посетил монастырь Антиохийский патриарх Иоаким (первый из греческих патриархов приезжавший в Россию).
В 1583 г. посетил монастырь (пробыв в нем с 5 по 10 февраля) Константинопольский патриарх Иеремия.
В 1594 г. царем Федором Ивановичем было вызвано в Троицкий монастырь несколько старцев Соловецкого монастыря для улучшения, как нужно думать, в Троицком монастыре порядков жизни и ведения хозяйства.
В 1606 г. Троицкий монастырь принимал в своих стенах мощи царевича Димитрия, когда они переносимы были из Углича в Москву (в которую перенесены были 3 июня).
В том же 1606 г. перенесены были в монастырь из Москвы и погребены в паперти Успенского собора тела Бориса Феодоровича Годунова, его супруги Марии Григорьевны и его сына Феодора.
С 23 сентября 1608 г. по 12 января 1610 г. монастырь выдерживал знаменитую осаду от поляков.
После освобождения от осады монастырь в лице архимандрита Дионисия и, отчасти, келаря Аврамия Палицына принимал деятельное и доблестное участие в освобождении от поляков отечества и оказывал свою усердную помощь разоренным и избитым поляками жителям Москвы и ее окрестностей.
В 1612 г. князь Дмитрий Михайлович Пожарский и Кузьма Минин, шедшие на освобождение Москвы от поляков, пробыли с своим ополчением в Троицком монастыре пять дней (с 14 по 18 августа).
В 1613 г., в конце апреля месяца, Михаил Феодорович, идя из Костромы в Москву для занятия царского престола, пробыл в монастыре около недели.
В продолжение 1616–1618 гг. архимандрит Дионисий по поручению государя занимался с товарищами исправлением требника и других богослужебных книг, за что, по устроенной против него интриге, вместо благодарности подвергся страданиям.
В ноябре 1618 г. монастырь подвергался опасности новой осады от королевича Владислава, а 1 декабря того же года был заключен мир между Россией и Польшей в принадлежавшем монастырю и находящемся от него в трех верстах селе (тогда еще бывшем деревней) Деулине.
В 1613 г. (в июле – августе месяце) посетил монастырь Иерусалимский патриарх Феофан.

На монастырской стене во время осады
В 1641 г., вследствие доноса некоторых монахов монастыря или его слуг (о которых несколько ниже) на монастырские власти, государь приказал произвести обстоятельный досмотр монастыря и его имущества назначенной им комиссии из окольничего, дворянина и двух дьяков, каковой досмотр, был начат 1 сентября и продолжался около трех лет. Составленная комиссией подробная опись монастыря и его имущества, представляющая собой листовую рукопись в 882 листа, до сих пор хранится в лаврской ризнице.
В 1643 г. (по весне) посетил монастырь Иерусалимский патриарх Паисий.
В 1652 г. (4 июля) Троицкий монастырь принимал в своих стенах мощи св. митрополита Филиппа, везенные Никоном из Соловков в Москву.
В 1653 г. (в июне месяце) посетил монастырь Константинопольский патриарх Афанасий Пателарий (по месту кончины – Афанасий Лубенский).
В 1655 г. посетили монастырь Антиохийский патриарх Макарий (после Троицына дня) и Сербский патриарх Гавриил (вместе с Макарием или вслед за ним).
В 1668 г. (во второй половине апреля месяца) посетили монастырь Александрийский патриарх Паисий и (вторично) Антиохийский патриарх Макарий.
В 1689 г., ночью с 7 на 8 августа, царь Петр Алексеевич ускакал к Троице из села Преображенского от злоумышления на его жизнь царевны Софьи и стрельцов и оставался в лавре до 6 октября, пока не были казнены виновные и Софья не была заключена в монастырь.
1 октября 1742 г. была открыта в лавре семинария (учрежденная вследствие указа императрицы Анны Иоанновны от 21 сентября 1738 г.).
В 1746 г., 17 мая, случился в лавре очень большой пожар, в котором погибла весьма значительная часть монастырского архива.
В 1812 г., во время занятия Москвы французами (со 2 сентября по 11 октября), лавра подвергалась опасности быть разграбленной от неприятелей, но заступлением Преподобного Сергия избежала этой опасности. Отряду войска, стоявшему в Дмитрове, который находится от монастыря в 40 верстах, был отдан приказ идти на лавру. Но приказ состоялся перед выступлением Наполеона из Москвы (который вышел с гвардией 6 октября), и отряд вместо того, чтобы идти на лавру, поспешил (2 октября) в столицу на соединение с главной армией.
В 1814 г. была переведена из Москвы в лавру академия, которая и была открыта в ней 1 октября того же года, заменив собой бывшую в ней семинарию.

Вид на лавру с северной стороны. Из Альбома 1745 г.
Преподобный Сергий, прославившийся при жизни, как великий, небывалый дотоле на Москве, подвижник и как преобразователь нашего монашества, по смерти своей стал славнейшим святым Московской земли и нарочитым молитвенником и покровителем (патроном) государства и государей. Равно и монастырь Преподобного Сергия, став первым монастырем Московской Руси еще при его жизни, навсегда остался таковым и после его смерти, и не только остался таковым, но и выдвинулся из ряда прочих монастырей, как монастырь совсем особенный и единственный и как представлявший из себя знаменитость совершенно исключительную. Как о монастыре Московии исключительном и особенном, говорят о нем многие иностранцы, начиная с барона Герберштейна (бывшего в России два раза – в 1517 г. и вторично в 1526 г.).
Но еще при жизни Преподобного Сергия став первым монастырем русским в общем или общественном мнении людей (народа), Троицкий монастырь довольно долгое время не был таковым в смысле официальном (в смысле формального признания со стороны правительства). До 1561 г. его настоятели оставались игуменами, пока вследствие просьбы келаря и братии монастыря к царю Ивану Васильевичу прославить царскую обитель, которая есть его царской главы слава и венец, и царствию его красота и слава от востока и до запада, государь сделал игумена Троицкого монастыря архимандритом, почтил его первенством и старейшинством между всеми архимандритами (до тех пор первенство принадлежало архимандриту Владимирского Рождественского монастыря) и предоставил ему значительные преимущества, или отличия, в богослужении. Последние преимущества со времени Грозного были постепенно умножаемы и вся история их есть следующая. Первому архимандриту предоставлено было употреблять в богослужении митру, палицу и рипиды; облачаться перед литургией на середине церкви; по входе в алтарь с Евангелием, во время пения: «Святый Боже», осенять предстоящих благословением; принимать Святые Дары в царских вратах; приобщать Святых Таин старейшего священника и разоблачаться также среди церкви. Патриарх Иоасаф II, поставленный 10 февраля 1667 г. из архимандритов Троицких, благословил своего преемника носить мантию со скрижалями и в деснице носить патерицу или жезл деревянный с позолоченными шипками (яблоками). Патриарх Иоаким в 1675 г. предоставил архимандритам лавры осенять дикирием и трикирием. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Рязанский Стефан Яворский усвоил им в 1701 г. по подобию архимандритов Киево-Печерских ношение на мантии изображений преподобных Сергия и Никона, крест среброкованный на рясе и на фелони и среброкованную патерицу. Указом Синода от 1731 г., состоявшимся по повелению императрицы Анны Иоанновны, предписано Троицкому архимандриту «в священнослужении все то употреблять и поступать, как определено Киево-Печерскому архимандриту».
Троицкий Сергиев монастырь вместе с немногими другими монастырями называется не монастырем, а лаврой, что составляет почетное наименование.
Слово лавра есть греческое и значит улицу, слободу, квартал, приход (а потом имеет и еще несколько частных значений). Первоначально у греков назывались лаврами такие монастыри, в которых каждый монах жил в своей особой келье, отделенной от других келий некоторым пространством, и жил как бы затворником и отшельником (анахоретом, каково было собственное название таких монахов и что по-русски значит «отшельник»), в совершенном разобщении с другими братьями монастыря, с которыми сходился только в субботы и в воскресения для слушания богослужения и для приобщения тела и крови Христовых; состояв из того или другого количества отдельных келий, монастыри эти представляли из себя как бы слободы или слободки, а отсюда и название их лаврами. Но потом стали называть у греков лаврами, как и в настоящее время называют, всякие большие и многолюдные монастыри. У нас, в России, название лавра с древнего времени употреблялось в смысле монастыря большого, знатного, богатого и значило то же, что именитый, преименитый (словущий, пресловущий) монастырь (а по злоупотреблению – о монастырях особножитных, которые, имея сходство с лаврами по внешнему устройству, не имели ничего общего с ними по существу). В старое время были величаемы у нас лаврами и сами себя так величали очень многие монастыри, а в виде комплимента или любезности можно было употребить это название и о всяком мало-мальски порядочном монастыре. В сейчас указанном смысле Троицкий монастырь называем и величаем был лаврой с самого древнего времени, именно так называет и величает его уже жизнеописатель Преподобного Сергия монах Епифаний, составивший его житие в непродолжительном времени после его кончины. Но в позднейшее время названию «лавра» было усвоено официальное значение, и оно предоставлено было, как особое отличие, только некоторым, весьма немногим монастырям (в настоящее время таких монастырей всего четыре: Киево-Печерская лавра, Троицкая Сергиева лавра, Александро-Невская лавра и Почаевская лавра). Когда было усвоено названию «лавра» официальное значение, сказать не можем; но думаем, что с конца XVII в., с царской и патриаршей грамот Киево-Печерскому монастырю от апреля и мая 1688 г., которыми монастырь делается патриаршей ставропигией и в которых он официально называется лаврой. Троицкому Сергиеву монастырю официальным образом усвоено название лавры указом Елизаветы Петровны от 8 июня 1744 г.
Едва ли кто не слыхал, что в старое время Троицкий Сергиев монастырь был необыкновенно богат. И действительно, он был столько же необыкновенно и исключительно богат, сколько необыкновенной и исключительной пользовался славой.
Богатство монастырей в старое время составляли вотчины, населенные крестьянами, собственное хлебопашество с содержанием коровьих стад и конских табунов, рыбные ловли и соляные варницы. Сам Преподобный Сергий, как с вероятностью надлежит думать, еще не имел населенных крестьянами вотчин, а имел только вокруг монастыря свои пахотные поля или свое под монастырем хлебопашество. Но со времени его преемника преподобного Никона монастырь усердно начал приобретать вотчины посредством покупки и начал усердно обогащаться ими посредством вкладов. Мы не знаем, которым способом монастырь более приобретал вотчин, но в сущности тут один способ, ибо и так называемые «свои монастырские» деньги были вкладные деньги. Русские люди, имея великую веру в молитвы за них Преподобного Сергия, были исполнены великого усердия к его монастырю, – и кто жертвовал вотчинами, кто деньгами, а монастырь, который желал приобретения вотчин, спешил и деньги обращать в те же вотчины посредством покупки последних. Не можем мы представить истории постепенного приобретения монастырем вотчин, но то несомненно, что в продолжение всего времени, пока монастыри сохраняли право вотчиновладения, их умножение шло непрерывно, без каких-либо остановок. Все излишние деньги шли на приобретение вотчин, и так как излишек денег отчасти вкладных, отчасти с вотчин уже приобретенных, был велик, то и случилось, что через получение вкладов и через покупку было приобретено монастырем громадное количество вотчин. К 1764 г., в котором отобраны были у монастырей вотчины, Троицкий монастырь вместе с приписанными к нему, или приписными, монастырями имел крестьян 106 500 душ. По отношению к другим монастырям это было совершенное исключение: самый богатый крестьянами монастырь после Троицкого – Александроневский – имел их 25 тысяч; затем, из старых монастырей два имели более 20 тысяч н семь более 10 тысяч душ. Конечно, и малые указанные цифры очень порядочные, но между 100 и 20 тысячами промежуток очень большой.
О собственном хлебопашестве монастыря мы не имеем достаточных сведений; но то несомненно, что оно было очень значительно и что после самого государя едва ли был другой хозяин, который равнялся бы в сем отношении с монастырем. В 1641 г., как это видно из описи, в одних только полях, находившихся под самым монастырем, было высеяно ржи 345 четвертей. Сел или ферм с запашками было у монастыря в разных местах более 10.

Вид Троице-Сергиевой лавры в 1909 г.
Но монастыри в отношении к способам приобретения богатства были не только вотчинниками, а соединяли в себе все виды людей приобретавших богатство, вместе с промышленниками и купцами; и что касается Троицкого монастыря, то как в первом, так и во втором отношении он выдавался из ряда других монастырей. Начиная со времени самого Преподобного Сергия ему пожертвовано было и им приобретено было много соляных варниц и, начиная со времени преподобного Никона, ему надавано было много рыбных ловель. Излишки соли, получавшейся с варниц, и излишки рыбы, получавшейся на ловлях, подобно тому как и излишки хлеба, монастырь продавал, причем пользовался привилегией свободы от всяких пошлин. Вместе с этим ему предоставлено было право беспошлинной торговли и значительным количеством купленных соли и рыбы. Производя торговлю, подобно другим монастырям, Троицкий монастырь вел ее в таких обширных размерах, что посылал свои суда даже за море, т. е. из Архангельска в Норвегию.
Чтобы читатель имел некоторое представление о богатстве и хозяйстве или о богатом хозяйстве Троицкого монастыря, сообщим ему, что найдено было в монастыре царской комиссией, которой поручено было произвести его опись в 1641 г. Денег в казне обнаружено 13 861 руб., что на наши теперешние деньги будет более 220 000 рублей, и кроме того весьма большая сумма была в раздаче по долгам (преимущественно своим крестьянам, но отчасти и всяким сторонним людям). Хлеба в монастырских житницах, находившихся в монастыре, было 19 044 четверти и кроме того весьма значительное количество в раздаче по долгам и в сельских монастырских житницах. Рыбных запасов в погребах и на сушилах было: астраханской рыбы – 4040 калуг (слово, в настоящее время не употребительное в рыбной торговле и означающее какой-то особый вид осетра или белуги), 1675 осетров, 1500 полурыбников белужьих и осетрьих, 190 косяков белужьих, 86 теш белужьих; беломорской рыбы: 1865 семог осенней ловли, 3326 семог весенней ловли, и потом еще: 1935 щук вялых, 1245 лещей вялых, причем нам остается неизвестным, какую часть годовых запасов представляло все сейчас перечисленное. На погребах и ледниках разного рода пив и разного рода медов – 51 бочка, причем опять остается неизвестным, какой частью годовых запасов это было. Меду-сырцу для приготовления медов – питий было 3358 пудов. На конюшенном дворе ездовых лошадей – 431 голова (иноходцев, жеребцов, санников, коней, меринов, жеребчиков). На коровьем дворе под монастырем было рогатого скота 53 головы и на коровьих дворах по селам более 500 голов. На воловом (рабочем) дворе под монастырем – рабочих лошадей 285 голов и по селам, где были запашни, или по фермам, 284 головы.
Известно, что государи наши, после того, как сосредоточены были в монастырях большие богатства, начали обращаться к позаимствованию у них денег для нужд государственных и своих личных, с тем, чтобы отдавать им долги, как выражается Коллинс (англичанин, живший некоторое время в России при Алексее Михайловиче) ad caiendas Graecas, т. е. никогда. Самый богатый монастырь, каким был Троицкий, конечно, должен был стать и самым крупным заимодавцем государей. По свидетельству Палицына, первым из государей взял денег у Троицкого монастыря Борис Федорович Годунов. «Борис Федорович Годунов, – пишет Палицын, – и той (как предшествующие государи) велию веру стяжа в дому Пресвятые Троицы; и не вем, что бысть ему (однако, не знаю, от чего, что случилось с ним), той первие взя из казны чудотворца Сергия взаймы на ратных людей 15 400 рублев». После Годунова самозванец (подразумевается – первый, ибо его только признавал Троицкий монастырь) взял у монастыря 30 000 рублей. Василий Иванович Шуйский взял 20 255 рублей. При вступлении на царский престол Михаила Федоровича казна государственная была совершенно пуста, а между тем деньги были крайне необходимы для ратных людей. Но на этот раз Троицкий монастырь не мог оказать государству помощи, ибо от осадного сидения и от разорения вотчин войсками самозванца и поляками и у него самого вовсе не было денег (на этот раз Троицкий монастырь заменили именитые люди Строгановы). Ко второй половине правления Михаила Федоровича (1613–1645) Троицкий монастырь совершенно оправился, а поэтому весьма вероятно предполагать, что война с Польшей 1632–1634 гг. не обошлась без денежной помощи со стороны монастыря, хотя положительных сведений об этом мы и не имеем. Царь Алексей Михайлович, по свидетельству Коллинса, в случае нужды в деньгах на военные надобности брал их у монастырей, а под монастырями, конечно, должно разуметь первым Троицкий монастырь. Прямо о Троицком монастыре говорит известный Павел Алеппский, спутник Антиохийского патриарха Макария, что в польскую войну он пожертвовал государю, кроме запасов натурой, очень значительную сумму денег. Что касается последующего времени, то в царствование Федора Алексеевича, в 1680 г., взята была 1000 рублей, а в продолжение царствования Петра Великого взято было до 350 000, или до 400 000 рублей. За остальное время до 1764 г., когда отобраны были у монастырей вотчины, не имеем сведений; но со всей вероятностью должно предполагать, что заимствования продолжались или что, по крайней мере, не обходилось без них.
Лишившись в 1764 г. своих огромных вотчин, лавра со своим кормителем Преподобным Сергием не оскудела и после, и в Отечественную войну 1812 г. она пожертвовала на военные нужды 70 000 рублей ассигнациями, 2500 рублей серебром и более 5 пудов серебра в слитках и в посуде. А менее крупные пожертвования она делала и в другие войны Новейшего времени.
Со времени Преподобного Сергия и до 1561 г. управление Троицкого монастыря состояло из игумена, келаря и казначея, а с 1561 г., когда игумен был возведен в сан архимандрита, стало состоять из архимандрита, келаря и казначея. В 1733 г. дан был архимандриту монастыря наместник, а в предшествующем 1738 г. предписано было императрицей Анной Иоанновной ввести в монастыре, по примеру Киево-Печерской лавры, управление соборное, через придачу архимандриту с наместником, келарем и казначеем известного количества соборных монахов. В 1744 г. архимандрит лавры Арсений Могилянский был произведен в архиепископы Переяславские и одновременно оставлен архимандритом лавры, каковым и оставался до отказа своего от кафедры архиепископской – до 1752 г. В 1764 г. была уничтожена должность келаря и заменена должностью эконома. В 1777 г. архимандрит лавры Платон Левшин, быв посвящен в архиепископы Тверские, оставлен был подобно Арсению архимандритом лавры. Переведенный в 1775 г. в архиепископы Московские, он сохранил звание архимандрита лавры, и с тех пор и до настоящего времени архимандритами лавры состоят митрополиты Московские.

Келейная икона Богоматери, принадлежащая Преподобному Сергию и хранящаяся при его св. мощах
Игумен или архимандрит монастыря был главным начальником последнего во всех отношениях, но собственным и нарочитым делом его было надзирать над духовной жизнью братии монастыря и руководить их в этой жизни (так это по уставам монашеским). Келарь заведовал вне монастыря: принадлежавшими монастырю вотчинами (был и судьей монастырских крестьян), запашками, заводами (конскими и скотскими) и промыслами; а в самом монастыре заведовал, во-первых, столом братии и всех тех, кто получал стол из монастыря (служебники, работники, состоявшие при монастыре стрельцы); во-вторых, приемом и угощением приезжавших в монастырь знатных и вообще почетных богомольцев. В старое время у нас было принято, чтобы приезжавшие в монастыри почетные богомольцы были угощаемы (честимы) в монастырях, для каковой цели существовали в них особые гостиные палаты. Обязанность угощать лежала на келарях, так как в их заведывании находились служившие для угощения съестные припасы и пития. Казначей (название татарское от «хазна», которое у нас переделано было в «казна» и которое значит сокровище, имение, деньги, усвоенное в период монгольский тому монастырскому чиновнику, который прежде имел греческое название эконома и который в период домонгольский был выше келаря, первым по игумене) заведовал приходом и расходом денег, всеми монастырскими зданиями, одеянием братии монастыря, всей так называемой монастырской рухлядью и отчасти припасами для стола, причем разграничение области заведывания с келарем не совсем для нас ясно. Должность келаря была уничтожена вместе с отобранием у монастырей вотчин, как чиновника, который заведовал главным образом этими вотчинами. Сменивший его эконом (имя которого, как мы сказали, было домонгольским греческим именем казначея) не занял его – келаря – места, но стал под казначеем, так что первым по наместнике архимандрита стал этот последний.
Вместе с поименованными чинами в собственном смысле были еще чиновники в несобственном смысле, или как бы заведующие частями; таковы были церковные чиновники: уставщик (по-гречески екклесиарх, – начальник церкви) и головщик (по-гречески доместик), и потом ризничий и книгохранитель, или библиотекарь.
Собственные монастырские чины имели у себя подручников, которых в особенности много было у келаря, ибо все частные чиновники по заведыванию обширным хозяйством монастыря были его подручниками или находились в его заведывании.
Второстепенные чины Троицкого монастыря, так же как и других монастырей, состояли не из одних только монахов, но и из людей светских: этими светскими чиновниками были так называемые монастырские слуги. Слуги не были работниками или чернорабочими, как можно было бы подумать по имени, а именно чиновниками (работники же или чернорабочие назывались служебниками); они соответствовали дворянам и детям боярским государей и были совершенно то же, что дворяне и дети боярские у архиереев. Слуги эти явились у монастырей, с одной стороны, для всякого приказничества по торговле, промыслам (рыболовство, солеварение), землеустройству (распахивание и заселение крестьянами пустошей) и земледелию (заведение ферм с хлебопашеством и ведение хлебопашества на фермах), хождению по судам и пр., где неудобно было ведать дела одним монахам без мирских подручников, а с другой стороны – для отбывания при их посредстве с монастырских вотчин военной службы государству, к чему они (монастыри) обязаны были наравне и в одинаковой мере со всеми мирскими вотчинниками и помещиками. Но слуг нужно было содержать, и вот, ввиду их содержания или кормления, монастыри и сделали их своими чиновниками в собственном или теснейшем смысле слова, именно – начали посылать их в приказы на вотчины, т. е. употреблять их как вотчинных надзирателей, управителей. А нарочитое предписание Стоглавого собора, чтобы чернецов в посельские не посылать, а посылать по селам и в посельские слуг добрых – должно было сделать для слуг вотчинное приказничество как бы прямой и нарочитой их службой. Само собой понятно, что чем более было у монастыря вотчин, тем более было у него и слуг; а Троицкий монастырь обладал исключительно большим количеством вотчин. Кроме приказничества и отбывания военной службы государству слуги еще нужны были в монастырях для письмоводства, и так как в Троицком монастыре по причине чрезвычайной обширности его хозяйства письмоводство было огромное, то и слуг для письменной части, в качестве заведующих ею и в качестве на самом деле ведущих ее, требовалось очень большое количество (в 1752 г. их было 96 человек). Слуги разделялись в монастырях на три класса, именно – конных слуг, подразделявшихся на три статьи: большую, среднюю и меньшую, которые имели боевых коней и все конное снаряжение, чтобы нести военную службу государеву, и были, таким образом, слугами добрыми или справными, посылались в вотчины на приказы или в их приказчики, управители (в 1752 г. слуг, сидевших на вотчинных приказах, не считая управлявших вотчинами приписных монастырей, было до 65) и в самом монастыре занимали места «приказных», заведовавших его канцеляриями и конторами (в 1752 г., по числу канцелярий и контор, их было 8) и «канцеляристов», т. е. по старому словоупотреблению – повытчиков или столоначальников, заведовавших в канцеляриях и конторах повытьями или столами (в 1752 г. их было 18); подьячих или писцов, канцелярских чиновников (в 1752 г. их было 61), и пеших служек, которые употреблялись для выполнения разных поручений и для разных посылок или были, так сказать, на побегушках. Для хождения в Москве по приказам или по судам и потом в Петербурге по коллегиям у Троицкого монастыря, как и у других больших монастырей, жил в Москве, а потом в Петербурге, выбиравшийся из слуг постоянный стряпчий.