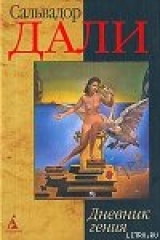
Текст книги "Дневник гения"
Автор книги: Сальвадор Дали
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Ноябрь
Порт Льигат, 1 ноября
Когда умирает кто-то весьма или не слишком важный, у меня возникает чувство сильное и страшное и вместе с тем утешительное, что этот некто становится стопроцентно далиниевским персонажем.
Сальвадор Дали
Этот день был уготован для мыслей о смерти и о себе. Для размышлений о смерти Федерико Гарсия Лорки, которого застрелили в Гранаде, о самоубийстве Рене Кревеля в Париже, о Жане-Мишеле Франке в Нью-Йорке. О смерти сюрреализма. О князе Мдивани, гильотинированным собственным «роллс-ройсом». О кончине княгини Мдивани и Зигмунда Фрейда, эмигрировавшего в Англию. О двойном самоубийстве Стефана Цвейга и его жены.
О смерти принцессы Фосиньи-Люсинь. О смертях Христиана Берара и Луи Жувэ. Об уходе Гертруды Стайн и Хосе-Мария Серта. О смерти Миссии Серт и леди Мендель. Робера Десноса и Антонины Арто. О кончине экзистенциализма. О смерти моего отца. Смерти Поля Элюара.
Я точно знаю, что мне свойственны качества аналитика и психолога более значительные, чем у Марселя Пруста. Не только потому, что ему незнакомы многие методы психоанализа, которыми я пользуюсь, но главным образом из-за склада моего типично параноидного ума, моей предрасположенности к такого рода занятиям, тогда как характер ума Пруста – невротико-депрессивный и оттого менее пригодный для подобных исследований. Это легко понять по тоскливому и растерянному виду его усов, похожих на усы Ницше, у которого они, правда, были еще тоскливее; усы Пруста диаметрально противоположны бравым, веселым вакхическим усам Веласкеса и тем более ультра-носорожьим усам вашего покорного слуги и гения.
Меня всегда интересовал характер волосяного покрова: либо с эстетической точки зрения – для определения состояния идеального равновесия, которое зависит от системы расположения волос, либо в связи с психопатологическим толкованием типа усов – трагической константы человеческого характера и, несомненно, самой суровой черты мужской физиономии. К тому же я предпочитаю использовать гастрономические термины для своих трудных для изложения философских идей, которым мне всегда хотелось придать предельную ясность. Ибо я не выношу неясности, как бы незначительна она не была.
Почему я говорю, что Марсель Пруст с его мазохистским самоанализом и анальным садистским препарированием общества преуспел в приготовлении удивительного супа из креветок, импрессионистического, сверхтонкого и квазимузыкального. В его супе, правда, отсутствует лишь одна вещь – креветки, о которых можно сказать, что они существуют только в воображении. В то время как Сальвадор Дали, в противоположность Прусту, при помощи получения в процессе анализа всевозможных мельчайших эссенций и квинтэссенций удалось без каких-либо мучений предложить красующихся на тарелке реальных креветок, конкретных и сверкающих, как съедобные атрибуты живой действительности.
Пруст творит из креветок музыку, Дали же, напротив, удалось сотворить из нее креветок…
Но поговорим о смерти моих современников, кого я знал и кто был мне другом.
Первое утешительное чувство – что они были столь далиниевскими по своему складу, что служили источниками моих творческих идей. В то же время возникает и другое ощущение, тревожное и парадоксальное, – я уверен, что стал причиной их ухода из жизни.
Я получил множество доказательств моей преступной ответственности за их жизни на основании собственных параноических расследований. С объективной точки зрения, это совершенная чепуха, и тем не менее я уверен в том, что это сущая правда благодаря моим почти сверхчеловеческим интеллектуальным возможностям. И потому могу с грустью признаться, что одна за другой кончины моих друзей, последовательно укладывающиеся тонкими слоями "ложных греховных чувствований", в конечном счете образуют своего рода подушку, на которой я сплю ночью сном более свежим и покойным, чем когда-либо.
Смертельный выстрел в Гранаде, поэт злодейской смерти, Федерико Гарсия Лорка
Оле С этим типично испанским восклицанием в Париже я получил известие о смерти Лорки, лучшего друга моей бурной юности. Это восклицание, исторгаемое из биологического нутра любителями боя быков всякий раз, когда матадору удается красивый "пас" или когда зрители подбадривают певца фламенко, я издал в связи со смертью Лорки, продемонстрировав тем самым, как трагична и типична его испанская судьба.
По пять раз в день Лорка говорил о своей смерти. Вечером он не мог лечь спать, пока кто-нибудь из нас не "уложит его в постель". И уже лежа в постели, он опять находил способы до бесконечности продолжать самые трансцендентные беседы обо всей поэзии, какая только была известна в нашем столетии. Почти всегда свои рассуждения он заканчивал разговорами о смерти и главным образом о своей собственной смерти.
Лорка воспевал все, о чем говорил, особенно свое завещание. Он проигрывал все, что касалось его смерти. "Смотри,– говорил он, – на что я буду похож, когда умру". При этом он изображал нечто вроде горизонтального балетного номера, имитирующего изломанные движения тела в момент захоронения, когда, как в Гранаде, гроб медленно опускают по крутому склону. Затем он показывал, как его лицо будет выглядеть через несколько дней после смерти. И его черты, не отличавшиеся особым благообразием, вдруг начинали излучать какую-то новую красоту и необычайную привлекательность. И тогда, удовлетворенный впечатлением, произведенным на нас, он начинал улыбаться, испытывая чувство триумфа при виде состояния зрителей.
Он писал:
У реки Гвадалквивир гранатово-красная борода.
В Гранаде две реки, одна из слез, другая – из крови…
Более того, в конце оды (дважды бессмертной), посвященной Сальвадору Дали, Лорка недвусмысленно упоминал о своей кончине и просил меня не терять даром времени, пока моя жизнь и творчество на вершине благополучия.
В последний раз я видел Лорку в Барселоне, за два месяца до гражданской войны. Гала, ранее не знавшая его, была под глубоким впечатлением от его вязкого и совершенного лиризма. И это впечатление было обоюдным: три дня Лорка только и говорил о Гала. Эдвард Джеймс, не менее великий поэт, чувствительный, словно колибри, тоже был околдован, захвачен "вязкостью" личности Федерико. Джеймс был одет в тирольский костюм с богатой вышивкой, в кожаные штаны и рубашку, украшенную кружевом. О нем Лорка говорил, что это птичка колибри, разряженная, словно свифтовский вояка.
Во время нашей трапезы в ресторане крошечное, необычайно яркое насекомое разгуливало по скатерти утиной походкой. Лорка тут же разглядел сходство с Джеймсом, придавив букашку пальцем. Когда же он отнял его, от насекомого не осталось и следа. Это крошечное существо – поэт, одетый в тирольские кружева, сделал нечто такое, что изменило судьбу Лорки.
Действительно, Джеймс арендовал виллу Чимброне близ Амальфи, вдохновившего Вагнера на создание "Парсифаля". Он пригласил Лорку и меня приехать и оставаться столько, сколько нам заблагорассудится. Три дня мой друг пребывал в сомнениях: ехать ему или нет? Каждую четверть часа он менял решение. В Гранаде его отец, страдавший сердцем, боялся умереть. И
Лорка обещал, что присоединится к нам после того, как навестит отца и успокоит его. В это время началась гражданская война. Лорку убили, а его отец до сих пор жив…
Вильгельм Телль? Я до сих пор убежден, что, если бы нам и удалось забрать Федерико с собой, его характер, патологически беспокойный и нерешительный, не дал бы ему остаться с нами на вилле. И тем не менее именно тогда у меня появилось тяжелое чувство вины перед ним. Недостаточно усилий мы потратили на то, чтобы вырвать его из Испании. Если бы я действительно желал этого, я забрал бы его в Италию. Но в это время я писал большую лирическую поэму "Я пожираю Гала" и более или менее отчетливо чувствовал ревность Лорки. Я хотел остаться в Италии в одиночестве, любуясь кипарисовыми и цитрусовыми рощами, величественными храмами Пестума. И, между прочим, с точки зрения удовлетворения моей мании величия и жажды уединения я был вполне счастлив, чтобы не стремиться видеть Лорку… Да, во время открытия Дали Италии отношения с
Лоркой и наша бурная переписка по странному совпадению напоминала знаменитую ссору между Ницше и Вагнером. То был период, когда я выстраивал апологию "Анжелюса" Милле и писал свою лучшую книгу (которая все еще не опубликована) "Трагический миф Анжелюса Милле"[13]13
Она опубликована Ж.Ж. Пувэром в 1963 году.
[Закрыть] и свой лучший и никогда не осуществленный балет «Анжелюс Милле», для которого я хотел использовать музыку «Арлезианки» Бизе, а также часть неизданных сочинений Ницше. Ницше писал свою партитуру, когда был на грани безумия во время одного из столкновений с Вагнером. Граф Этьен де Бомон нашел их, насколько мне известно, в библиотеке Базеля, и хотя я никогда не слышал ее, я уверен, что это единственное музыкальное сочинение, которое созвучно моему творчеству.
Красные, полукрасные, желтые и бледно-желтые – все старались с помощью гнусного шантажа извлечь пользу от постыдного и демагогического резонанса вокруг смерти Лорки. Они пытались, пытаются и сегодня сделать из него политического лидера. Но я, его лучший друг, готов свидетельствовать перед Богом и историей, что Лорка – стопроцентный поэт по самой своей сути – был самым чистым и праведным человеческим существом, которое я когда-либо знал. Он просто был искупительной жертвой сугубо частного характера и, помимо этого, отдан на заклание на жертвенный алтарь сокрушительной, мощной, вселенской смуты Испанской гражданской войны. Как бы то ни было, ясно одно. Всякий раз, когда в уединении мне в голову приходила какая-нибудь блестящая идея или удавался божественно чудесный удар кистью, я слышал глуховатый голос Лорки, который говорил мне: "Оле"
Другая история – смерть Рене Кревеля, если начать с самого начала, мне необходимо коротко изложить историю А.Е.А.Р. – Ассоциации революционных писателей и художников – набор слов, не имевший никакого смысла. Сюрреалисты, которые были в это время воодушевлены великими, благородными идеями и зачарованы малопонятным названием группы объединились в блок и составили большинство ассоциации ничтожных бюрократов. Как все ассоциации такого рода, обреченные на никчемность и пустоту, А.Е.А.Р. должна была созвать "Большой международный конгресс". Даже несмотря на то, что цель такого конгресса была очевидной, я был единственным, кто с самого начала предупреждал об опасности. В первую очередь были ликвидированы все писатели и художники, которые когда-нибудь подписали что-нибудь значительное, и прежде всего те, кто имел свои или поддерживал подрывные, а значит, революционные идеи. Конгрессы представляли собой подобие монстров и были окружены своеобразными коридорами, через которые проникали люди, физиологические пригодные для этого движения. И что бы мы не думали о Бретоне, среди всех них он один был честным и непреклонным как крест Св. Андрея. Во всех коридорах, при всех закулисных манипуляциях, особенно в конгрессе, он тут же становился самым неудобным и наименее приспосабливающимся из всех "инородцев". Он не мог ни подстраиваться, ни ломиться в стену. В этом заключалась одна из главных причин того, что сюрреалисты вообще никогда не появлялись на конгрессе Ассоциации революционных художников и писателей, что я весьма проницательно и предсказывал.
Единственным членом группы, верившим в действенность участия сюрреалистов в Международном конгрессе А.Е.А.Р., был Рене Кревель. Сейчас мы подходим к одной важной, полной значения детали: Кревель не случайно не был назван, как многие другие, ни Полем, ни Андрэ, ни, наконец, Сальвадором. Если в Каталонии "Гауди"[14]14
Архитектор, создатель средиземноморской готики, автор проекта собора Св. Семейства в Барселоне, многих жилых домов, городских парков.
[Закрыть] и «Дали» означает «наслаждаться», «желать», то имя Кревеля Рене, по всей видимости, происходит от причастия глагола «renaitre» – «возрождаться». Но его второе имя «Кревель» – от глагола «se crever», что означает «умирать», или, как сказали бы филологи-философы, «жизненное побуждение умереть». Рене был единственным, кто верил в возможности А.Е.А.Р., превратившуюся для него в любимую забаву, и стал ее пламенным апологетом. Он был наделен морфологическим свойством нераскрывшегося папоротника – перед тем, как он выбросит спираль нарождающегося цветка. Перед вами представало грубоватое лицо злого ангела бетховеновского типа – бутона в окружении завитков. Тогда он представлялся мне живым символическим эмбрионом, ныне же он кажется мне прекрасным экземпляром, принадлежащем самой современной науке под названием «фениксология», знакомой тем, кому посчастливилось читать мои сочинения. Но вполне вероятно, что вы, к сожалению, еще ничего о ней не знаете. Фениксология дает нам, смертным, великолепный шанс стать бессмертными в пределах земной жизни, что есть результат реализации наших тайных возможностей – способности возвращаться к своему эмбриональному состоянию и тем самым обретать возможность вечного возрождения из собственного пепла подобно Фениксу – мифической птице, имя которой и было заимствовано для того, чтобы окрестить новую науку, самую специальную из всех наук нашей эпохи.
Никто не "умирал" ("creve") и не "возрождался" ("rene") так часто, как наш Рене Кревель. Его жизнь состояла из смены всяческих заседаний и передышек между ними. Он был уже на исходе сил, а затем появлялся вновь, цветущий и обновленный, сверкающий и радостный как, дитя. Но так долго продолжаться не могло. Страсть саморазрушения вскоре снова овладевала им, и он начинал нервничать, курить опиум, обсуждать неразрешимые проблемы идеологического, этического, эстетического и эмоционального свойства, страдая от бесконечной бессонницы и слез, пока ,наконец, не "умирал" в очередной раз. Тогда, как одержимый, с маниакальной настойчивостью он разглядывал себя во всех зеркалах прустовского Парижа тех дней, пребывая в состоянии глубокой депрессии и постоянно твердя: "Я выгляжу, как сама смерть", пока, на исходе сил, не объявлял своим близким: "Я бы лучше умер, чем жить, как сегодня". Его отправляли в санаторий, где приводили в чувство, и через несколько месяцев после усиленного лечения Рене возрождался. И когда мы встречали его в Париже, жизнь била в нем ключом, он был одет, как жиголо высшего класса, сверкающий, с вьющейся шевелюрой, уже страдающий от избытка оптимизма, выплеснувшегося в революционных деяниях. А затем медленно, но неотвратимо он опять начинал курить, опять истязать себя, свертываясь и увядая словно папоротник, уже не способный жить дальше.
Самый гармоничный период эйфории "неумирания" ("decrevelage") Рене провел в Порт Льигате – в месте, достойном Гомера, где обитали лишь Гала и я. Это были лучшие месяцы в его жизни, как он сам писал себе в письмах. Эти передышки продлевали ее ровно на столько, сколько времени он оставался у нас. Сильное впечатление производил на него мой аскетизм, и, следуя моему примеру, в Порт Льигате он вел отшельнический образ жизни. Он вставал до восхода солнца, раньше меня, и проводил целые дни в оливковой роще, совершенно обнаженный, взгляд его был обращен к небесам, самым бездонным и лазурным на всем Средиземном море, – самом близком к краю меридиана здесь в Испании – стране, самой близкой к смерти. Он любил меня больше всех, но еще больше он был привязан к Гала, которую, как и я, называл оливком, твердя, что если бы он не обрел ее – Гала, то его жизнь кончилась бы трагически. Именно в Порт Льигате Рене написал "Les piedes dans le plat" ("Следы на доске"), "Клавесин Дидро" и "Дали и антиобскурантизм". Недавно Гала, вспомнив его и сравнив с кем-то из наших молодых современников, воскликнула с тоской: "Они никогда не будут такими, как он"
Так, много лет назад на свет родилось нечто под названием А.Е.А.Р. У Кревеля появился настораживающе нездоровый взгляд. Ему казалось, что у него никогда в жизни не будет ничего лучше, чем Конгресс революционных писателей и художников, для удовлетворения всех его чувственных и прочих изнурительных устремлений, его идеологических терзаний и противоречий. Как сюрреалист, он искренне верил, что не пойдя ни на какие уступки, мы с коммунистами потерпим поражение. Но задолго до открытия Конгресса вокруг нас начались подлые интриги, нацеленные на незамедлительную ликвидацию идеологической платформы, на которую опиралась наша группа. Кревель метался между коммунистами и сюрреалистами, между мучительными сомнениями и отчаянными попытками примирения, постоянно умирая и возрождаясь. Каждое утро приносило разочарование и надежду. Но самый тяжелый кризис был связан с окончательным разрывом с Бретоном. Кревель пришел рассказать мне об этом весь в слезах. Он не получил у меня поддержки в отношении коммунистов. Следуя обычной своей тактике, я занялся выявлением во всех этих ситуациях всех неразрешимых противоречий, дабы из всего этого нагромождения случайностей извлечь их иррациональную сущность. Как раз в это время моя навязчивая идея "Вильгельм Телль – фортепиано – Ленин" уступала место другой – "великому съедобному параноику" (я имею в виду Адольфа Гитлера). На рыдания Кревеля я ответил, что из деятельности Конгресса А.Е.А.Р. можно сделать лишь один практический вывод – покончить с ним, усвоив движение, представленное в лице и пухлом заде Гитлера, наделенного притягательным романтическим даром, наличие которого не только не мешает борьбе с ним на политическом уровне, но скорее наоборот. В это самое время я поделился с Кревелем своими соображениями о каноне Поликлета и заключил их тем, что, по моему убеждению, Поликлет был типичный фашист. Кревель ушел совершено подавленный. Ведь он больше других моих друзей верил, что во всех моих самых абсурдных вымыслах всегда присутствуют, по словам Рэмю, элементы высшей истины.
Прошла неделя, а меня мучило острое чувство вины. Я понимал, что нужно позвонить Кревелю, иначе он решит, что я солидарен с Бретоном, хотя последний, впрочем как и весь Конгресс, не разделял моего романтического восприятия фигуры Гитлера. За эту неделю закулисные интриги в Конгрессе привели к тому, что Бретону запретили даже прочесть доклад сюрреалистической группы. Вместо этого Полю Элюару разрешили представить его сокращенный, обескровленный вариант. После этого Кревель начал метаться между долгом перед партией и претензиями сюрреалистов. Когда я наконец решил ему позвонить, на другом конце странный голос с олимпийским спокойствием сказал: "Если вы друг Кревеля, берите такси и срочно приезжайте. Он умирает. Он пытался покончить с собой".
Я схватил такси. Когда же мы добрались до улицы, где он жил, я был поражен зрелищем, которое являла собой собравшаяся толпа. Напротив его дома стояла пожарная машина. До меня не доходило, какая может быть связь между пожарным департаментом и самоубийством, и, подчиняясь чисто далиниевскому ходу мыслей, я полагал, что и пожар, и самоубийство должны были случиться в одном и том же доме. Я вошел в комнату Кревеля, заполненную пожарными. С жадностью ребенка Рене глотал кислород. Я не встречал никого, кто бы был так привязан к жизни. Отравившись парижским газом, он пытался заново родиться с помощью портльигатского кислорода. Перед тем, как убить себя, он прикрепил к левой манжете записку, на которой четкими заглавными буквами написал: РЕНЕ КРЕВЕЛЬ. Не соображая в тот момент, что можно позвонить по телефону, я побежал к виконту и к виконтессе де Ноэль, большим друзьям Кревеля, которым соответствующим обстоятельствам тоном и с предельно возможным тактом сообщил новость, взбудоражившую весь Париж. В гостиной, сверкающей позолоченной бронзой, обрамляющей темные оливково-зеленые фоны Гойи, Мари-Лаура произнесла о Кревеле какие-то высокопарные слова, которые тут же и забыла. Жан-Мишеля Франка, который немного времени спустя тоже покончил с собой, эта смерть потрясла, и в последующие дни с ним случались нервные припадки. Вечером в день смерти Кревеля мы вышли побродить по бульвару и посмотреть фильм о Франкенштейне. Как все виденные мною фильмы укладывались в рамки моей параноико-критической системы, так и он наглядно проиллюстрировал все до мельчайшей детали признаки некрофилии в крэвелевской навязчивой идее о смерти. Франкенштейновский монстр даже физически напоминал его.
Более того, весь сценарий основывался на мысли о смерти и возрождении – псевдонаучном предвосхищении новой науки фениксологии.
Война поглотила все идеологические метания. Кревель походил на завитки папоротника, которые могли распускаться лишь у края прозрачного, завихряющегося леонардовского водоворота идеологического моря. После Кревеля никто уже всерьез не говорил о диалектическом или механистическом материализме или о чем-либо другом в этом роде. Но Дали утверждает, что наступят дни, когда человеческий разум снова откроет их стройную красоту, слова же "монархия", "мистицизм", "морфология" и "атомистическая фениксология" вновь будут управлять миром.
Рене Кревель, я взываю к тебе: "Кревель, вернись" А ты на кастильском ответь мне: "Я жив"
Когда-то много лет тому назад было на свете такое сообщество под именем А.Е.А.Р…








