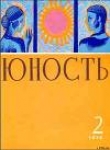Текст книги "След Юрхора"
Автор книги: Руслан Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Мы снова перетряхиваем постель, никакого паука, естественно, не находим (у меня от сердца отлегает: пауки ведь умнейшие и благороднейшие существа), потом опять начинается охота. В полночь распахивается дверь, и появляется бабушка. На ней какая-то детская, до колен, пижамка с бантиками, босые ноги расставлены, и торчит живот.
– Что здесь происходит? – возмущается она. Лицо ее чем-то смазано и блестит: питательную маску делает бабушка на ночь.
– Муху ловим, – говорим хором.
– Какую еще муху! Ошалели? Днем надо ловить.
– Вот ты и лови, – грубит папа, измученный безуспешной охотой.
И бабушка ловит. Привлеченная запахом питательной маски, муха проносится под самым ее носом раз, другой, а на третий бабушка – цап ее и, открыв форточку, вышвыривает на волю.
Так закончилось это бурное сражение. Потом папа описал его, заменив муху снежинкой.
Не сразу поняла сказочная Нюра, каким наделена могуществом. Но поняла. Когда они с мамой подошли к детскому саду и мама взялась за веник, чтобы отряхнуть ноги, то снежинки – фьють, фьють! – сами поотлетали от маминых сапог и Нюриных валенок. Так мама решила – что сами, в действительности же им Нюра приказала, незаметно коснувшись под шапкой короны.
Запись седьмая
ЧТО ЦЕНИТ ПАПА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Иван Петрович солгал: вовсе не «Приятного аппетита!» переводится «Вале», а «Прощай». И язык это не испанский – латинский. Да и чего это ради троюродной Алле, уезжая, желать мне приятного аппетита?
Я, правда, лакомка, ничего не скажешь. И я и Ксюша. В папу обе. Хотя сам он категорически отрицает это. «Я не лакомка, – говорит. – Я обжора».
К разным изысканным кушаньям он и впрямь равнодушен. А вот картошку, например, обожает. Особенно жареную. Умнет тарелку, посидит, пооблизывается, потом:
– Еще ложечку, – просит.
– А ничего? – спрашивает мама. – Будешь ворчать, что переел.
– Ничего-ничего.
Но вот тарелка снова пуста, однако папа из-за стола не выходит. В окно поглядывает, что-то говорит, чешет за ухом. Дело в том, что на сковородке осталось еще немного картошки, и как можно бросить ее на произвол судьбы!
Мы этого не понимаем. Зачем есть, коли есть не хочется? Впрок, что ли? Пусть в тарелке останется, пусть Топе пойдет, но не пихать же в себя насильно.
Но то мы, а то папа. «Ходячая помойка», – зовет себя и подъедает все, лишь бы не выкидывать. Это послевоенный детский голод дает знать о себе.
– А! – машет он рукой. – Положи-ка еще четверть ложечки.
– А ничего?
– Ничего-ничего. Клади. Пол-ложки.
Теперь уже «пол»! До блеска вычищает все хлебной корочкой, с кряхтеньем встает, живот гладит.
– Ну, и нажра-ался! – тянет. – Как свинья.
И пока мама убирает посуду, он прохаживается, разминаясь, по кухне.
У плиты останавливается – как раз над сковородкой.
– Попробовать, что ли? – размышляет вслух и – хоп в рот. – А вкусно… – удивляется. – Надо же! – И еще ломтик, еще, как птичка клювом. – Ну, вот. И мыть не надо.
Успокоенный, скрывается в своей комнате. Не проходит, однако, и получаса, как топает на кухню – мрачный, грозный. Залпом выпивает кружку воды.
– Накормила, – бурчит. – Дышать нечем. Мама изумлена.
– Я-то здесь при чем!
– При том. Не надо жарить столько.
– Я на всех жарила. Тебя никто не заставлял.
Папа сопит, хмурится и уходит было, но с полпути возвращается, выпивает еще кружку.
– Зачем ставила! Знаешь ведь – не могу удержаться, когда вижу.
– Папа! – урезониваю уже я его. – Не на столе ведь стояла, на плите.
– Все равно. Я и на плите вижу.
Ест он много, однако не толстеет, и те, кто давно не видел его, обязательно восклицают: «Ах, как вы похудели!» Троюродная Алла тоже воскликнула и никак не могла понять, чего это засмеялись мы.
Во все глаза смотрела я на свою московскую родственницу. Столько наслышалась о ней! Папа часто останавливался у них, а после рассказывал, какая это необыкновенная девочка. Нет, он не восхищался ею, он просто говорил, что Алла в совершенстве знает французский. Что в математических викторинах побеждает. Что играет на пианино. Что занимается фигурным катанием… Целеустремленная, в общем, натура.
Превыше всего ценят папа с мамой эту самую целеустремленность. Сокрушаются, что ее нет у дочери.
Почему же нет? Вот ведь заимела два аквариума! Они и одного не хотели, а у меня два… А Топа!
Запись восьмая
ПЯТЫЙ ЧЛЕН СЕМЬИ
У магазина «Канцелярские товары» нашли мы ее. Она радостно бросилась к нам, грязная, худая, маленькая – щеночек. Будто узнала нас. Сейчас я понимаю, что она кидалась так ко всем, кто выходил из магазина, хотя магазин-то был канцелярский (не продовольственный! не столовая!) и чем могли угостить ее, кроме как ластиком или карандашом?
Я погладила ее. Тут она совсем с ума сошла. Завертелась, запрыгала, То ногу лизнет, то руку, а то вдруг лицо – шершавым своим горячим языком.
– Пойдем, пойдем! – подгоняла меня забеспокоившаяся – неспроста! – мама.
С мольбой подняла я глаза. Ни словечка не проронила, но она поняла.
– Нет, Евгения, нет. У меня и без того забот полно.
Ну и что? И выгуливать буду, и ухаживать, и лечить, если заболеет! Это был не первый такой разговор, поэтому я наперед знала все, что ответит мама, как мама наперёд знала все, что скажу я.
Топа, которая тогда еще Топой не была, ничего не понимала. Ко мне ластилась, глупенькая. Присев на корточки, обеими руками взяла я ушастую голову.
– Ты ее проси, ее. Она главная, А я тебя вымою, вычищу. Будешь красавчиком у меня.
– У него блохи, – брезгливо заметила мама.
Мои пальцы бежали, раздвигая мягкую шерсть.
– Никаких блох, скажи, у меня нет. Я хорошая, скажи, собака.
– Ну да, хорошая!
– А если и есть, – продолжала я беседовать не с мамой, а со щенком, – то для человека, скажи, они не опасны. Помоем разок, и ни одной блошки не останется. Попроси маму, попроси! – и подталкивала к маминым ногам, чтоб лизнул.
Сколько раз жаловалась мама на свою бесхарактерность! Пеняла, что не умеет сердиться долго, а мы – я, папа и особенно Ксюша – злоупотребляем этим.
Когда щенок оказался дома, когда мы вдвоем вымыли его, торопясь закончить все до папиного прихода, и он, чистенький, пушистый, принялся носиться по комнате, сдирая половики, мама смотрела, смотрела и вдруг:
– Как он очутился тут? – удивилась. – Я вроде бы не хотела.
Я быстро чмокнула ее.
– Хотела, мамочка, хотела.
Она покачала головой.
– Это ты хотела. И он. А я – нет.
– Не он, а она, – поправила я.
Я установила это сразу же, едва в дом вошли, но мама еще день или два перестраивалась, а папа – тот вообще не признавал ни имени, ни пола нового жильца. «Он» звал. До поры до времени…
Втроем возвращались с прогулки – я с папой и наш пес. Десять или одиннадцать часов было, шел сырой снег, вокруг – ни души. Чтобы сократить путь, пошли через стройку. Топа бежала рядом, и вдруг – нет ее. «Топа! – кричу. – Топа!» Нету… Пропала. А впереди – черное отверстие канализационного колодца. Как разинутый рот…
– Упала! – И чувствую, как внутри у меня тоже все падает.
Чуть ли не внутрь сунула голову, зову. В ответ – ни звука. А папа уже скидывает пальто, мне сует, опускается на корточки и долго шарит в темноте руками. Потом медленно пропадает внизу. Наверное, надо бы в эту минуту за него волноваться, а я, сумасшедшая, о Топе думаю. О том, как она валяется там, бездыханная. Иначе заскулила б, тявкнула. Откликнулась на мой зов…
Но вот уже и папы не слыхать – только что-то сыплется на далекое дно. Как Топа, стою на четвереньках. Вслушиваюсь… Всматриваюсь… Не дышу.
Папин голос… Слов не различаю, но угадываю по интонации, что не ко мне обращается. К ней…
– Жива? – выдыхаю.
– А то нет!
И вот из глубины всплывает белое барахтающееся тело. В охапку хватаю, торопливо ощупываю – не сломано ли чего? Она извивается в моих руках, вся мокрая, лижет куда попало. Цела, цела… Папа выпачкан с головы до ног, но мы замечаем это уже дома. Мама в ужасе, а мы, одурев от счастья, интригуем ее.
– Операция по спасению, – рапортует папа, – прошла успешно.
Собака обязательно выбирает хозяина, и я не обижаюсь, что Топа, хоть нашла ее я, выбрала хозяином папу, Она всех нас встречает у двери, всем радуется, но ему особенно. У его ног устраивается, когда мы, все четверо, смотрим телевизор, и пусть не беспрекословно, но все-таки слушается его, а нас с Ксюшей и маму не очень-то признает. На улице ей не разрешается есть, она это прекрасно знает и тем не менее сознательно нарушает запрет. Найдет косточку и торопливо, пока нас нет рядом, расправляется с нею. Стоит же нам приблизиться, как она уже не грызет, просто, видите ли, играет. Припав на передние лапы, тявкает, машет хвостом, отпрыгивает боком. Давайте, дескать, играть, а не заниматься выяснением, кто что ест. Обожает она сладкие груши, дыню, а землянику в саду у светопольской бабушки сама рвет с куста. Ту, что поспелее и покрупнее. Дед сердится, и она, завидев его, дает деру, при нас же лакомится спокойно,
С собаками у нее отношения особые. Маленьких гоняет, от большой бежит, поджав хвост, а если та припускает за ней, то поскуливает и норовит забраться на руки. Когда же большая собака идет на поводке, Топа, такая смелая сразу, звонко облаивает ее. И лишь однажды не обратила на другую собаку ни малейшего внимания.
Мы – я, Ксюша и мама – шли от автобусной остановки к дому светопольской бабушки. Папа был уже там и встречал нас, но встречал не один: осторожно катил перед собой коляску. Это была старая-престарая коляска, когда-то в ней возили меня, потом Ксюшу. Но кто же сейчас в ней? Может, гости какие приехали? С младенцем?

Папа приложил палец к губам: тише!
На цыпочках приблизились мы, шеи вытянули и… На полосатом матрасике смирно лежала наша Топа. В косыночке. В старой Ксюшиной кофте. В юбке, из-под которой торчал белый хвост. Забарахталась, увидев нас, но папа строго сказал: «Лежать!», – и она застыла. В головах у нее стояла бутылочка с соской.
– Поела неплохо, – озабоченно доложил папа, – но, видимо, побаливает живот. Надо на диете подержать.
Самое интересное, что лежала она, послушная, лишь до тех пор, пока коляску катил папа. Стоило же нам сменить его – мигом вскочила. Укладывали, упрашивали – без толку все, Сидела, в косыночке и кофте, важно смотрела по сторонам, а у прохожих отваливалась от изумления челюсть. Мимо бежала собака. Топа проводила ее взглядом и – впервые в жизни! – никак не прореагировала.
Как и мы с Ксюшей, она обожает гостей. Но не всех. Троюродную Аллу, например, встретила урчанием.
Запись девятая
НА ГУЩЕ КОФЕЙНОЙ
Я стесняюсь посторонних – не только взрослых, но даже ровесников, а троюродная Алла со всеми держит себя на равных.
– Вы тоже писатель? – запросто спросила она папиного друга дядю Егора. – Как, простите, ваша фамилия?
Вообще-то дядя Егор считается у нас Ксюшиным женихом. Однажды, сидя с моей сестрой под столом, за которым другие гости пили вино и громко спорили (сам он не любит пить, а вот конфеты – только дай), он сделал ей предложение. Видимо, она поведала ему про успех, которым пользуется в классе, о серьезном претенденте на ее руку Чижикове – том самом, у кого вырывала волоски, а он терпел, бедняга, – и о другом серьезном претенденте, что разгуливал по школе в разрисованных ею сандалиях, в ответ на что дядя Егор и сказал:
– А ну их, Ксюша! Выходи-ка за меня лучше.
Ксюша закатилась. Изумленные гости стали заглядывать под стол – что такое? Каково же было их удивление, когда они увидели там «настоящего писателя»! (Это папа так говорит: «Вот он настоящий писатель, а я…»)
– Не мешайте нам, пожалуйста, – проговорил «настоящий писатель». – У нас тут важный разговор.
Когда Ксюша успокоилась, он поинтересовался, что так развеселило ее.
– А вы не обидитесь? – спросила она.
– Вот! – сказал дядя Егор и щелкнул ногтем о зубы – «побожился».
– Правда, не обидитесь?
В три погибели согнулась я, чтобы не пропустить ни слова. И услыхала:
– У вас нос длинный… – И снова закатилась.
Я представляю, как обескураженный дядя Егор взял двумя пальцами нос, подвигал туда-сюда. Он у него и правда длинноват (как и сам он), но какое отношение имеет это к «женитьбе»?
Оказывается, имеет. Целоваться трудно – под величайшим секретом просветила меня моя младшая сестра.
…Фамилия дяди Егора ни о чем не сказала троюродной Алле.
– Не слыхала, – отрезала она. – А какая тема у вас? Война, наверное?
Дядя Егор медленно провел пальцем по шраму на подбородке.
– Ну, война… Госпиталь… Неинтересно?
– Почему? – пожала плечами троюродная Алла. – Вы считаете, наше поколение только дисками увлекается?
– А чем еще? – спросил дядя Егор, сам же так и сверлил ее взглядом.
– Разным. В жизни много всего. Есть веселое, есть грустное. Даже трагические. Война, например. Думаете, не знаем? Знаем! А вы… Вам известно, предположим, кто властитель дум у молодежи?
Вот как изъясняется моя троюродная сестра! Я не умею так. Да и кто сейчас этот самый властитель у нас – не знаю.
– Плохо, что у тебя компании нет, – сказала мне Алла. – Личность реализуется в обществе единомышленников.
– У меня есть подруга, – возразила я.
– Это Уточка-то? – Так она Лену Потапенкову прозвала. – Но то ведь ваши собаки дружат. Не вы, а собаки. Вы же эскортируете их.
Неправда! О собаках, конечно, тоже говорим, но не только о них.
– А впрочем, она славная, – смилостивилась Алла. – Вот только линия жизни у нее коротковата.
Она прекрасно гадает, моя московская родственница – по ладони, на картах, но интересней всего – по кофейной гуще. Раньше я думала, это лишь поговорка такая – на кофейной гуще гадать, но оказывается, не только поговорка.
Я не люблю кофе, а тут дисциплинированно выпила все и перевернула, как было велено мне, чашку. На стенках застыли с внутренней стороны темные потеки. Я смотрела на них и ничего не видела, а Алла читала по ним, как по книге. – Во-первых, сердце у тебя чистое, – и показала на белое-белое донышко. Потом разглядела очертания собак. Сначала большой (она сидела, подняв узкую морду, – борзая?), затем – маленьких. – Это хорошо. Ты окружена друзьями. Их у тебя много, но есть один, который тебе дороже всех.
В первую минуту я подумала о Леве Потапенковой, но, если честно, я с нею не до конца откровенна. Мама? Вот ей я выкладываю все. И не только я: папа, Ксюша… Нарасхват она у нас, и даже, бывает, выстраивается очередь. Бедная мама! Чем только не занимается она помимо своей основной работы в конструкторском бюро! Готовит, стирает, вяжет, шьет, печатает на машинке. Вселяет вдохновение в папу. Успокаивает младшую дочь, которой померещилось, что она заболела белладонной. Ободряет старшую…
Много чего наговорила тогда моя московская родственница. Про собак, олицетворяющих друзей. Про новости добрые (белые птицы) и про новости нехорошие (птицы черные). Про неприятности, что через всю чашку тянулись ко мне в виде змеек, однако преданные собаки не пускали их.
– А еще… – Алла загадочно улыбнулась. – Интересно, интересно…
Мое сердце застучало.
– Что?
Папа насмешливо улыбался, а мама нервничала. «Я очень боюсь за Женьку», – подслушала я раз. Папа успокаивал ее: «Чего бояться! Девочка как девочка. Звезд с неба не хватает, но ведь не глупенькая. Не красавица, однако и не страхолюдина. Даже очень, по-моему, симпатичная». Но мама как заладила свое – «боюсь» да «боюсь», – что даже мне страшновато стало. Вот и сейчас она с волнением ждала, какую судьбу для ее дочери высмотрит в кофейной гуще столичная гостья.
– Жених! – влезла Ксюша. – Алла, жених у Женьки, да? – и чуть ли не носом в чашку.
Троюродная Алла отодвинула в сторонку королеву снежинок.
– Вот видишь, – обвела накрашенным ноготком бесформенное пятно.
– Вижу, – тупо проговорила я.
– Что видишь?
У меня аж глаза заболели.
– Что ты видишь? – терпеливо повторила моя троюродная сестра, а родная:
– Курицу! Курицу вижу. Только без головы.
– И без туловища, – спокойно заметила Алла. (Она ужасно остроумная.) И опять ко мне: – Напряги фантазию. Ассоциативное мышление включи. Ну… включила?
– Кажется, да.
– И что?
– Ничего.
– Плохо, значит, включила. Вот. – И ноготок опять пополз по пятну. – Фрак узнаешь?
– Фрак? – И в тот же миг увидела курицу. Противная Ксения!
– Он самый. Музыканты выступают в таких. Это к знакомству. Но произойдет оно неожиданно. Видишь крапинки? Они как бы затушевывают…
Крапинки видела, курицу тоже, а фрак – нет.
– Где произойдет? – спросила я осторожно. Алла развела руками. Вернее, одной рукой, потому что в другой была чашка.
– Этого я сказать не могу. Думаю, что не в школе.
Запись десятая
МЕЧТА С КРЫЛЫШКАМИ
На вокзале – вот где. Только не во фраке был он, а в голубой курточке с красными ромбиками. Посылки слегка подпрыгивали.
– А вдруг там что-нибудь хрупкое? – спросила я.
– Хрупкое не принимают, – ответил он. – Вы не устали? А то могу подвезти.
Я не устала, и мне вовсе не хотелось, чтобы он подвозил меня, но все-таки я с интересом посмотрела, куда это он намеревался посадить меня.
– Верхом на ящики?
Представила, как сижу, свесив ноги, – огромная живая посылка, – а сзади на пальто написано печатными буквами: «Москва, до востребования». Как на тех самых письмах… И так же, как письма, буду лежать в ожидании адресата, но никто не явится за мной.
– Не надо грустить. – Он с улыбкой смотрел на меня. На меня, а не на дорогу.
– Вы уже говорили это сегодня, – напомнила я.
– А вы уже сегодня грустили.
– Вам показалось…
– Ничего подобного! Я прекрасно различаю цвета.
– При чем здесь цвета?
– Не знаете? – удивился он. – Когда человек грустит, на лице у него выступают голубые пятнышки.
Чепуха! Он был вралем, он и «прощай» перевел как «приятного аппетита», он вообще много чего нагородил за ют час, что мы шли (или ехали?) вместе, однако – вот удивительное дело! – я вдруг и впрямь почувствовала на щеках что-то голубенькое. Неужели? Зеркальце бы сейчас… Он тотчас протянул его.
– Отвернитесь, – попросила я.
– Ради бога! – сказал он и уставился на дорогу.
Я подняла зеркало, глянула и что же увидела? Его рыжую физиономию. Он улыбался мне и, кажется, подмигивал. Быстро опустила я зеркало.
– Пардон! – проговорил он. – Пардон! – То ли мне, то ли бабушке с тортом, едва не налетевшей на тележку.
Когда я снова посмотрела в зеркало, там было уже мое лицо. Бледное, с темными бровями и без всякой голубизны.
– Это потому, – объяснил Иван Петрович, – что вы уже не грустите. А сейчас вам станет еще веселее. – И мы въехали в Собачий скверик. Вернее, въехал он, а я вошла.
Собачий скверик на самом деле называется Абрикосовым.
Вместо кленов, акаций и каштанов здесь растут фруктовые деревья. Когда-то это был сад сельхозинститута.
Потом сельхозинститут вывели за город, забор снесли, и сад превратился в сквер.
Отчего же зовут его Собачьим? А оттого, что в нем регулярно устраивают выставки собак. Служебных. Декоративных. Охотничьих. Ставят стол, красным сукном накрывают, вешают на столб радио и торжественно объявляют на весь сквер результаты. Кому какая медаль…
– А в другом городе, – сказал Иван Петрович, – все собаки одинаковы.
Я удивленно посмотрела на него.
– Как одинаковы?
– Так. Породы отменены специальным постановлением. Ваша любит мармелад?
Значит, я уже рассказывала ему о Топе?
– Любит. Но он скользит у нее на зубах.
– А вы запекайте его. В тесто. Мармелад в тесте. Не пробовали?
К тележке подбежала собака, похожая на эрдельтерьера. Ее черные ноздри трепетали. Почему-то она была без хозяина. И не одна. Скоро рядом с ней появился спаниель, но, конечно, не чистокровный (сегодня ведь никакой выставки не было), а разбавленный не понять чем. Скорей всего, фокстерьером.
А через минуту сбоку вынырнул и сам фокстерьер, разбавленный пуделем.
– Видите, – сказал Иван Петрович. – Они чувствуют.
– Что? – спросила я.
– Что вы хорошо относитесь к ним, Вообще к животным. Вам на биофак надо.
На лице моем, почувствовала я, опять выступили голубые пятнышки.
– Вам известно, какой там конкурс?
– Конечно, – ответил он не задумываясь. – Девять человек на место.
– Для меня это много, – проговорила я.
– Откуда вы знаете?
К собачьей тройке, что молчаливо сопровождала нас, присоединился белый длинноухий пес.
– Ну… себя-то я знаю как-нибудь, – сказала я.
Иван Петрович соскочил с тележки. Обежал ее – она, как ни в чем не бывало, катила себе дальше, – собак обежал и поравнялся со мной справа.
– Никогда! – шепнул он.
Я посмотрела на него. Какими синими были его глаза!
– Что никогда? – спросила я, тоже почему-то шепотом.
– Никогда, никогда не говорите, что знаете себя! – И снова к своему водительскому месту.
– А вы? – спросила я. – Вы знаете себя?
– Приблизительно, – ответил он. – Говорят, я будущий физик. Ядерный.
– Кто говорит?
– Там… В другом городе.
Опять в другом! В том самом, где у собак отменены породы?.. Бог знает что нес он, но с ним было понятней и веселей, чем с троюродной Аллой, которая так ясно излагает все. Ни капельки не сомневается она, что поступит в юридический – какой бы там ни был конкурс.
У человека, говорит она, должна быть крылатая мечта…
– Так, значит, – обратилась я к Ивану Петровичу, – ваша крылатая мечта – стать физиком?
Он посмотрел на меня через плечо, потом на собак посмотрел – их стало еще больше – и ответил:
– Геологом.
Я даже приостановилась от изумления.
– Как геологом? Только что вы говорили – физиком.
– Ну и что? – пожал плечами Иван Петрович. – Я передумал. Одна мечта с крылышками улетела, и ее место заняла другая.
Мы приближались к выходу…
Запись одиннадцатая
ОЧЕНЬ СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО
Став королевой снежинок, Нюра, сознательный человек, решила помочь дворнику тете Наташе. Вот и стали снежинки удирать из-под ее фанерной лопаты. Удирать и укладываться в аккуратные сугробики. Сами! «Какую замечательную лопату изобрели!» – говорили прохожие.
Но ведь в городе много улиц и дворников тоже много. Как всем помочь? Очень просто. И королева запретила своим снежинкам спускаться на тротуары и дороги. С этого дня снег в ее городе стал падать только на деревья, укутывая их в теплую шубу, на клумбы, где летом росли цветы, на порожние бассейны и детские площадки. Молодец папа! Это же надо придумать так. Всю ночь валит снег, а утром дороги и тротуары чисты, как в мае. Если же снег не утихает и днем, то, пока вы на тротуаре, ни одна снежинка не сядет на вас.
Еще за старого деда Григория заступилась Нюра. Нечаянно уронил он ключ, проказливые снежинки тут же спрятали его, а без ключа как попадешь в дом? Нюра незаметно дотронулась до короны. В тот же миг ни единой снежинки не осталось возле ног деда Григория.
Но ключ не унесли с собой – лежал на мерзлой земле, поблескивая.
И все корона! Кто же добровольно откажется от нее?
Стоит ведь растаять ей, как сразу наступит весна. Или оттепель, если растает не до конца.
Так и случилось однажды. Ярко засветило солнце, побежали ручьи, торопливо и звонко закапало с крыш.
«Весна!» – обрадовалась Нюрина мама.
Босиком подбежала Нюра к окну. На дворе было светло, мокро и весело. Пели птицы. Мама улыбалась, а дочка больно закусила губу. Как только исчезнет последняя снежинка, Нюра навсегда перестанет быть королевой. Стремглав бросилась в кухню. Так и есть! Холодильник был распахнут настежь: мама открыла его, чтобы проветрить и помыть. Корона лежала в уголке, совсем тоненькая. Дрожащими руками взяла ее Нюра. Только бы не сломалась! Опустила на голову и несколько секунд стояла так, не дыша. В окно смотрела. Откуда ни возьмись, на небе появилась тучка. Потом еще одна и еще. Подул ветер. Капать перестало, вытянулись сосульки, и замерз ручей. Нюра подошла к зеркалу.
Корона на голове сияла, как и прежде, – будто внутри горела голубая лампочка.
Запись двенадцатая
ТРУДНОЕ СЛОВО «ГОРОХ»
Если честно… Если совсем честно, то мне папины книжки не нравятся. Ксюша – та считает папу лучшим писателем в мире, всем рассказывает о нем, а я – ни слова никому. Но в классе все равно знают. Из-за Полины. Ни с того ни с сего ляпает на уроке:
– Над чем работает твой отец?
Я пожимаю плечами.
– Пишет что-то… – валяю, как говорит мама, дурочку.
Очки у Полины вспыхивают.
– Родная дочь, а не интересуется творческой деятельностью отца!
Сама она интересуется. Правда, не как родная дочь, а как преподаватель литературы.
Предмет свой она любит. Так увлекается, что забывает про время, и звонок застает ее врасплох, поэтому после ее уроков перемены у нас почти не бывает. Сидим смирненько, ждем, пока закончит. Мы ведь понимаем, что она жертвует ради нас личным временем. А она думает – не понимаем.
– У меня тоже семья, – растолковывает нам Полина, – тоже дети. Я ведь не только педагог, не только ваш классный руководитель, но еще и мать и жена… – Как со взрослыми разговаривает с нами. Мы видим это, а она думает – не видим. – Как со взрослыми, – объясняет, – говорю с вами. И мне радостно наблюдать, как постепенно преображаются ваши глаза. В них мысль появляется. В них светится сознание долга. Ум и высокое человеческое достоинство. Это ли не лучшая награда учителю?
Я ставлю перед собой портфель и гляжусь в его никелированный замок, как в зеркальце. Изображение в нем, конечно, маленькое и искаженное, но, если приблизить лицо, можно разглядеть кое-что. Например, глаз. Вот зрачок, вот ресницы. Но, сколько ни гляжу, ни ума, ни сознания долга не замечаю.
– Соколова! – слышу вдруг и вскидываю голову. – Если тебе так уж хочется понюхать портфель, то, по-моему, лучше сделать это дома.
Класс смеется. Полина улыбается, счастливая, и очки ее счастливо блестят, и рука, тоже счастливая, гордо так поправляет их. Это ее любимый метод воспитания – опозорить при всех. Она называет его «выставить на коллектив».
Больше всего досталось Лене Потапенковой – за то, что редиской на рынке торговала. Не столько, впрочем, Лену «выставила на коллектив», сколько ее мать перед другими родителями. На собрании. Но мать не «выставилась». «Для меня, – заявила, – это новость», – хотя сама же пучки вязала.
Лена защищала ее. «Она взрослая, ей стыднее, чем мне. И на работу напишут…»
На другой день весь класс знал про рынок. «Почем редиска?» – дразнили. Лена краснела и жалко так улыбалась.
– А ничего? – спросила, когда подошли к моему дому.
Я сделала вид, что не поняла.
– Что ничего?
– Они ведь знают. Твоя мама была на собрании.
– Про редиску, что ли? Знают. Ну и что! Папа в детстве кизилом торговал…
Он сам рассказывал мне об этом. Вообще про детство. Очень нравится ему вспоминать прошлое, но зачем-то притворяется, будто делает это из педагогических целей. Ребенок, дескать, должен знать, как трудно жилось когда-то.
Я согласна: трудно. Зато веселее, чем теперь. Абрикосы воровали в саду. На баштан лазили… И никто не «выставлял на коллектив» – ни их самих, ни их письменные работы.
Одно мое сочинение тоже было «выставлено». Про «Евгения Онегина». Татьяна – та мне нравится, очень, а вот Онегин, по-моему, просто дурак. «Вы ко мне писали… Не отпирайтесь». Какому нормальному человеку придет в голову, что девушка, собственной рукой написав письмо, будет отнекиваться от него? А эта его привычка гонять с утра с самим собой бильярдные шары?
Полина мое сочинение зачитала вслух с начала до конца. Но с паузами. Закатывала под очками глаза, ужасаясь. «Вот, – повторяла, – наглядный пример неправильного, неграмотного прочтения классики».
Грамотному прочтению она учила нас с четвертого класса. Как? А вот так: из каждого произведения, которое мы проходили, надо было выбрать двадцать трудных слов. Эти слова записывались в специальный словарик. Потом она вызывала к доске и, листая словарик, просила написать то одно, то другое слово. Дураков искала! Никто по-настоящему трудных слов в словарик не заносил. Что-нибудь вроде: «усердие», «карета», «жемчужина», «воспитанный» и так далее. Витя же Липницкий умудрился записать слово «горох».
– Ты не знаешь, как пишется «горох»?
– Не знаю, Полина Сергеевна.
– Ну-ка, бери мел, – скомандовала она. – Пиши!
И он написал. Но что, что он написал! «Га-рог».
От смеха задрожали на подоконниках цветы, за которыми я ухаживаю (это моя общественная обязанность).
В отчаянии сняла Полина очки.
– Ты чудовище, Липницкий, – сказала она. – Ты даже хуже, чем чудовище. Ты моллюск.
– Да, – покорно согласился он.
– Что – да?
– Моллюск.
Опять задрожали на подоконнике листики моих цветов. Полина смеялась вместе с нами, а потом просила обратить внимание на ее отходчивость.
– Все вы – мои дети, – втолковывала она нам. – Одни более удачные, другие менее, но все вы мне одинаково дороги,
Я понимаю, какое это замечательное качество, но сама не умею так. Не могу относиться ко всем одинаково. Вот и Полину я, по совести говоря, не очень-то люблю, хотя она и ко мне тоже проявляет объективность. Один раз «выставила на коллектив» мое сочинение как самое неудачное (об Онегине), а в другой – как лучшее в классе. Это когда я про рыбок написала. Про Большого Гурами.
Запись тринадцатая
БОЛЬШОЙ ГУРАМИ
Лена Потапенкова подарила его. В литровой банке принесла – голубого, огромного (в аквариуме он уже таким огромным не казался), с двумя темно-синими, круглыми, похожими на глаза пятнами. Вернее, с четырьмя – два с одного бока, два с другого.
Лена купила его на рынке, поэтому кто знает, каким прежде был у чего характер, но у меня гурами повел себя не по-джентльменски.
Широко разинув пасть, налетал на безответных рыбешек. Те – врассыпную, он же, гордый собой, пошевеливал хвостовым плавником, розовеющим от удовольствия. Прямо деспот какой-то!
Мне было жаль моих рыбок. Они уже давно жили у меня, я привыкла к ним, а они – ко мне. Стоило мне приблизиться к аквариуму, как они подымались на поверхность или подплывали к переднему стеклу. Смотрели… Я медленно подносила ложечку с кормом, но прежде, чем высыпать, стучала по бортику, созывая загулявших или зазевавшихся.
Мои родители, моя гульгановская бабушка, а также бабушка светопольская обожают ставить в пример других. «Вот другие, Евгения…» Ну и что! Без них знаю я, что другие – это другие, то есть не такие, как я. Правильные… Так же и с рыбками у меня. Во всех книгах пишут, что данио рерио – стайные рыбы, в моем же аквариуме они живут порознь. Лишь ночью, когда все засыпают, их стайный инстинкт, наоборот, просыпается. Недалеко друг от друга плавают. Неончики же зависают головой вниз и медленно-медленно опускаются на дно. Коснувшись его, испуганно вспрыгивают. Так всю ночь… С десяти вечера до шести утра не отходила я от аквариума, свет горел лишь на полу – папина настольная лампа, – а сидела я на холодной и твердой кухонной табуретке. Уж на ней-то никак не заснешь… Полтетрадки исписала наблюдениями.
Дважды приходила мама – кудлатая, в длинной рубашке, спрашивала: