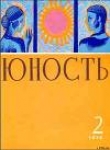Текст книги "След Юрхора"
Автор книги: Руслан Киреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Annotation
Журнал «Юность» №7, 1984.
Руслан Киреев
Запись первая
Запись вторая
Запись третья
Запись четвертая
Запись пятая
Запись шестая
Запись седьмая
Запись восьмая
Запись девятая
Запись десятая
Запись одиннадцатая
Запись двенадцатая
Запись тринадцатая
Запись четырнадцатая
Запись пятнадцатая
Запись шестнадцатая
Запись семнадцатая
Руслан Киреев
След Юрхора
Ненайденные мемуары моей дочери

Запись первая
«ВАЛЕ, ЖЕНЕЧКА!»
Это были ее последние слова. Уже из тамбура произнесла их троюродная Алла, «Вале, Женечка!» – прощально руку подняла и двинулась к своему купе. Я шла рядом, только я была по эту сторону стекла, а она – по ту, я внизу, а она вверху, я смотрела на нее, а она на меня нет. Навстречу ей плыл толстый дяденька в распахнутом пальто. Немолодой. Проворно встав боком, живот втянув, пропустил ее, и она спокойно прошла мимо, на ходу с улыбкой поблагодарив его. Я разве сумела б так! Первой прижалась бы к стеночке (хотя и без того занимаю мало места), а он и не заметил бы меня.
Троюродная Алла вошла в купе, сняла и аккуратно повесила на плечики пальто и лишь потом повернулась ко мне. Не просто к окну, а именно ко мне. Знала: я здесь, я жду…
Поезд тронулся. Я шла рядом. Вагон с троюродной Аллой лениво обогнал меня. За ним другие. Я проводила взглядом последний – этот уже убегал стремглав – и побрела прочь.
– Не надо грустить, девушка! – услышала я вдруг.
Быстро голову подняла. Меня бесшумно объезжала тележка с почтовыми посылками. Управлял ею, стоя впереди, прямой, как солдатик, рыжий парень в голубой курточке с двумя красными ромбиками на груди.
– Я не грущу, – пробормотала я.
Он развернулся и покатил назад, еще развернулся, уже за моей спиной, и поехал рядышком.
– Что вы сказали?
Глаза у него были синие, а брови белые, и лицо в веснушках…
– Я не грущу, – повторила я, но он опять не услыхал.
– Говорите громче!
По сто раз на дню слышу это. Мама и папа: «Громче»; учителя: «Громче, Соколова, громче»; Ксюша, так та: «Чего, чего?»; а если я медлю с ответом, моя девятилетняя сестра басом: «Женька! У тебя что, язык отнялся?» Троюродную Аллу тоже раздражал мой тихий голос. «Надо, – учила, – говорить так, чтобы не повторять. Не услыхали, пусть на себя пеняют».
Легко сказать «не повторять», но если человек едет рядом на своей бесшумной тележке и, держа руки за спиной, так весь и клонится к тебе, как тут не повторить еще раз: «Я не грущу»!
Он выпрямился.
– Ничего, – успокоил. – Он будет писать вам длинные письма.
– Я не его провожала.
– Не его? – Белые брови съехались. – Кого не его?
– Не его… Ее.
Наперерез шли две женщины. Сейчас, сейчас он наедет на них…
– Осторожно! – вскрикнула я – тоже тихо – и остановилась.
Он и тут не оторвал от меня своих синих глаз, однако тележка стала.
– Так вы подругу провожали?
Неуверенно пожала я плечами. Троюродная Алла называла меня при посторонних родственницей: не хотела, значит, чтобы нас считали подругами.
– Она в Москву уехала?
Смешной вопрос! Куда еще, раз поезд «Светополь – Москва»? Но тут же сообразила, что хоть куда можно: и дальше Москвы и ближе,
– В Москву, – сказала.
– А вы здесь остались. – Тележка двинулась. – И поэтому вам грустно. Угадал?
Навстречу шествовала парочка. Он – пузатый, коротконогий – отдувался на ходу и вряд ли собирался уступать дорогу. Жена – или кто там она? – взяла его под руку.
– Осторожно, – снова предупредила я.
– А что? – поинтересовался он. – Препятствие?
Еще какое! Он понял это, когда женщина принялась чихвостить нас. Еще секунда, и прямо в пузо толстяка врезался бы почтовый транспорт.
У выхода с перрона я придержала шаг.
– Мне сюда.
– Мне тоже, – сказал он и первым выехал на улицу.
Посылки лежали горкой, как детские кубики. «Москва», – прочла я на одной. И на другой тоже – «Москва», и на третьей. Мне опять стало грустно, как тогда, у вагона, из которого смотрела поверх белой занавесочки троюродная Алла.
Тележка остановилась. Он поманил меня пальцем. Я помедлила, но все-таки подошла. Правда, не совсем близко. Он еще поманил, и я – еще шажок.
– Вы обязательно поедете в Москву, – прошептал он. – Скоро. Вот увидите.
Я улыбалась, как дурочка. Тележка медленно тронулась – очень медленно, так медленно, как трогается поезд, а потом остановилась. И снова тронулась. И снова остановилась. Будто звала: «Ну, хватит, пошли!» И я пошла.
Запись вторая
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
Наверное, скоро я и вправду поеду в Москву. Папа обещал свозить нынешним летом.
Если, конечно, все будет нормально.
Это его любимое выражение. О чем бы ни шла речь: о поездке к бабушке в Гульган или покупке складных велосипедов, о походе за кизилом или ремонте квартиры, папа непременно прибавит: «Если все будет нормально». Он и нас приучил к этому. Даже девятилетняя Ксюша, спрашивая: «А гости обязательно придут в воскресенье? – она обожает гостей, и я, признаться, тоже, – спешит протараторить с серьезной миной: – Если все будет нормально».
Папа ни в чем не уверен до конца. Кроме одного: что он рано или поздно умрет. Это какой-то мудрец изрек – уже давно, пятьсот, что ли, лет назад, но если б и не изрек случайно, слова б эти все равно прозвучали. Их сказал бы мой папа.
Я, конечно, не считаю, что он мудрец у нас. Он умный, прочел миллион книг, он и сам пишет книги (правда, для детей, сказки), но на мудреца он не похож совершенно. Ну, какой мудрец станет цепляться к дочери из-за паршивой склянки? А папа цепляется.
– Кто оставил бутыль? – доносится вдруг из ванной.
Бутыль? Какую бутыль? У нас сроду не было никаких бутылей.
– Я спрашиваю, кто оставил бутыль?
И тут я с ужасом вспоминаю: я оставила. Только не бутыль – крохотную бутылочку с шампунем.
Пытаюсь проникнуть в ванную, но папа – грозный, глаза сверкают – преграждает путь.
– Я спрашиваю, кто оставил?
На помощь спешит мама.
– Какая разница, – говорит, – кто? Сейчас…
– Разница есть, – чеканит папа. – И, пожалуйста, не защищай их.
Их – это меня и Ксюшу. Она уже тоже здесь. Мы сейчас одно целое, один женский лагерь, а папа – лагерь мужской, но только совсем малолюдный лагерь. Главное – не перебежала б туда мама. Чаще всего так оно и бывает, и тогда получается двое на двое. Что-то говорят, говорят (воспитывают, это их любимое занятие), хотя оба прекрасно знают: мы не слушаем их. «Ты думаешь, они слушают нас?» – спрашивает папа, и мама сразу же соглашается: «Конечно, нет». Однако остановиться уже не могут.
Пока что, слава богу, мама перебегать не собирается.
– Я уберу, – бубню я, стоя перед упертой в дверь папиной рукой.
Как только она опустится, я шмыг туда и быстренько сделаю все. Но папа не дурак, чтобы лишаться улики.
– Сейчас, конечно, уберешь. Когда отец носом ткнул. А если б не ткнул?
Не в духе он… Плохо спал – поэтому. Ходит мрачный, молчит или придирается. Тут уж лучше не лезть к нему. Но если папа в настроении, все в доме оживает: тарахтит и заливается смехом Ксюша, мама спешит выложить новости, а что касается меня, то я норовлю уволочь папу в его комнату (почему-то он ненавидит слово «кабинет»). Или, еще лучше, на улицу. Но – одного. Без Ксюши…
– Эгоистка! – обзывает сестра. – Папа твой, что ли? Твой, твой?
Глаза вытаращены, раскраснелась вся, а на шее бренчат бусы, которых у нее, как и колец, как и брошек, тьма-тьмущая. «Мои драгоценности…»
– Ты уже общалась с папой, – говорю я спокойно.
– Ну и что! – рычит она, подбоченившись. – Я маленькая. Мне папа больше должен уделять внимания.
– А у меня, – отвечаю, – опасный возраст.
Она стоит, смотрит подозрительно, переваривает.
– Как это опасный? Женька! Как это опасный? – Уже с тревогой: – С тобой случится что-нибудь?
Завелась… Теперь будет терзать меня, пока не выяснит, что такое опасный возраст, и чем он опасен, и наступит ли такой возраст у нее. Это у нее бзик: все, что ни происходит вокруг, примеривать к себе. Все болезни, все несчастные случаи…
– А я, – спрашивает, – не заболею белладонной?
По-моему, такой болезни и нет вовсе, лекарство какое-то, но ей объяснишь разве?
– Не заболеешь, – говорю.
– Точно не заболею?
– Точно…
– Поклянись.
– Отстань! – говорю.
– Не отстану. Поклянись!
– Мама! – кричу я. – Забери ее.
– Не заберет. Поклянись!
Мне и смешно, но в то же время обидно. Заранее ведь знаю, чем все кончится. Оторвавшись от дел, прибежит мама, и достанется, конечно же, мне как старшей, хотя заварила все младшая. Но кто разбираться будет! Если у нас шум, если Ксюша орет что есть мочи, то виновата я.
Вот только папу она боится. Не смеет задавать при нем дурацкие вопросы или устраивать провокации. Когда у него хорошее настроение, он с ней возится, а я смотрю и завидую. Мне тоже охота покататься на закорках или повисеть в руках у него вверх тормашками.
Я не мешаю им. Но пусть и она не лезет, когда гулять идём. Пусть не увязывается за нами. Ведь если она даже и молчит (а она не очень-то молчит), то все равно мешает, потому что при ней я не могу быть до конца откровенной.
Вот почему: «У меня опасный возраст, – говорю я. И прибавляю: – Папа должен заниматься мной больше, чем тобой».
– А на меня Елена Аркадьевна жаловалась, – хвастается она.
– И что с того?
– А то! – И гордо выставляет ножку. Туфли у нее модные, на каблуках – в ее возрасте мне разве купили б такие! – Если учительница жалуется на ребенка, то родители должны уделять ему повышенное внимание. Ясно тебе, Женечка?
Вот оно что!
– Ничего, – говорю. – У тебя и так все пятерки.
– А вот и не все.
– Четверку, что ли, получила? – Для меня четверка – это уже потолок.
– Не четверку.
Я смотрю на нее с интересом.
– Трояк?
Маленькие руки в кольцах уперты в бока, а ножка фасонисто поворачивается на каблуке туда-сюда.
– Ну уж не двойка? – И самой смешно от такого нелепого предположения.
Из-за четверки сестра устраивает дома истерику, черкает тетрадь, а потом садится и все от корки до корки переписывает без единой ошибочки.
– Не двойка, – отвечает она и томно опускает глаза. И вдруг по всю глотку: – Кол! Ясно тебе? Кол!
– По поведению? – догадываюсь я.
Она снова опускает глаза, снова туфелькой вертит.
– Неважно, по чему.
Конечно, по поведению. На уроках крутится и болтает, вырывает волоски у своего соседа Чижикова, который якобы сделал ей предложение, а однажды, спрятавшись под парту, потихоньку разрисовала фломастером новенькие сандалии другого мальчишки, который, если верить Ксюше, тоже сделал ей предложение. Вот и появляются время от времени среди ее пятерок пары (а теперь, значит, еще и кол) по поведению.
Папа с мамой относятся к этому спокойно. Они даже корят ее, что слишком уж жаждет стать отличницей. Зато меня пилят за тройки. Стало быть, меня и воспитывать надо. Стало быть, не с ней, а со мной должен идти на прогулку папа.
Сам он не вмешивается в наш спор. С деловым видом перекладывает на стеллажах книги. Притворяется! Разве не приятно, что дети ссорятся из-за него?
В конце концов встревает мама.
– А ну их! – говорит младшей дочери и машет на старшую, то есть на меня, рукой. – Пусть идут. Мы с тобой найдем тут чем заниматься.
Заговорщицки звучит ее голос. Ксюша моментально улавливает это, и глаза ее расширяются.
– Чем?
– Найдем чем, – обещает мама таинственно.
Ксюша пытливо глядит на нее, потом подбегает и что-то горячо, быстро шепчет на ухо. Маме щекотно, она улыбается, а Ксюша, отстранившись:
– Да? Мама, да? – теперь уже громко.
– Ну да, да… – И смеется и поглядывает на меня: не обижусь ли на их секреты?
Я не обижаюсь. Чем они могут заниматься тут, как не шитьем очередной юбки? Это и есть секрет. Ради нарядов Ксюша готова пожертвовать всем, в том числе и прогулкой с папой. Вдвоем уходим и даже Топу не берем. А она надеется, она следит за нами исподтишка, по-лошадиному кося глазом на ошейник. Стоит мне или папе коснуться его, как она сорвется с места, заскачет, закружится, затанцует и не то что хвост – весь зад заходит ходуном от восторга.
Запись третья
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Я догадываюсь, о чем говорит Ксюша с папой.
– А ты в детстве, – спрашивает она, – боялся глубины?
– Конечно, боялся.
Этого и ждала она. До сих пор, трусишка, не умеет плавать, хотя живем в пятидесяти километрах от моря. А гульгановская бабушка – и вовсе на берегу.
– Но потом научился?
– Потом научился.
Тоже хороший ответ. Но бывает лучше. Папа, например, плохо учился, а у нее одни пятерки, и вот она без конца уточняет: «А по русскому сколько у тебя было? А по математике?» И цветет, слыша: «Да так, троечка». Крепится-крепится и, не удержавшись, выпаливает: «А у меня пять!» Будто он не знает этого!
Я тоже расспрашиваю папу, но не про детство, нет, про отрочество, что ли. В общем, про тот возраст, в каком сама сейчас.
Его учеба не интересует меня. С учебой (и его и моей) все ясно. Да и не ходил он в девятый класс – поступил после семи в техникум.
– У папы условий не было, – напоминает нам всякий раз мама.
Не по душе ей антипедагогическая откровенность папы, который даже ради воспитательных целей не желает чуточку приукрасить себя.
А мне нравится, что не желает. Что говорит все как есть и никакие темы не считает для меня запретными.
Однажды мы целый вечер выясняли с ним, что такое компромисс.
– Вот ты, – говорил он, – с удовольствием шла бы сейчас не со мной, а с молодым человеком, И беседовала б не о каком-то там компромиссе, а о любви. Но так как молодого человека не видать пока что, ты довольствуешься отцом. И рассуждаешь с ним не про любовь, а про разные скучные материи. Это и есть компромисс.
– Я и про любовь могу с отцом, – отвечаю с улыбкой.
– Увы! Мой опыт в этой области скуден. Не нравился я девушкам,
– Никому-никому?
– Ну, почему никому? Некоторым нравился. Одна была выше меня на голову и писала стихи, в которых были такие строки: «Я пришла к тебе по морю, как по Млечному Пути». А от другой всегда пахло маринованными помидорами.
– Помидорами?
– Представь себе! Красными, с укропчиком…
Я облизываюсь.
– А что! – говорю. – Не такой уж плохой запах.
– Разумеется. Если он исходит от овощей, а не от девушки.
Я думаю: а чем, интересно, я пахну? Но сращиваю другое:
– А какие тебе нравились?
– Такие, как ты, – отвечает он.
Кажется, я даже краснею в темноте. Папа не скупится на обидные слова, если попадешь ему под горячую руку, но и на комплименты тоже щедр.
– Когда-то я мечтал пройтись по городу с такой вот симпатичной и умной девушкой, Черта с два! Они и близко не подпускали меня.
– Зато, видишь, теперь подпустили.
– Теперь подпустили. Терпение, брат! Рано или поздно одни наши желания отмирают, другие – осуществляются. Это как письма «до востребования». Если в течение определенного срока за ними не явился адресат, их отсылают обратно.
Некоторое время идем молча. Я размышляю над папиным сравнением.
– Но ведь тогда, – приходит мне в голову, – я никогда не узнаю, что в них. В письмах этих.
– Ничего, – успокаивает он. – Узнаешь, что в других. Тоже своего рода компромисс.
Я не подаю виду, но мне делается грустно. Не хочется, чтобы предназначенные мне письма ушли назад непрочитанными.
Запись четвертая
МУРАВЕЙ НА ГЛОБУСЕ
– Куда прикажете? – осведомился водитель почтовой тележки.
Я пожала плечами.
– Мне туда, – и показала вперед.
– Мне тоже.
Мы пересекли привокзальную площадь и двинулись вниз по бульвару.
– Вас зовут Маша, – сказал он.
Теперь мы ехали рядом. Вернее, ехал он, а я шла.
– Не угадали.
Дорожка была узковата, и нам уступали дорогу,
– А я и не собираюсь гадать. Я знаю точно. – Он улыбнулся, и так ослепительно блеснули на круглом рыжем лице ровные зубы.
– Но ведь и я тоже знаю…
– Не обязательно. Вы можете заблуждаться. Если ваши родители прошляпили, когда называли, то как вы можете узнать свое настоящее имя?
– А как вы узнали?
– Свое?
– Нет, мое, Ну, и… свое тоже.
И закусила губу. Получилось, будто я напрашиваюсь на знакомство.
Он вскинул руку – как раз под деревом были мы, – а когда опустил, я увидела веточку акации. Зеленую! Первое дерево, которое выбросило листву, – все другие были пока что голые.
– Меня зовут Иваном Петровичем, – сказал он и протянул мне веточку, как цветок.
Я взяла ее и, как цветок, понюхала,
– Очень приятно.
– Что меня зовут так? Или пахнет приятно?
Так со мной еще не знакомились. Некоторые, правда, заговаривали на улице, однажды водитель остановил специально для меня троллейбус, уже отъехавший от остановки, а в другой раз двое ребят подарили дрессированную стрекозу. Она была голубой, тоненькой и сидела на ухе одного из них. Он поднес палец, стрекоза перебралась на него, а уже с пальца – на мое плечо. Я шла и косилась, как Топа на ошейник. Возле дома стала. «Ну, лети», – и тихонько подула. Прозрачные, с синими прожилками крылышки покачались туда-сюда и снова замерли. Тогда я по примеру хозяина подставила палец. Выпуклый стрекозий глаз внимательно глядел на него, но, видимо, мой палец не внушал доверия. Пришлось отцеплять ее от платья.
– А мне подарили стрекозу, – похвасталась я дома. – Ученую!
Папа смотрел, смотрел на меня, и взгляд его вдруг затуманился. Я поняла, что он сочиняет сказку.
Ксюше стрекоз не дарят. Но зато ей дарят бананы, бусы и горячие бублики. А еще делают предложения, в ответ на что она, девятилетняя бандитка, выдергивает у мальчишек волосы и разрисовывает фломастером их сандалии. Полкласса влюблено в нее. Она не отвечает взаимностью. Другому отдано ее сердце. Я не могу назвать тут его имени, потому что тогда она не даст мне проходу, но оно, имя это, известно всем. Как и его веселые песенки (мне они тоже нравятся). Его усатое лицо знают даже те, кто никогда не смотрит телевизор. Но по улице-то они ходят, а значит, видят сумки с его изображением. Холщовые пляжные сумки с веревочками вместо ручек. В Гульгане на бабушкиной фабрике делают их.
В меня не влюблено полкласса. И четверть тоже. Вообще никто. Это папа находит во мне что-то особенное, а мальчишки – нет.
– Ты неправильно ведешь себя с ними, – сделала вывод троюродная Алла после вечера в клубе медработников.
А с Иваном Петровичем? С ним правильно? Позволила б троюродная Алла так сразу провожать себя, да еще с нелепой тележкой?
Я показала на посылки глазами.
– Их ведь ждут где-то.
– Еще как!
– А вы их куда везете?
– Как куда? Куда надо им.
– Им в Москву надо.
– Вот и прекрасно. Москва – там! – И махнул рукой на автоматы с газировкой.
Я никогда не задумывалась, в какой стороне Москва. По карте знала, а вот так, посреди города… Кажется, и правда там. К самым автоматам подъехал он. «Сироп апельсин», – было написано на светящемся окошке.
– Малиновый, – прочел Иван Петрович. – Хотите?
Я хитро глянула на него.
– Хочу малиновый.
– Пожалуйста!
Вымыл стакан, поставил, достал из ячейки «Возврат монеты» три копейки и – в щель их. Будто специально для него приготовили!
Автомат молчал.
– Надо кнопку нажать, – подсказала я.
Он посмотрел на кнопку.
– Вы думаете?
Мне так весело стало… Оказывается, и он чего-то не знает. Да еще такой ерунды! Ксюша в пять лет освоила всю эту премудрость.
Я нажала, и в тот же миг, фыркнув, в стакан ударила струя. Судя по цвету, вода не была малиновой. И апельсиновой тоже. Обыкновенная «чистая».
– Видите, что вы наделали, – упрекнул меня Иван Петрович. – Пейте теперь.
Пришлось пить…
Честно говоря, я никогда не видела, чтобы по городу разъезжали почтовые тележки, и тем не менее никто почему-то не обращал на нас внимания. Вот только двое мальчишек, пристроившись, шли рядом.
– А там что, мотор? – спросил один.
Иван Петрович поглядел на него сверху,
– Дурень! Мотор тарахтит.
Мальчишки прислушались. Ничего не тарахтело.
– Как же едет она?
– Очень просто. С горочки.
Оба глаза опустили. Я тоже. (Исподтишка). Ни малейшего уклона…
– А где горочка? – не отставал все тот же, любознательный.
– Везде, – ответил Иван Петрович. – Глобус видал?
– Ну…
– Не нукай. Возьми муравья… Муравья видал?
– Ну…
– Опять нукаешь! – строго сделал замечание Иван Петрович. – Возьми муравья, посади на глобус и понаблюдай за ним. Куда ни поползет он, всюду с горочки получится. Вот так и на Земле. Усек?
Мальчишки озадаченно молчали. А мне вдруг вспомнились прощальные слова троюродной Аллы: «Вале, Женечка!» Что, интересно, означают они? Я спросила об этом у Ивана Петровича.
– Приятного аппетита, – ответил он, не задумываясь. – Испанский язык.
Запись пятая
БЕЛЫЕ ДЖИНСЫ
«Приятного аппетита…» Я медленно ем, «копаюсь», как говорит папа, – на это намек?
Но ведь сама же я и страдаю. У меня еще цело все, только-только начинаю, а Ксюшина тарелка уже пуста. На мою поглядывает. На мое мороженое или на мой арбуз.
– Женя! – говорит командирским тоном. – Поделись.
Не просит – требует. Я загораживаю тарелку ладонью.
– Чего это… Я сама хочу.
И слышу в ответ презрительное:
– Эгоистка!
Я еще и эгоистка! Что ей дали мороженого, что мне – тютелька в тютельку, а ведь она меньше меня и пищи, значит, ей требуется меньше. Она напоминает об этом всякий раз, когда, например, ее заставляют есть творог.
Забираю мороженое и ухожу в комнату. Она двигается следом, вплотную ко мне, чуть ли на пятки не наступая, и: «Эгоистка, эгоистка!» – рычит.
Из-за стола я встаю обычно позже всех.
– Кто как работает, тот так и ест, – ехидничает папа.
Это когда он в хорошем настроении, то есть когда выспался, когда все ладится у него и нет неприятных звонков.
Если начистоту, то папа прав: работа у меня не очень-то спорится. У меня неважная память, а способностей никаких.
– Ты просто не умеешь заставлять себя, – говорит папа. – Норовишь налегке пройти по жизни. Но при этом, – и я уже знаю, что последует дальше, – при этом пройти в белых джинсах.
В устах его это символ красивой жизни – белые джинсы. Сам же купил, а потом взял да и превратил в этот самый символ.
Сердце оборвалось, когда увидела их. До закрытия оставалось минут пятнадцать, и магазин был уже наполовину пуст. Папа привел нас сюда, чтобы купить подарки к Восьмому марта. Обычно он делает это заранее и втайне от нас, но на этот раз у него не было денег – лишь в самый канун праздника получил.
Это был уже второй магазин, куда мы заходили. В первом Ксюша выцыганила у него сумку – настоящую, «взрослую», на длинном ремешке. Сначала он предложил ее мне, я заколебалась, а когда Ксюша запричитала: «И мне, и мне!» – и папа, настроенный благодушно, заявил: «Ну, хорошо, возьмем две», – я категорически отказалась. Еще чего! Она вообще обезьяна. Без спросу надевает мои туфли и платья (они до пят ей), и даже лифчик, хотя у нее там ничего еще нет. И вот теперь мы, видите ли, будем расхаживать с одинаковыми сумками.
На нее белых джинсов, слава богу, не было. А мой размер спокойненько лежал – и размер и рост, но примерить не давали.
– Без примерки? – ахнула мама. – Нет, Евгения, нет! – И быстренько задвигала рукой, будто пчела липла к ней, а она ее отталкивала. – У меня не шальные деньги.
Всего пятнадцать минут оставалось до закрытия, завтра же праздник, потом выходной, а в понедельник разве купишь?
– Я укорочу их. Или удлиню, – говорю совсем тихо.
Громче нельзя: станут слышны слезы, которые уже подобрались и ждут, гадкие. Будь у меня время, я уговорила бы маму. Она ведь обещала, то есть выделила, или «ассигновала», как она говорит, деньги, только джинсы не попадались, теперь же лежат, как в сказке, но мама:
– Нет, Евгения, нет! – и делает ладошкой.
На папу я не надеялась: не по карману ему такие подарки. И вдруг:
– Сколько же стоит сие чудо?
Я живо обернулась, Неспроста спрашивает, поняла по тону.
– Сорок рублей, – отвечаю быстро, а сама глаз с него не спускаю. Неужели?
– Сорок ноль-ноль? – А на лице хитрая улыбка.
Я смеюсь и киваю.
– Сорок ноль-ноль.
Мама тотчас заподозрила неладное.
– Но ведь без примерки…
Папа делает вид, что не слышит.
– Берем? – спрашивает меня.
– Берем! – чуть ли не взвизгиваю я.
Медленно лезет папа в карман. Мама хватает джинсы, прикладывает ко мне так и этак, торопится и ворчит, но уже не на меня, не на транжиру-папу, а на тех, кто изобрел это глупое правило – продавать без примерки.
Ровно в восемь выходим из магазина со свертком в руке. В моей руке! Я счастлива. Да-да, я счастлива! Я понимаю, что это тряпка, что нельзя так переживать из-за нее и так ей радоваться, истинные ценности – это книги, музыка и так далее, но я так, я так рада! Прямо на улице целую папу в его худую и уже обросшую к вечеру колючую щеку. Он весел: утер нос скупердяйке маме, и это ничего, что через три дня он скажет:
– Ты любишь белые джинсы, это прекрасно, но худо, что ты при этом не любишь английского.
Не дословно надо понимать его (хотя и дословно тоже: к одежде я испытываю более нежные чувства, чем к английскому), а в том смысле, что жить я хочу с размахом, обязанности же свои выполняю спустя рукава. Иждивенческие настроения бродят во мне.
Самое ужасное, что я знаю все это не хуже папы. Знаю, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда (с детского сада помню). Что труд облагораживает. Что ликовать из-за модных штанов недостойно человека… Сама выкладываю все это Ксюше, когда на меня находит воспитательный зуд, а уж Ксюша – та куклам повторяет. Кукол воспитывает.
«Дневник Нины Костериной» подсунул мне папа. Я читала и глазам своим не верила. Неужели ей было столько же лет, сколько мне сейчас? Но почему, почему я такая пустая?! Такая недалекая,
– Уродина я…
– Ты? – удивился папа.
Я часто закивала.
– Ужасная.
Он улыбнулся.
– Послушай, у тебя и без того хватает недостатков, Зачем еще клепать на себя?
– Я не клепаю… Не клеплю… Не клеплю.
Папа внимательно смотрел на меня. Неужели даже он не понимает!
– Я не о внешности… – начала было, но он перебил:
– При чем тут внешность! – с досадой.
Я вопросительно глянула на него. Теперь уже я…
– Я ведь тоже урод, – признался он. – Правда, и внешностью тоже – в отличие от тебя, – но это ерунда. Если б знала ты, какая пропасть между тем, каким я хотел бы видеть себя, и между… – Недоговорив, протяжно втянул в себя воздух. На худом лице торчал нос.
Я улыбнулась ему.
– Ты тоже клеплешь на себя.
– Клепаю… Клеплю…
– Клеплю, – поправила я ласково.
– Угу, клеплю… У других отцы как отцы. Все знают, на все лежат в нагрудном кармане готовенькие ответы… А этот… Швырнул вас, и выплывайте, как знаете. Я ведь, наверное, и сказки потому пишу, что в реальной жизни не смыслю ни черта. А тут просто все. Снежинки… Корона…
Запись шестая
НЮРА – КОРОЛЕВА СНЕЖИНОК
Так называется одна из папиных сказок. И хотя героиню ее зовут Нюрой, все мы знаем, кто скрывается под этим именем. И как эта сказка родилась…
В детский сад ходила Ксюша, в старшую группу – то был последний год перед школой. И вот новогодний бал, танец снежинок. Праздничное платье сшила мама. Сколько разговоров было, сколько примерок, сколько показательных сеансов! Как красиво кружилась по квартире моя шестилетняя сестра!
– Похожа на снежинку? – пытала нас.
– Похожа, – клялись мы, – похожа!
А папа возьми да ляпни:
– Не просто снежинка. Королева снежинок.
У Ксюши аж глаза округлились.
– Королева?
– Ну, конечно, королева. Вон даже корона, – и на голову кивнул, – только невидимая.
Ксюша смотрела на него, нахмурив бровки. Осторожно к зеркалу подошла. Это ее любимый предмет в доме – зеркало. По часу может вертеться перед ним, потом: «А что? – произнести. – Ничего девочка!»– и отойти, виляя задом.
На голове и вправду сияла корона. Настоящая! Для всех невидимой была она, а для нее видимая. Стоило прикоснуться, и послушные снежинки выполняли любое желание. «Но запомни, – предупреждали они, – корона боится тепла. Пока она на твоей голове, никакая жара не страшна ей. Снимая же, ты должна хранить ее в холоде. Иначе она растает, и тогда сразу наступит весна».
Это означало, что королева перестанет быть королевой. Каждый год избирается новая…
Нюра из папиной сказки прятала корону в холодильник. Положив ее туда в первый раз, никак не могла уснуть и все бегала на кухню проверять, не случилось ли чего. «В чем дело?» – спрашивали удивленные родители, а она отвечала: «Проголодалась», – и жевала, бедная, то бутерброд с сыром, то холодную курицу.
Чудеса начались утром. Они начались с того, что в форточку – едва мама открыла ее – ворвались полчища снежинок. Как сумасшедшие плясали они, а устав, устраивались где попало. Одна, например, уселась на папин нос. «Кш! – гнал он ее. – Кш!» Вот так же реальный папа, который этого сказочного папу выдумал, гонял в доме у гульгановской бабушки… Нет, не снежинок – откуда взяться им в Гульгане, где пальмы растут! – мух.
Мы помогали ему. Вооруженные полотенцами, еще засветло выдворяли их (иначе чуть свет перебудят всех), но, случалось, одной или двум удавалось спрятаться, и тогда, уже перед самым сном, начиналась охота.
Трудней всего было муху выследить. С жужжанием пронесясь из одного конца комнаты в другой, она вдруг исчезала. Затаивалась в укромном местечке, и попробуй отыщи ее!
Папа хлопал в ладоши, Возгласы издавал. Шелестел газетой и двигал шторами. В самые темные углы заглядывал. Все бесполезно. А муха тем временем сидела на потолке, у всех на виду, и тихо себе посмеивалась.
Папа подвигал стул. Но со стула до потолка не достать, поэтому сверху взгромождалась табуретка. С предосторожностями, не дыша, взбирался он на эту пирамиду. И все мы тоже не дышали. Не знаю, как Ксюша, но я – стыдно признаться! – болела за муху. Мне хотелось, чтобы она еще полетала, а папа поохотился бы за ней. Подтягивая синие трусы, скакал он со стола на стул, со стула – на кровать, и все это без единого звука, на длинных своих ногах. Не выдержав, я прыснула. В тот же миг залилась Ксюша. Папа гневно обернулся.
– Тунеядки! – зашипел он (не закричал, зашипел: боялся, что ли, насмерть перепугать муху?). – Вы на пляж пойдете, а мне работать.
Надо было видеть его в эту минуту! Длинный, лысина блестит, в руке – тюлевая накидка. Мы лежим с вытаращенными глазами, изо всех сил сдерживаем смех.
Наконец муха села – как раз над Ксюшиной кроватью, и папа, встав на тумбочку, прихлопывает ее полотенцем. Тотчас принимаемся мы перетряхивать одеяло и простыни. Вот она! Салфеткой берет мама черный трупик и на вытянутой руке торжественно выносит из комнаты.
Мы ложимся. Мне немного жаль, что все кончилось, что вообще кончился день. Папа устраивается в постели читать при настольной лампе, тишина (терпеть не могу тишины), и вдруг – ж-ж-ж. Муха, целая и невредимая, – вот умница! – подлетает к освещенной стене, бьется об нее, ищет что-то и, не найдя, взмывает к потолку. И тут меня осеняет.
– Ты дохлую муху убил, – говорю я, хихикнув. И объясняю, что как раз в том углу живет паук, я сама видела, как он…
Договорить не успеваю. С диким, нечеловеческим воплем срывается Ксюша с постели, вообразив, что не только муху, но и паука сбил папа и теперь он крадется по ноге.