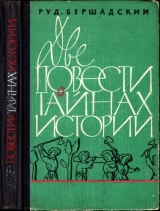
Текст книги "Две повести о тайнах истории"
Автор книги: Рудольф Бершадский
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
В исторической литературе до самого последнего времени господствовало убеждение, что в древнерусских городах культурные слои должны быть чрезвычайно толстыми: за чистотой там, мол, не следили. Даже в 1948 году уже упомянутый нами академический двухтомник «История культуры древней Руси» утверждал, ведя речь о новгородских улицах, что «…никакой заботы об очистке их не проявлялось, на улицу выбрасывались нечистоты из прилегавших жилищ, мостовые зарастали толстым слоем грязи».
Это убеждение, однако, основывалось не на данных раскопок, а выводилось умозрительно, по аналогии с западноевропейскими городами, узкие улицы-щели которых действительно отличались и невыносимым зловонием и лютой грязью.
Но столь категорично переносить это представление на Новгород – опрометчиво. Сохранился, например, «Устав Ярослава князя о мостех» (то есть о замощении Новгорода). Этому закону придавалось значение государственного, он входил в сборники основных законов и позднее, в XIV и XV веках. «Устав» подробнейшим образом перечисляет, кому о какой улице надлежит заботиться, и никому не дает освобождения от этой повинности: ни Прусской улице, где жили по большей части бояре, ни самому владыке – новгородскому архиепископу («А владыке сквозе городняя ворота… до Острой городне»), ни тысяцкому, ни посаднику, ни иноземным купцам, ставившим свои дворы в Новгороде, ни, наконец, даже князю («от Великого ряда князю [мостить улицу] до Немечкого вымола [пристани]»).
Да и сами улицы были не какие-то щели, куда не проникает солнце даже в полдень и где не разъехаться двум повозкам (такие сохранились во многих средневековых городах на Западе, да и у нас в стране, – скажем, во Львове, Риге, Ереване, Таллине, Вильнюсе, Бухаре и кое-где еще). Не в пример всем этим городам и им подобным, улицы Новгорода были широки. До раскопок на Дмитриевской это можно было только предполагать – по былине о Ваське Буслаеве, где однажды говорится о широких улицах Новгорода. Но теперь это просто видно.
Вот на дне раскопа очищена такая мостовая шестиметровая. Это бывшая Холопья улица. Я как раз опустился на ее настил.
И сразу же был гневно атакован начальником участка – молодым аспирантом с бронзовым лицом и в распахнутой ковбойке:
– Что вы делаете?!
– Ничего! – искренне удивился я. – Впрочем, ищу Артемия Владимировича Арциховского.
– Как же вы смели стать на настил?
– Простите, а что ему сделается?
Но начальник участка так яростно махал руками, что я предпочел сойти в месиво грязи. Беда с воинственными археологами, особенно молодыми: они всегда подозревают посторонних в недостатке должного уважения к их науке и их персональным трудам! А я тем более ступил, кажется, на тему его будущей диссертации…
Что ж, ему будет о чем писать. Расчищенная Холопья улица – живое опровержение домыслов, что Новгород не мог быть чище, благоустроенней и культурней других городов средневековья. Нет, был. Был значительно выше других средневековых городов по своей культуре. И, что еще важнее, культура эта была не поверхностной, а проникла во все поры жизни города, потому что была глубоко народной, подлинно массовой.
Это проявлялось в чем угодно. В стиле дошедших до нас новгородских летописей: они отличаются редкой деловитостью и сочностью языка, и в этом сказываются сила и мощность определявшего их особенности языка народного. В новгородской церковной живописи – в том, как изображались святые: отнюдь не люди не от мира сего, а типичные, смело списанные прямо с натуры живые новгородцы и их жены. В архитектуре новгородских церквей: как только новгородцы свергли верховную власть князя, на вкусы которого и, соответственно, на облик возводившихся по его заказу храмов более всего оказывали влияние Киев и Византия, – немедленно, со второй половины XII века, меняется стиль новгородской архитектуры. Наблюдается решительный возврат к народным традициям местного деревянного зодчества и к основной форме его – кубической клети сруба.
Археологические находки неоспоримо подтверждают правильность утверждений о глубоко народном характере новгородской культуры.
В постоянно сырой новгородской почве отлично сохраняются дерево, кожа, лыко. Это – счастье для археологии, потому что обычно приходится только по догадкам или описаниям судить о том, какие деревянные предметы употреблялись в древности. В культуре приильменских славян дерево играло настолько значительную роль, что представить себе эту культуру без него невозможно. Из дерева строили жилище, изготовляли важнейшие орудия труда, – например, орудия пахоты и охоты, вроде сохи, бороны, рогатины, лука. Дерево шло на изготовление различных предметов хозяйства и домашней утвари – ведер, бочек, ушатов, посуды, столов, лавок, люлек, корыт и т. д.; из него сооружали лодки, корабли, сани, телеги, лыжи.
И едва начались планомерные раскопки Новгорода, как его почва обнажила сотни, тысячи, десятки тысяч обломков и даже полностью сохранившихся деревянных предметов. И так как это были преимущественно массовые предметы материальной культуры, то на основании их выводы об ее уровне можно было делать вполне точные, а не только предположительные, как приходится поступать в случаях, когда находка бывает единичной.
Оказалось, громадное количество самых простых чаш, ковшей, ложек и т. п. покрыто искусной художественной резьбой. Это свидетельствовало, конечно, о высоком уровне народного искусства. Но когда сравнили эти орнаменты с древнерусскими книжными инициалами, заставками и миниатюрами – то есть с вещами явно не массовыми, так как рукописные книги были неимоверно дороги и переписывались по заказу только очень богатых людей, – то обнаружилось, что узоры этих книжных украшений весьма сродни узорам резьбы на черенке самой простой ложки из захудалой избенки простолюдина. Народность накладывала прочный отпечаток на все без исключения элементы новгородской культуры.
Хотя и согнанный в грязь, я с интересом и волнением рассматриваю раскрывшуюся передо мной картину. Да и как не волноваться: ведь я стою – буквально! – в XIV веке! Вот стены дома XIV века, на которые никто с тех пор и до сегодняшнего дня не мог посмотреть. Вот улица, по которой в последний раз проходили люди лишь в XIV веке. Вот изукрашенная резьбой сломанная миска, тогда же выброшенная в придорожную канаву и пролежавшая там 600 лет.
Видны следы канавы для стока воды и нечистот. Канавы прорывали с такой же аккуратностью, как мостили улицу.
На углу у дома врыта в землю бочка. Она всегда была полна воды: на случай пожара.
Вот очищен бревенчатый настил, ведший с мощеной улицы во двор усадьбы. Заботливый хозяин засыпал толстым слоем щепы́ (а затем замостил) все лужи и ямины в своем дворе: не выглядеть же ему хуже, чем соседу! А у того тоже замощены все подъезды к хозяйственным строениям во дворе. Пусть народ знает: хозяин – основательный, не по грязи поведет покупателя к амбарам, где хранит готовый товар, телеги у него не сломаешь!
Вечное оживление царило на улицах Новгорода. Светились двери кузниц, стучали молотки сапожников несло вонью от вымачиваемых кож из мастерских кожевников. «Хитрецы», как звали вообще кузнецов, а златокузнецов – ювелиров – в особенности, сидя у самых окон, поближе к свету, наносили замысловатые, одухотворенные щедрой фантазией русские узоры на браслеты, кольца и прочее «узорочье». Шипело дерево на токарных станках, на которых обрабатывали изящные вазы, чаши и другую посуду. Заезжий датский купец не мог глаз отвести от токаря, вытачивавшего шахматную фигурку, – уж больно ловко работает!
– Что́, немец, занятно? – с довольной усмешкой спрашивал его умелец-мастер.
Но потому и назывался любой иностранец немцем, что был нем в разговоре с русским – не понимал его. Однако, догадавшись, о чем речь, датчанин восхищенно округлял рот:
– О-о!
– То-то и оно, что «о-о»! А ты, может, думал: лаптем щи хлебаем!
Впрочем, фантазия увела меня от истины: вряд ли новгородец сказал бы что-нибудь о лаптях – он ходил в кожаной обуви. Несмотря на то что, как уже приходилось упоминать, лыко превосходно сохраняется в новгородской почве, здесь не найдено ни одного лаптя; кожаной же обуви – десятки тысяч экземпляров, и притом какой угодно: от простых «поршней» – мягких туфель из сыромятной кожи, внутрь которых клали вместо стельки сено, – обуви простонародья, до роскошных, описанных былиной сапожков из «зелена сафьяна» с загнутыми кверху франтоватыми носками, с тиснеными голенищами, с изогнутым тонким каблуком. По грязи в таких сапожках не пройдешься! Но по новгородским улицам в них можно было разгуливать…
Обгоняли друг друга тяжелые, богато изукрашенные возки знати – владыки, посадника, тысяцкого, именитых бояр и купцов; пышные поезда заморских послов проплывали в кремль, – перед Господином Великим Новгородом и заискивали и побаивались его. А навстречу грохотали по мостовым телеги, тяжело нагруженные товарами для кораблей, стоящих у многочисленных пристаней; тащили – то волоком, то на санях или тяжелых катках – каменные блоки для строительства новых хором и храмов.
Оттого и изнашивались мостовые быстро, хотя настилали их на совесть. Сперва выравнивали почву – бугры срезали, а колдобины засыпа́ли, затем вдоль улицы укладывали длинные тонкие бревна – лаги – в два или три ряда. На них поперек, как на рельсы, настилали плотно пригнанные толстенные, до метра шириной, сосновые плахи. Сверху плахи плоско стесывали, а снизу, в круглой части ствола, вырубали выемки, которыми плаха ложилась на лаги: чтобы не ерзала. Мостовая получалась устойчивая и гладкая, как пол. Ее постоянно поддерживали в порядке: если надо, заменяли искрошившуюся плаху новой, а когда приходила в ветхость вся, перестилали полностью. Экспедиция Арциховского расчистила и сняла на Холопьей улице двадцать пять настилов мостовой, лежавших один на другом, причем верхний оказался сооруженным в шестнадцатом веке, а нижний, самый ранний – в десятом! Получается: улица целиком перекрывалась заново примерно каждые двадцать лет.
И еще одну интересную подробность выяснила расчистка древних мостовых. Очень часто лаги последующего настила лежали непосредственно на плахах предыдущего, «культурный» слой земли и навоза между ними отсутствовал начисто. Но ведь чтобы его не было, мостовую следовало хорошенько, и притом изо дня в день, подметать! По-видимому, это и делали.
Нет, неосновательно переносить представление о грязи средневекового города Западной Европы на Новгород. Русь не только не уступала Западной Европе в своем культурном развитии, но во многом, особенно до татарского нашествия, опережала ее. Если, в частности, обратиться к тем же мостовым, то мы узнаем, что в Париже они впервые появились только в конце XII века – в 1184 году, в Германии (в Нюрнберге) – в XIV веке, в Лондоне – в XV, в 1417 году.
Причем в Западной Европе улицы тогда мостили только перед дворцами королей и знати. А Холопья улица в Новгороде, как говорит само ее название, – улица простого люда, ремесленников. Вот и мастерские их раскопаны, одна к другой лепятся.
Кто проходил последний раз по этой мостовой, прежде чем ее занесло на многие метры землей? Давно отгремели по ней подковы коней и не загремят больше. Истлели кости и коней, и тех, кого они везли. А кого везли кони? Может, и не боярина никакого, а простого землепашца из недальней деревни, отряженного справиться у господина, каково будет его слово: засевать его землю или нет; земля уже готова, говорят старики.
И вот едет посланец без седла и стремян – по-деревенски, подстелив на спину костлявой лошаденки кусок рядна помягче да положив за пазуху, чтобы не зачерствел, краюху хлеба, завернутую в льняную тряпицу. Кляча все прядает ушами, оглушенная непривычным грохотом города, и шарахается из стороны в сторону. И хозяин чувствует себя не в своей тарелке: народищу-то сколько! Тыщи! И в шелках-то и в бархатах! Добро бы, праздник какой, а то в будни! А купеческая жена прошла, так у нее даже в посохе камень драгоценный!
– А ну, с дороги! – кричит раззявившейся деревенщине озорной возница, лихо избоченившийся на облучке пролетающего мимо возка, и наподдает его коняге витым кнутом. Огрел – и уж нет его, только зад возка перед глазами покачивается!
Ох, и кони у бояр! Небось не соху таскают!
– Что, паря, маленько досталось? – участливо, хотя и не без усмешки, спрашивает деревенщину какой-то прохожий.
Тут деревенщина чувствует, что кнут, пожалуй, правда, задел и его немного.
– В другой раз не будешь ворон ловить! Чай, в Новгороде, не у себя на печи!
Прохожий, видать, из своих: простой. И боек! Хорошо бы перемолвиться с таким о том, о сем, дорогу спросить…
– Некогда, парень, лясы точить! За болтовню и меня хозяин по головке не погладит – почище, чем у тебя, спина зачешется!
– А твой хозяин – кто?
– Писец. Книги переписывает. Я в ученье у него.
– Значит, и сам грамоту ведаешь?
– Что мудреного! Ведаю!.. Ну, так ты спрашиваешь, как тебе к твоему боярину проехать? Езжай так: мимо вымола, где корабель строят, – увидишь: на носу зверь страшный, из дерева резанный, пасть разинута и клыки торчат; потом через Волхов по Великому мосту; как на ту сторону переберешься, торг минешь. А там спроси у кого еще разок. Язык до Киева доведет!
И едет дальше деревенщина и дивуется на раскрашенных резных петушков над хоромами, которые живо вертятся под ветром: куда ветер, туда и они. И опасливо сторонится богатых возков под кожаным верхом: не возок – дом, даже слюдяные окошки поделаны! И минует пристань, – плотники полдничать сели; только дождик припустил. Ну, да они все равно прикрыли головы и спины рогожками и жуют всухомять – небось некогда. А простому человеку всюду приправа к хлебушку – один дождик. Эх ты, жизнь, жизнь…
…Давно уже нет в живых ни смерда этого, ни разбитного прохожего, которого он встретил, ни боярина, лениво глядевшего через слюдяное окошечко, как посы́пал дождик и как его кучер огрел кого-то. Но вот вижу я: снова показались на свет рваные поршни, в которых приехал в Новгород смерд, да тут и бросил их – совсем прохудились! Тонкой волосяной кисточкой очищает их от грязи студент-археолог и старательно записывает в толстую «общую» тетрадь, где они найдены, в каком слое, в каком углу раскопа, и зарисовывает место находки – первой своей находки! – и даже фотографирует его, не удовлетворяясь тем, что и без него специалист-фотограф сделает снимок. Потом, когда эти поршни передадут в музей или ученому-исследователю, их будет сопровождать подробное описание обстоятельств, при которых они были извлечены из-под вековых напластований. Иначе какой в них прок: рванье, больше ничего!
И вижу еще, как извлекают из земли тяжелый подпятник оси возка; и рогожку, которой прикрывались плотники; и кнутовище с обрывком плетеного ремня…
И вдруг оживает передо мною все, и, кажется, представляешь себе даже, о чем думали эти люди. И все это становится не только невероятно близким, но неожиданно ощущаешь, как постепенно наполняет тебя совершенно живая злость к развалившемуся на кожаных подушках боярину, который с такой надменностью и равнодушием, словно на грязь на мостовой, кинул взгляд на стегнутого кнутом смерда, на сухоядничавших плотников под унылым осенним дождем…
Сперва даже удивляешься остроте вспыхнувшего чувства – ведь это давным-давно в прошлом! – пока не поймешь: да нет же, это не просто прошлое – это твоепрошлое, то, из чего сложился облик не вообще какого-то народа, а именно твоегонарода; а ты ведь не случайный его представитель, ты плоть от плоти и кость от кости его. Что же ты удивляешься, что это тебя так задело? Это же ты самого себя вдруг увидел, каким был бы шестьсот лет назад, – еще бы не взволноваться!..
Артемий Владимирович Арциховский гостеприимно знакомит меня с раскопками и предварительной обработкой находок.
В раскопе тесно. Он спускается террасами. Одна – слой пятнадцатого века, она выше остальных. На другом участке дошли уже до двенадцатого. Туда из пятнадцатого спускаются по стремянке. Вот так и совершаешь путешествие с поверхности земли в глубь веков.
Больше ста научных работников копают землю, около двухсот рабочих. Много? Нет, наоборот, если бы не нововведения Арциховского, с раскопками, которые тут ведутся, не справились бы и тысяча человек. Заместитель начальника экспедиции по научной части Борис Александрович Колчин подсчитал: только пять процентов всего времени и труда, необходимых на производство раскопок, тратилось бы на раскапывание и просмотр вынутой земли; остальное ушло бы на то, чтобы избавиться от нее после этого!
Ведь как происходит дело? Спускается археолог на дно раскопа, копает землю лопатой (или ножом, если боится, что лопата – чересчур грубый инструмент для вскрытия показавшейся или предполагаемой находки, или даже хирургическим ланцетом). Перещупывает пальцами каждый комочек отваленной почвы, пересматривает каждую пылинку ее.
Теперь проверенная земля больше не нужна, она начинает мешать. Однако куда ее деть? Вывалить за край котлована? Это не так просто: котлован ушел на глубину больше семи, скажем, метров. Проделывать из-за каждой лопаты путешествие по стремянкам вверх и вниз не слишком продуктивно – научный работник превратится в носильщика.
Тогда, может быть, поручить это дело рабочим? Но они и так заняты: ведут черновой просмотр раскопанной земли. Чуть заметят в ней что-нибудь необычное, сейчас же прекращают дальнейшую работу, чтобы не потревожить находку, и зовут научного сотрудника экспедиции.
Значит, кроме таких рабочих, завести еще и специальных носильщиков земли?
Невозможно: это создаст толчею в раскопе, при которой, не ровен час, откопанную вещь нечаянно обратят в прах.
Так как же все-таки избежать непроизводительной траты сил? Тем более если учесть масштаб раскопок: самые большие в мире; свыше 10 тысяч кубометров вынутого грунта; а по площади – целый квартал древнего города.
И Арциховский пошел на смелое новшество: впервые применил на археологических раскопках скиповые машины и транспортеры. В результате вместо пяти процентов времени научные работники его экспедиции получили возможность тратить на чистое вскрытие культурного слоя 75 процентов времени!
Но все же и сейчас нельзя отличить научных сотрудников по внешнему виду от рабочих: все одинаково перепачканы грязью, все одинаково загорелые, и так же около каждого – одинаковая кучка проверенной земли. Человек осторожно, всего на несколько сантиметров, втыкает лопату в грунт и легонько отваливает землю. Затем, забирая в руки неполную пригоршню ее, перещупывает каждый комок пальцами, а напоследок, на всякий случай, еще перетирает. Ограничиться проверкой только на глаз нельзя: а вдруг в самую середину комочка забралась какая-нибудь бусина? Или монетка? Или даже крохотный кусочек скорлупы грецкого ореха?
Хотя невелика вроде прибыль – найти пустую скорлупу грецкого ореха, но ведь она рассказывает о том, что попала в Новгород из Средней Азии!
И только по одному можно безошибочно отличить научного работника: он не расстается с полевой книжкой. В ней и записи координат, отмечающих каждую находку, и догадки о назначении и смысле ее, если не сразу видно, что она собой представляет, и зарисовки. Далеко не все, конечно, попадает в печать из этих тетрадей, но все записи из них будут обсуждены на регулярных общих собеседованиях научных работников и студентов, занятых в экспедиции, и внимательно изучены руководителями работ. Одному человеку не под силу раскопать целый квартал города, да еще сделать при этом необходимые науке записи обо всех подробностях, сопутствовавших каждой находке и, следовательно, проливающих на нее дополнительный свет. С этим может справиться только коллектив. Но это, конечно, нисколько не исключает того, что каждый член коллектива, кроме того, что обогащает своим трудом разработку основной темы раскопок, заданной руководителем – в данном случае профессором Арциховским, – имеет полную возможность заняться еще и собственной научной темой. Больше того: коллективная работа всячески способствует этому.
Например, диссертация уже упоминавшегося нами заместителя А. В. Арциховского – Б. А. Колчина, историка и в то же время инженера, – о металлургии в древней Руси более всего опирается на новгородские находки. Новгород дал Колчину неоценимый материал для выводов: он сам, как и его товарищи по экспедиции, обнаружили здесь и домницы, и горны, и кузницы, и множество металлических предметов. Трудно перечислить даже основные из них – таково их разнообразие: наковальни, молоты, молотки разных видов, щипцы, зубила, напильники, ножи, всякого рода скобы, серпы, косы, сошники, гвозди, весы, гири, замки, броня, кольчуги, мечи, сабли, боевые топоры и т. д. и т. п.
Вообще «…железо и сталь в жизни древнерусских людей имели широкое распространение и многообразное применение. Основные орудия труда земледельца и строителя были сделаны из железа и стали. Весь инструмент многочисленных ремесленников был из железа и стали, как и все оружие воинов…
Поэтому изучение истории техники добычи и обработки металла имеет исключительный интерес для понимания процесса экономического развития древней Руси» [21]21
Б. А. Колчин. Мастерство древнерусских кузнецов. «По следам древних культур. Древняя Русь», стр. 162 и 158.
[Закрыть].
Но в свете этого не менее показательно и то, что среди новгородских ремесленников больше всего мастеров было занято обработкой металлов – производством, которое определяло развитие и уровень всех прочих ремесел.
Археологические находки при раскопках Новгорода, воочию предъявленные советскими учеными, извлекшими их из-под напластований веков, разбили в числе других еще одну старую «теорию», будто бы Новгород был городом исключительно торговым, будто бы производство в нем невозможно даже сравнивать с западноевропейским.
Эта «теория» шла от так называемых норманистов, утверждавших, что только приход на Русь норманнов (или варягов, как их называли у нас), в частности Рюрика, позволил Руси превратиться в самостоятельное государство. Норманисты старательно принижали русский народ и русскую культуру во всем, и еще великий Ломоносов начал с ними непримиримую научную борьбу.
Артемий Владимирович Арциховский показывает мне деревянную клепку от бочки и рассказывает ее историю. Так как экспедиция подвергает все находки, помимо прочего, и технологическому исследованию, то вместе с остальными деревянными предметами, извлеченными из земли, клепку направили знатоку древесины профессору Вихрову. И вот он присылает лабораторный анализ: «Клепка – из тиса». А деревянные гребни, украшенные типично новгородским орнаментом, свидетельствовавшим, таким образом, о месте их изготовления, оказались самшитовыми. Но, как известно, ни тис, ни самшит в Новгороде не растут. Клепка, очевидно, попала в Новгород вместе с бочкой, привезенной из Западной Европы. Гребни же, несомненно, были сделаны в Новгороде, куда для этого привозили и тис и самшит. Перечень видов ценного сырья, из которого в Новгороде выделывали готовую продукцию, конечно, не исчерпывается тисом и самшитом. Выяснилось: ряд вещей был изготовлен в Новгороде из уральской пихты, из сибирского кедра, из балтийского янтаря. Это нанесло так называемой торговой теории сокрушительный удар. Стало очевидно, что к новгородским мастерам везли сырье откуда угодно, включая, между прочим, и Западную Европу, и что, значит, Новгород был не только торговым городом, но и крупнейшим промышленным центром своего времени, отражавшим тем самым общее высокое развитие культуры Руси…
Когда предварительная обработка находок будет закончена и их отправят в Москву – может быть, и клепку выставят где-нибудь в музее. И будет очень жалко, если посетитель, не дав себе труда поинтересоваться, почему вдруг выставлена простая деревянная клепка, пройдет мимо нее.







