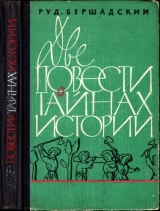
Текст книги "Две повести о тайнах истории"
Автор книги: Рудольф Бершадский
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Руд. Бершадский
Две повести о тайнах истории

На раскопках древнего Хорезма

Телеграмма из пустыни Кызылкумы
 В сентябре 1948 года из Кызылкумов в Москву, в Институт этнографии Академии наук СССР, пришла телеграмма от директора института – руководителя Хорезмской комплексной экспедиции Академии наук профессора Толстова. Вот что она гласила:
В сентябре 1948 года из Кызылкумов в Москву, в Институт этнографии Академии наук СССР, пришла телеграмма от директора института – руководителя Хорезмской комплексной экспедиции Академии наук профессора Толстова. Вот что она гласила:
«Открыт архив древнехорезмийских текстов на дереве зпт бумаге зпт извлечены фрагменты одиннадцати документов тчк Находки продолжаются тчк».
В Москве стояла жара. Как всегда летом, с бесчисленных строек вздымалась белая пыль известки. Народу в институте было немного. Большинство сотрудников еще с конца весны кочевали по Союзу в научных экспедициях, а оставшиеся старались укрыться от зноя где только могли – преимущественно в прохладных залах Исторической библиотеки.
Но весть о толстовском открытии облетела всех моментально.
Одиннадцать документов! До сих пор никому из ученых вообще не был известен ни один письменный документ древнего Хорезма, а тут – сразу одиннадцать!
Люди, особенно хорошо изучившие по совместному труду в науке нетерпеливую, мгновенно воспламеняющуюся натуру директора своего института, добавляли:
– Учтите еще вот что: столько документов извлекли из-под земли, конечно, не в один прием и даже не в одни сутки. И если при всем этом Сергей Павлович не отправил телеграмму-молнию тотчас, как обнаружил первый документ, значит, с самого начала увидел, что напал на нечто феноменальное!
Урочище Топрак-кала в пустыне Кызылкумы, где экспедиция Толстова откопала архив древнехорезмийских рукописей, и впрямь представлялось каким-то золотым дном для археологов. В сорок пятом и сорок шестом годах они нашли там монументальную живописную роспись стен – разнообразные картины: женщина, собирающая в фартук виноград и персики; женщина, играющая на арфе (а арфа была, к слову сказать, сродни ассирийской, – бог знает, в какие дали еще не открытых исторических связей уводило одно это сходство!); голова мужчины – он задумался и оперся лбом на согнутые пальцы, и как естественна была его поза, как экономно и смело графическое решение композиции, о каком высоком уровне художественной культуры говорил стиль этой картины!
В сорок седьмом году из-под напластований слежавшегося песка на той же Топрак-кале извлекли уже и скульптурные изображения – и какие! Не мудрено, если на территории древней Греции или Рима находят статуи, сохранившиеся под землей на протяжении тысячелетий: они мраморные. А статуи, которые обнаружила экспедиция Толстова, были из необожженной глины! Оштукатурены алебастром, по алебастру раскраска: в углах пунцовых губ красавицы – улыбка, на нежно-румяных щеках – ямочки; чуть приподнята смоляная бровь над карим, немножко выпуклым глазом, что внимательно и приветливо смотрит прямо на вас… А возраст красавицы – тысяча семьсот лет!
Вообще, что ни год, то открытия Толстова были более и более значительны. Причем, как правило, им предшествовало большое количество гипотез. Кстати, немало историков поначалу относились из-за этого к утверждениям С. П. Толстова с недоверием. Но в конце концов, по мере того как он выкладывал на стол все больше доказательств своей правоты – и лингвистических, и палеогеографических, и из десятка еще других дисциплин, – эти историки вынуждены были соглашаться: да, хотя молодой ученый горяч, пожалуй, непозволительно, но в какой-то мере, кажется, прав, настаивая на выдающемся месте своего древнего Хорезма в истории развития народов нашей родины.
Конечно, это было признание. Однако Толстова оно не удовлетворяло. Дипломатом он не был и дипломатических оговорок не признавал. Как это: «его» древнего Хорезма? Нет-с, будьте любезны признать, что и вашего! Какое, позвольте спросить, есть у вас право считать заурядным эпизодом истории империю, связи которой распространялись от Аральского моря до Венгрии на западе, до берегов Индии на юге, до Прикамья на севере, Китая на востоке? К державе, при дворе правителей которой расцветали самые выдающиеся научные гении средневековья – ал-Бируни, Авиценна? Не могли же расцвести такие гении в историческом захолустье! В стране, народ которой тысячелетиями отстаивал свою независимость против всех и всяких чужеземных завоевателей, – а были среди них и Александр Македонский, и гунны. Это во-первых.
А во-вторых, попробуйте доказать, что какой-то иной стране, а не Хорезму, человечество обязано наукой, именуемой «алгебра», и иному народу, а не предкам нынешних узбеков и каракалпаков! Не докажешь этого! Факт, что именно здесь, в северо-западном углу нынешней Узбекской республики, в свое время плодотворнее всего скрестились на почве богатейшей местной науки индийская алгебра и греческая геометрия. Их синтез лежит в основе современной математики. А произвел его впервые хорезмиец Мухаммед ибн-Муса ал-Хорезми. Пора восстановить истину. Тысячу лет Мухаммеда ибн-Мусу называли: «арабский ученый», хотя он даже в имени своем подчеркивал, что он «ал-Хорезми», то есть хорезмиец. Одно из слов заглавия его трактата, где впервые были сформулированы положения современной алгебры, звучало: «ал-Джабр». Отсюда и самое название: «алгебра».
Разве можно отнестись ко всему этому, лишь как к малозначительным историческим анекдотам? Нет, наоборот: если от такой мощнейшей цивилизации не осталось никаких письменных памятников, значит тем настойчивее следует пытаться разыскать их и воспроизвести с заслуженной полнотой историю страны, создавшей подобную культуру. Кто знает, чем может быть еще обязан мир Хорезму и вообще народам Средней Азии!..
…Как только в нашей редакции стало известно, что Толстов обнаружил первые древнехорезмийские письменные памятники, я вылетел на раскопки.
Я вылетел из Москвы утром. Вечером того же дня, покрыв 2800 километров, был в Ташкенте, на другой день к полудню, пролетев еще 1100, добрался до Нукуса – столицы Кара-Калпакской автономной республики.
Земля, наблюдаемая с большой высоты, была лишена подробностей. Запомнилось лишь то, что уж очень бросалось в глаза. Например, что вскоре за Куйбышевом она совершенно перестала зеленеть – пошла сплошь серо-желтая.
Ослепительно ударила в глаза синь Аральского моря. Оно казалось еще более синим от сочетания с нестерпимо желтыми голыми берегами. Даже у берега не смогло это море дать жизнь растительности.
Близ Арала наш самолет производил посадку – в аэропорту Джусалы. Накаленная, твердая как камень, сухая земля, десяток серо-желтых от пыли домишек, кадка с водой, бока которой лижет тяжело дышащая собака. Однако на поверхности кадки нет ни капли влаги. Как только из Кызылкумов (а они рядом) тянет ветер, дышать становится трудно, зной обжигает легкие.
Хорошо, что самолет в Джусалы не задерживался: в воздухе, на высоте 2000 метров, снова легче дышать. За какими крепкими запорами лежал этот заповедный древний Хорезм!
От Джусалы летим до Ташкента, а там, через Чарджоу, вдоль Аму-Дарьи до Нукуса. Над горами, над песками, и снова над горами, и снова над пустыней. Только и разница, что пустыня слева от Аму-Дарьи называется Каракумы, а справа – Кызылкумы. Вдоль берегов реки – лента оазиса. Но как низко мы ни спускаемся порой, пустыни ни разу не исчезают из поля нашего зрения.
У цели. Нукус, пустыня, негры
Почтовый адрес Толстова, запасшись которым я оставил Москву, был: «Нукус, до востребования». Я и отправился в Нукусе на почту: если из лагеря приезжают за корреспонденцией ежедневно, тогда – чего проще! – дождусь нарочного и отправлюсь на Топрак-калу вместе с ним. Если же дело обстоит не так, то все равно на почте, наверное, знают, как скорее добраться до раскопок и где они точно. На моей двухкилометровой карте Топрак-калы не было.
Действительно, девушка в окошке «Прием заказных и выдача до востребования» экспедицию Академии наук знала:
– Как же, как же, от них все время кто-нибудь приезжает. Эта Топрак-кала где-то в пустыне, далеко… Чаще всего приезжает шофер Коля… Не знакомы? Ну, неважно. Жаль только, что они бывают нерегулярно. Как раз позавчера заходили…
Я задумался. Это обидно – гнать из Москвы сломя голову, а потом у самой цели засесть неизвестно на сколько, карауля на нукусском почтамте шофера Колю.
Девушка увидела, что я загрустил не на шутку. Решила помочь:
– Знаете что? Если они вам так нужны, то попробуйте зайти к товарищам Джапакову или Сеитову. Вы ведь из Москвы, верно? Они уж обязательно помогут вам скорее доехать до экспедиции.
– Кто это: товарищи Джапаков и Сеитов?
– Джапаков – председатель нашего Совета Министров. Сеитов – секретарь обкома партии. До них недалеко – полтора квартала прямо, потом налево, и сразу увидите: большу-ущий двухэтажный дом с красным флагом. Там и Президиум Верховного Совета, и Совет Министров, и обком – всё в одном месте. А если решите, не заходя туда, отправиться на автобусную станцию, то это в другом конце города. Только на Топрак-калу машины не ходят, я вам говорю авторитетно.
Девушка продолжала наставлять меня еще, но я ее больше не слушал. Пожалуй, она права. Чтобы не терять времени, надо отправляться в обком.
Я не собирался беспокоить секретаря обкома, но едва ему доложили, откуда я и что я разыскиваю экспедицию Толстова, как он сам пригласил меня зайти. Он оказался превосходно осведомленным обо всех достижениях экспедиции.
– Как же, это общая наша радость – и всей советской науки, и наша национальная особенно. Вам, конечно, известно злобное утверждение идеологов-колонизаторов, будто народы Средней Азии и, в частности, мы, каракалпаки и узбеки, не потому на протяжении многих веков были отсталыми народами, что чересчур долго служили объектом завоеваний, а потому, что-де вообще не способны к самостоятельному развитию. Что всем, что мы имели, мы якобы обязаны лишь грекам, потом арабам, – но только не самим себе! Конечно, это клевета на наши народы. Конечно, не будь у наших предков завидного, богатого хозяйства и высокой культуры, завоеватели не зарились бы на нашу страну. А ведь нас старались завоевать постоянно! Но куда лучше, когда это можно доказать не только логически, но и предъявлением, так сказать, вещественных доказательств. Кто-то смеет утверждать, что у нас не было своей культуры? А мы в ответ предъявляем собственную письменность, существовавшую до арабов. Мы говорим: вот вам наши величайшие каналы, существовавшие не только до арабов, но еще и до греков! Вот вам наши города, статуи, наука, герои – вся наша история, вот она!
В начале разговора товарищ Сеитов – молодой еще, стройный каракалпак в строгом бостоновом синем костюме, застегнутом, несмотря на жару, на все пуговицы, – по-восточному много улыбался мне – как всегда, когда приветствуют гостя. Но тут эта обязательная улыбка сбежала с его лица, оно стало суровым, и он показался мне не столь уж молодым, как вначале.
– Понимаете: предъявить в ответ не слова, не умозаключения, а историю – в вещах, в документах, в точных датах! Но до нее, конечно, надо докапываться. Как же мы можем не знать, где экспедиция Академии?! Это же наше кровное дело!
Но, к сожалению, посоветовать мне он смог лишь почти то же, что девушка на почте: остановиться в общежитии обкома, где останавливаются и товарищи из экспедиции, и ждать там их машину. По его сведениям, она должна быть завтра.
На счастье, она пришла час спустя после моего разговора с Сеитовым. А еще через два, захватив корреспонденцию на почте, два тюка ваты для каких-то экспедиционных надобностей и последний ящик нарзана из аптеки, шофер Коля и я с ним катили в Топрак-калу.
Я очутился в пустыне впервые в жизни. И что больше всего меня поразило – это то, что она оказалась именно такой, какой представлялась с детства, по картинкам учебника географии. Все было: шевелящиеся волны песка до горизонта; непрестанно змеящиеся под ветром муаровые разводы на барханах; всего два и как будто ножом друг от друга отрезанных цвета: синий, как синька, – неба, и такой же сплошной изжелта-серый – земли.
Только не так пустынна оказалась пустыня, как на картинках моего учебника. То заяц улепетывал от нас вдоль гребня песчаной волны по теневой ее стороне, хотя и странный заяц – желтый, но тем не менее взаправдашный; то мышь-песчанка кидалась со всех своих крохотных ног в норку. Нет-нет да проплывала за дальним барханом высокомерная голова верблюда. А над всеми ними и над нами – над всей пустыней – парил орел. Он лежал, распластав крылья, на восходящих потоках воздуха, которые поднимались вверх явственно, струйками, как растворившийся сахар со дна стакана.
Вот где сразу становится ясно, почему говорят: орлиный взор. С высоты, на которой он парит, разглядеть песчанку!
Звонко гудят телеграфные провода – мы едем вдоль линии.
Орел, должно быть, свыкся с их гулом – он сел закусывать песчанкой на столб.
Иногда пески сменяются такырами – гладкими, как блюдо, громадными глиняными плешинами. Когда ветер сгонит песок со всего такыра в сторону, то кажется, что эта обливная глиняная поляна не естественного происхождения, а намеренно такою сделана.
Едва наша полуторка въезжает на такыр, стрелка спидометра тотчас подскакивает к 60 километрам, а шофер Коля закуривает и принимается мурлыкать: «Была бы только тройка, да тройка порезвей…» В Москве жена ему родила первенца, он его еще не видел и очень тоскует.
К бортам полуторки привязаны длинные деревянные шесты. Коля их называет «шалманами», но добавляет, что это специально местный термин.
Изрядно ж появилось в пустыне автомашин, если возникли уже специальные местные термины, относящиеся к ним!
Мне сначала было непонятно назначение этих шестов. Коля объяснил, что когда машина буксует в песке, то ее вытягивают, подсовывая их под колеса. Это называется «шалманить». Вскоре, к слову сказать, я узнал на практике, как это следует проделывать, да так основательно, что теперь до конца дней не забуду, каково в пустыне «шалманить».
Я прежде думал, будто знаю, что такое – машина буксует, оттого что воевал на Калининском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Из какой только грязи и болот не вытаскивали мы там наши машины! Но разве знал я что-нибудь о буксовке, пока не побывал в песках пустыни!
Мои ладони давно уже покрылись водяными пузырями, а добраться до Топрак-калы засветло так и не удалось. Нас застигла ночь.
Она наступила с такой стремительностью, которую мне никогда не доводилось наблюдать где-нибудь в другом месте.
Как только село солнце, из-за противоположной стороны горизонта вдруг начало шириться тревожное багрово-оранжевое зарево; одновременно холодный сквозняк прохватил землю. И вот зарево обнимает уже чуть ли не четверть небосвода. Становится холоднее, холоднее… В этот момент в центре полымя над горизонтом появился невообразимо громадный край какого-то незнакомого бордового светила, затем все большая часть его… Да это же луна!
Да, она. И, когда взошла вся, сразу померкло зарево, так торжественно возвестившее ее появление; уменьшилась и сама она и превратилась во всегдашнюю нашу серебристую луну.
Колю ночь не останавливает – он с экспедицией Толстова уже третий год в этих местах.
Он тычет пальцем в какую-то тень. Развалины? Кажется, да.
– Видите? Это Кзыл-кала, в переводе – Красная крепость. А от нее до наших уже только три километра. Приехали!
Я готов начать беседовать с Толстовым или любым сотрудником его экспедиции об их находках сию же минуту и беседовать час так час, сутки так сутки – сколько они согласятся. Первым делом, конечно, попрошу показать мне письменные документы, о которых телеграфировал Толстов. Где этот архив? Как он выглядит? Хочу немедленно видеть и самого Толстова. А что собой представляют раскопки? И как их ведут? Этот таинственный замок в пустыне – Топрак-кала?
Луна отбрасывает синеватые зыбкие тени. Невдалеке от лагеря какая-то не то скала, не то продолговатый холм с причудливыми зубцами поверху.
Лагерь спит. Даже на шум машины никто не показывается.
В шеренгу выстроены пять палаток научных сотрудников, а рядом, вразброс, палатки рабочих экспедиции – колхозников из близлежащих колхозов.
Бродят по лагерю тихие серые ослики с умными печальными глазами…
– Коля, вы думаете, и Толстов спит?
– Не знаю. Но только к машине не выйдет. Раз уже был отбой – всё! Он насчет дисциплины мужчина строгий.
– Скажите, а архив, который откопали, вам не довелось видеть?
– Как это можно! Тут работать – и «не довелось…»! Вы, видно, еще не представляете себе Сергея Павловича. Он же всех вокруг себя своей страстью заразит, а уж если заметит, что ты и сам начал с любопытством озираться, – что у тебя, так сказать, вкус к науке появился, – тут ему никакого времени не жалко, чтобы с тобой беседовать. Час будешь спрашивать – час будет объяснять, два часа – два часа. Кто я? Водитель! А хотите, я вам об истории древнего Хорезма, царе Вазамаре и так далее и тому подобное целую лекцию прочту! Точно! Вот, представьте, едет со мной в кабине Сергей Павлович, ну, и я его спрошу. Так он же все расскажет: и что, и как, и как дошли до правильного положения, и какие заблуждения были, и как он сам, может быть, заблуждался.
– Значит, интересный архив?
– Архив? Архив – как вам сказать… Пока ведь не прочитано из него ничего – письменность нерасшифрованная… Но вот вчера головы негров тут обнаружили – так это, по-моему, и архив переплюнуть может.
– Негров? Каких негров? Где нашли?
– «Каких»! Обыкновенных: черных, губастых, с курчавыми волосами. Ну, в общем, негры и негры, как полагается.
– Ничего не понимаю! Головы негров?
– Что вы, зачем такое смертоубийство! Нет, целые фигуры. Скульптуры. Вместе с другими скульптурами. Но тоже первые века от рождества Христова.
Я не в состоянии произнести ни слова: мысли бегут в голове такие сумбурные, что ни собрать их, ни выразить отчетливо невозможно. В первые века нашей эры на севере Средней Азии, почти у Аральского моря – негры?
Коля видит мою растерянность и смеется:
– Вот, вот! Так вчера с Сергеем Павловичем было. Он тоже сперва, когда ему сказали: «Сергей Павлович, негра откопали!» – даже закричал: «Что вы выдумываете, какого негра, где – негра?» А потом, когда добежал до раскопок, увидел сам, – сел на корточки и говорит: «Очень интересно. Ничего не понимаю…» Ну, спать давайте.
Коля дал мне спальный мешок, сам забрался в другой. Он уснул моментально. А я еще долго не мог опомниться. Нет, только подумать: негры! Да что ж это значит?!
Знакомство с Толстовым
Просыпаюсь оттого, что слышу голос рядом:
– Только позавчера вылетел из Москвы? Ловко! А, интересно, писем из института никаких мне не привез, не знаете?
– Не знаю, Сергей Павлович. Давайте разбужу его.
– Что вы, Коля, зачем! Я просто думал – может быть, не спит, ведь поздно… все уже позавтракали.
Неужели так поздно? Высовываю голову из спального мешка и вижу прислонившегося к грузовику высокого человека с живыми, с искоркой, мягкими глазами, в белом парусиновом комбинезоне, в белом же тропическом шлеме с двумя козырьками: спереди и сзади – «здравствуй-прощай». Лицо, табачно-желтое от солнца, русые усы, которым предоставлено расти, как им хочется. Человеку лет сорок, не больше – лицо из тех, что не обманывают насчет возраста.
Ворот комбинезона широко распахнут: жара уже и сейчас, с утра. Комбинезон обмят, как гимнастерка на бывалом солдате: чтобы влез в нее – и как дома! Вообще с первого взгляда можно определить, что этот человек здесь – в жаре, в пыли, в пустыне – чувствует себя превосходно.
Это Толстов.
– Ах, вы уже проснулись? Здравствуйте, с приездом! Не разбудил вас случайно?.. Ну, очень хорошо! Позвольте предложить вам завтрак.
Толстов потчует от души. Хотя он уже завтракал сегодня, – я ведь знаю это, – но, чтобы не обидеть гостя, закусывает со мной еще раз.
Впрочем, мне ничто не идет в горло, пока не увижу негров, о которых рассказывал Коля, не побываю на раскопках, не посмотрю на документы из архива.
– Сергей Павлович, сыт! Честное слово, сыт!
Он смеется:
– Ну хорошо, хорошо! Что показывать вам скачала?
– Что хотите!
Должен признаться, что я не только впервые попал в пустыню, но и с практикой археологов столкнулся впервые. По простоте душевной предполагал, что архив – это нечто чрезвычайно громоздкое: если и не множество полок с пудовыми томами, то, во всяком случае, что-то весьма похожее на библиотечный зал.
Профессор же Толстов, вслед за которым и я ныряю в его палатку, смахивает на койку с небольшого ящика, служащего, очевидно, столом, груду книг, рукописей, гранок, пачек папирос и бог знает чего еще, открывает крышку этого универсального стола и не без торжественности произносит:
– Вот, прошу…
В ящике лежит штук десять коробок с этикетками: «Лапша – 2 килограмма», «Лапша – 1 килограмм». Из каждой коробки Сергей Павлович принимается извлекать большие комки ваты, которые деликатно разворачивает плавными движениями. В вате лежит то какая-нибудь свернувшаяся в трубочку слоистая, изгрызенная червями, пятнистая, почти черная береста, то длинная, еле сохраняющая форму, трухлявая щепочка – однако тоже, как береста, испещренная пятнами. И еще щепочка, еще береста…
– Что это?
Толстов смеется. Это и есть то, что сегодня следует назвать архивом древнехорезмийских письменных памятников!
И действительно, когда я всмотрелся внимательней, то увидел, что «береста» – не береста, а чудесно когда-то выделанная кожа, что пятна на ней – не пятна, а письмена. Совершенно неизвестные мне по начертанию, во многих местах стершиеся настолько, что о существовании их скорее можно лишь догадываться, но тем не менее письмена, именно они. А почему – архив? Конечно же архив! Все это найдено в одной – всего лишь в одной – комнате дворца, и находки продолжаются.
Да, хотя это весьма далеко от современного представления об архиве, но все же это именно он: собрание документов, покрытых письменами, по-видимому, одного и того же алфавита.
И пусть еще неизвестно даже, что значат письмена, а следовательно, что собой представляет каждый документ семнадцати-восемнадцативековой давности, – все равно победа Толстова громадна. Ведь только лишь десять с небольшим лет назад он выдвинул гипотезу, что неизвестные письмена на нескольких монетах, хранившихся в разных музеях, – древнехорезмийские. Тем самым он утверждал, что существовало и такое самостоятельное – хорезмийское – государство, и такая самостоятельная письменность. Далее он предложил также свой вариант чтения этих письмен. Правда, полный алфавит он предложить не мог – варианты надписей на монетах были ограничены. И монеты десятилетиями лежали нерасшифрованными, а первая из них, ставшая известной нумизматам, – даже около ста лет. О них не было известно ничего: ни какого они государства, ни лица каких властителей на них выбиты, ни какого они века; а об установлении года чекана и мечтать не приходилось.
И вот даже тогда Толстов выдвинул утверждение о существовании самостоятельной древнехорезмийской письменности. А теперь он наконец отыскал под напластованиями хорезмийской земли и документы с теми же письменами!
Он еще и еще раз всматривается в лоскутки и обломки, которые показывает мне. Кивая головой на большую щепу, покрытую несколькими десятками письмен, которую держит на ватной подстилке, говорит:
– Я думаю, что этот документ окажется чрезвычайно существенным.
– Чем существенным?
Толстов надеется, что из него удастся выяснить, каково было административное деление Хорезма в ту пору, когда он был составлен, и даже больше: удельный вес каждой из областей и крупных городов.
– Простите, откуда это видно?
Толстов разрешает мой недоуменный вопрос. Он не утверждает безоговорочно, что прав, но выдвигает рабочую гипотезу – построение, которое помогло бы в дальнейшем добраться до истины.
Сергей Павлович обращает мое внимание на расположение строк и пропуск между началом и концом каждой строки. Делает отсюда вывод, что, мол, совершенно явно идет перечисление, возможно, какой-то реестр: например, того-то столько-то или оттуда-то столько-то. А что именно перечисляется? На это – он полагает – дает ответ другая строка, уже не конец ее, а начало: наименование города, входившего в состав хорезмийского государства на протяжении всей известной нам истории Хорезма. Значит, можно ожидать, что начала других строк также представляют собой названия городов или областей. Этот документ найден, как и прочие, во внутренних покоях дворца властителя Хорезмийского государства. Таким образом, это скорее всего государственный документ. И то, что он написан писарским почерком, – тоже довод в пользу такого предположения. Ну, а на какую, ориентировочно, тему мог быть составлен государственный документ с перечислением городов и областей страны и цифрами против каждого и каждой из них? По аналогии с другими документами такого типа можно полагать, что это – повеление городам и областям выставить в распоряжение хорезмшаха такие-то контингенты войск или рабочей силы для ремонта каналов; может быть, перечисление суммы налогов; может быть, еще что-нибудь подобное. Но если это так, то удастся узнать не только административное деление, но и удельный вес каждого из перечисленных городов и областей.
Я говорю Толстову, что все это покамест только догадки, – я его правильно понял?
Сергей Павлович соглашается, что – да, правильно. Но добавляет, что мудрено выкопать из-под земли готовый учебник истории да чтобы в нем еще к услугам читателя был ряд дополнительных глав по особо интересующим вопросам! И что историк, у которого по поводу каждого вновь открытого факта не возникает сотен и сотен догадок, – не историк, а человек кротовьего полета мысли. Однако кротом хорошо быть, лишь пока копаешь. А потом – потом нет уж! Увольте! Грош цена историку, если он не умеет подниматься выше своих находок!
Впоследствии, при детальном изучении документа в Москве, догадка насчет «реестра» не вполне подтвердилась. Впрочем, Толстов еще в пустыне предупреждал, что она не более чем догадка. «Реестр» оказался списком людей, обязанных нести различные повинности; цифры и собственные имена сочетались тут в несколько ином смысле. Наука чаще всего так и движется вперед: через ряд отпадающих впоследствии рабочих гипотез. Важно лишь, когда убеждаешься в их несостоятельности, уметь извлекать из них отдельные крупицы истины.







