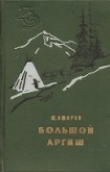Текст книги "Последний аргиш"
Автор книги: Рудоль Итс
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
*
Дагай замолчал. Он сидел, опершись на косяк двери у самого порога. Здесь его любимое место в доме нашего хозяина на станке – потомка русских старожилов Паши Зуева – одного из лучших рыбаков колхоза. Семья Зуевых – Паша и его жена Шура – единственные русские не считая председателя Прокопа Гавриленко, в этом кетском колхозе.
Дагай, да и все мы любили сидеть у порога еще и потому, что здесь, у открытой дверцы печки сверкал огонь, взлетали крошечные искры, трещали дрова. Дом не чум, но у открытой печи, отдающей жаром и хвойным запахом елового дыма – романтика поля, бивачных костров.
– Сосновый лоб, – неожиданно прервал долгую паузу Дагай. – Много лет кто-нибудь будто невзначай о нем вспоминал, когда толковали о месте весновки. Все оборачивались, и говоривший разом смолкал. Сосновый лоб стали считать если не совсем плохим, то каким-то загадочным, опасным местом. Молодые о нем думали так, как о крутых ярах, на которых земля красная от крови великих давнишних богатырей.
*
У богатыря Альбы был брат-богатырь, но он редко брал меч, а чаще сидел на берегу, играл на самодельной скрипке то заунывные, то лихие напевы. Излюбленным местом его был крутой каменный берег Енисея в устье Подкаменной Тунгуски.
В тот день, когда могучий Альба прорубил скалу и погнал на север Хосядам, брат его сидел на своем месте и держал в руках скрипку.
Гонится за Хосядам Альба: девять островов на Енисее– следы ступней богатыря. Вот настигнет смерть, но Хосядам превратилась в стерлядку и ушла в воду. Альба стал тайменем и, рассекая могучей грудью волны, приготовился схватить стерлядь-оборотня, но тут заиграл на скрипке брат.
Задрожали тихие звуки напевной мелодии, всего на мгновение прислушался Альба – и ускользнула Хо-сядам.
Скинула свое обличье, помчалась к небу.
Вынырнул Альба, стал прежним, поднял свой огромный лук и пустил стрелу в беспечного музыканта.
Рассекла стрела богатырскую грудь, и полилась кровь по камням и песку крутого яра. В устье Подкаменной Тунгуски с той поры каменный берег Енисея красный от крови брата Альбы.
*
Дагай продолжал свой рассказ:
– В ту зиму разведчики пришли с плохим известием. По чернолесью и по кедровнику белки не было. На правлении колхоза о Сосновом лбе вспомнил Чуй. Никто его не хотел слушать. Старики о другом заговорили, а приехавший сверху нам в помощь охотовед – человек новый, наших мест не знал.
Чуй собрался на зимнюю тропу охотника тогда же, когда и мне пришлось готовить оленей. Я уезжал на дальнее угодье за доктором. Я знал тайгу, считали, что я белки все равно больше других добуду.
Вечером Чуй пришел. Ужинали молча. Боской заскулил у двери. Чуй поднялся, дверь открыл и, не закрывая ее, спросил:
– Доктору о крови скажешь?
– Скажу, – ответил я и добавил: – Сам разведчиков слышал. Белки нет. За каждой по свежему следу бегать будешь, кашель задушит. Я скажу.
– Не говори. Здесь я бегать не буду. На старое стойбище поеду, на Сосновый лоб!
Чуй был смелым, как мой отец.
Я привез доктора на факторию и зашел к заготовителю. Во всю стену его конторы висели связки беличьих шкурок. Сезон только начинался. Как же разведчики? Я перебрал наугад несколько связок – почти все с белой мездрой. Зимняя белка, хорошая белка!
– Удивляешься, Дагай, откуда столько? – спросил пушник и, показывая на самые большие связки, добавил – Половину Чуй добыл, по тридцать-тридцать пять в день. Остальные сорок охотников бьют по пять-шесть белок. Чуй сам привез шкурки, всем говорил, где добыл. Никто не пошел на старое стойбище. Ты пойдешь?
Чуй на старом стойбище. В ночь я уехал и… на свою дорогу свернул. На старое стойбище я хотел ехать, но не решился. Может быть, я боялся помешать Чую, может быть память о матери остановила. Я не погнал след Чуя.
Два месяца я был в тайге. Белки мало. Я мог тогда легко бегать на лыжах, но больше двадцати штук вдень добыть не удавалось. Белки не было. В месяц «самого короткого дня», когда женщина при дневном свете только большой палец рукавицы сшить может, я привез шкурки на факторию.
До вашего Нового года несколько дней оставалось. Пушник обычно к этому времени шкуры, добытые по короткой тропе, отправлял. После Нового года на большую охоту уходили люди, далеко в тайгу. День становился длиннее, и наши переходы длиннее. До самой весны никто из охотников не приходил на факторию.
Пушник мои шкурки принял первым сортом. Квитанцию дал и сказал:
– Чуй больше не был. Наверное, он много белки добыл на старом стойбище?
То ли спрашивал он, то ли утверждал. Я помню буркнул: «Мои олени очень устали…»
Заготовитель меня перебил:
– Я уже говорил с председателем. Тебе дадут новых четырех оленей. Самого сильного белого быка дадут.
Я немного отдохнул и, как всегда, в ночь выехал.
Светлого дня все равно мало. Думал, что за факторию выеду и где-нибудь, если сойду с тропы, пересплю до света.
Все время смотреть вперед надо, чтобы еле приметный след полозьев не потерять. Можно оленям довериться. У них чутье. Они дорогу чувствуют даже под снегом. Но разве олени могли чуять, какая тропа Чуя?
Пара оленей в упряжке, пара сзади привязана к саням на смену. На оленьей шкуре, на которой я сидел, торба с хлебом, чаем и сахаром. Лыжи сбоку саней, ружье и патронташ под рукой.
Старый Боской следом пытался бежать, пока я под угор съезжал и по льду реки мчался. Когда сани вышли снова на берег и въехали в тайгу, пес, увязая в пушистом снеге, завизжал, отстал и долго еще лаял вдалеке. Боской домой пошел, но что-то с ним в тайге случилось. Я его больше не видел.
Тропа вновь вывела меня к берегу и побежала вниз к реке. Я откинул капюшон сокуя, огляделся. Полночь была. Скоро месяц менялся, и на небе луна уже не появлялась. Звезды яркие и очень далеко. Мороз сильный. В воздухе снежинки – точно тонкие волосы, но они не сверху вниз падают, а снизу вверх летят: тепло моего дыхания, дыхания оленей и пар от их разгоряченных спин так быстро стынет.
Нет, совсем тьмы не бывает. Только за десять-пятнадцать шагов берег реки, дальний и ближний лес – все одной тенью. Через три шага впереди старый след оленьей упряжки то пропадает, то появляется. Чуть-чуть светлее стало. Одна, две – много снежинок блеснули. Я, с трудом поворачиваясь в сокуе, оглянулся – кругом, переливаясь, голубой свет на снегу играл. Снег светил, и дорога за десять шагов спереди и сзади видна, и от лесных теней отделились высокие ели и сосны. Свет не убывал, не прибывал.
Я остановил оленей, левую колею тропы осмотрел. Еле заметные полоски по ее середине – следы зарубок на полозе саней Чуя. Я правильно ехал.
Белого коренника я слегка хореем толкнул, и олени побежали. А голубой свет? Голубого света от снега не было. Может, мне показалось. С тех пор, сколько я зимой по ночам ни ездил, я такого света не видел. Может быть, я на тот же день не попадал. Правда?
По тропе Чуя я ехал долго. Снова в лес въехал. Здесь и я, и олени след потеряли. Совсем темно стало. Я на санях уснул, проснулся – серел день. Оленей перепряг, на тропу вышел и через два часа, когда на тундру выехал, вдали Сосновый лоб увидел.
Оленям помог в гору сани тащить, а выбрался на угор, сам сел. Сосны кругом. Снег белый-белый. Одно дерево от другого в двадцати шагах. Снег ровный, ни валежника, ни наклонившегося ствола. Света много, а вершины высоко и почти друг друга касаются. Никаких кустов. Только сосна. Тропа в лес идет.
Подъем. Олени тревожно остановились. Небольшая канава. Тихо журчащий родник. Давно сюда никто не ходил. Я огляделся. Справа два рубленых дома давней постройки. Я вспомнил. В последнее лето жизни сенебата, когда люди стойбища еще кочевали на лоб, русские по всем большим тропам для охотников такие избушки ставили. Люди забыли лоб, я даже забыл, что здесь избушки были.
Из дома, в котором стекла в окнах целыми были, донесся голос, меня звали: «Дагай!» Затем стон, громкий кашель.
Я рванул дверь. На полу Чуй лежит. Руки ко рту прижаты, а меж пальцев кровь со слюной сочится. Несколько сотен беличьих шкурок в углу валяется.
Чуй умер по дороге на факторию. Все согласны были: он от болезни умер. Но по чумам ходили старики, нашептывали: «Зря на лоб ходил, сенебат его задрал». А кто-нибудь добавлял: «Сколько лет прошло, как сенебат помер, никак меньше семи? Говорят, след медведя видели».
А кто видел? Я один был на лбу, я не видел следа медведя. «Проклятое место – лоб. Чуй зря пошел. Мы не ходим, где мертвые!» – так многие говорили.
Я над ними посмеялся и всем сказал: «Летом избу подправлю и зимой там жить буду». Парни моих лет сказали: «Вместе пойдем!».
*
Летом мы вместе пошли, далеко пошли – на войну.
Пять лет я не был дома, видел много людей, большие города видел. Много городов в дыму и огне. Три раза мне раны лечили. Я воевал, парни наши воевали. Мало их вернулось. Наш народ небольшой, и все сильные мужчины на войну ушли. Мало вернулось, но кто пришел – с орденами, медалями пришли. Мы охотники.
Дальше Польши я…
Дагай резко махнул рукой:
– Сбился, не о том говорю. Я не пошел на лоб охотиться. Никто не пошел. Молодые на фронте, на стойбищах старики и бабы остались. Старики боялись, они в шаманов и духов еще верили. Железные печи прогорели, новых никто не делал – война. Как прежде, в чумах костры стали разводить. Казалось, старое возвращалось. Прошлое вновь над людьми нависло, и кто-то, желая жить не как все, вновь начал шаманить. Опять шаманы!
Нас, фронтовиков, мало было, но мы другими людьми стали, столько всего увидали, сколько старики и древние шаманы не видели. Никто не посмел шаманить, когда мы вернулись. Но за пять лет страх перед лбом возродился. Никто туда не ходил, боялись…
Наш хозяин Паша Зуев резко вставил:
– А ты не боишься? Переночуй там! Чего по другим местам шатаешься?!
Паша стоит какой-то взъерошенный, маленькие глаза испуганы.
Дагай равнодушно сосет пустую трубку и нехотя отвечает:
– И ночевал бы, да могила матери рядом. Мы на свои кладбища не ходим.
*
Дагай медленно поднялся. Паша остановил его:
– При чем здесь мать? Не обижайся. Я ваш обычай знаю, но ты ведь бойкий человек. Старовера Терентия с Имбака знаешь?
– Что же, знаю. Его небылицу о лбе расскажешь? – усмехнулся Дагай.
– Да, расскажу, – запальчиво ответил Паша и, обращаясь к нам, продолжал: – Как-то осенью Терентий очутился около лба. Поднялась метель. Он ехал на собаках. Подъехал к уцелевшей одной избушке, там думал переждать метель. Ночь наступила быстро. Окна были без стекол тогда. Скрипели половицы.
Устроился Терентий в маленькой комнате, отгороженной тонкими досками от большой. После полуночи скрипнула половица – «Наверное, собака», – подумал он. Затем кто-то затопал. Он вздрогнул; смотрит, все собаки около него, шерсть дыбом. За стеною голоса, звон подвесок – шаманы пришли…
Голос у Паши дрожит, переходит в шепот, а глаза совсем пропали, только изредка испуганно вытаращатся и спрячутся под веки.
– Терентий крикнул. За стеной: «ук-ук, ха-ха» – и громче подвески дзинькают. Шаги к его комнате приближаются, несколько шагов. Терентий вскочил и, не оглядываясь, бросился прочь из дому. Собаки за ним. С трудом запряг собак и в ночь, в метель, подальше от лба. Тридцать километров проехал, прежде чем на людей наткнулся. Заскочил к кому-то в чум, всех перепугал. Отдышался и все рассказал людям.
Паша замолчал. Я ловлю себя на том, что чему-то удивлялся во время рассказа. Удивляла искренность. Паша верил, что говорил правду. Неужели даже он верит всей этой чертовщине. Где мы? В каком оказались времени – в прошлом или настоящем?
– Дагай, ты слышал такой рассказ? – спросил я.
Дагай мрачно посмотрел на Пашу и, толкнув дверь, обронил:
– Слышал, но не верю. Такого не было. Павел тоже боится. Я вам говорил: страх Сосновый лоб прячет.
Стукнула дверь. Обиженный хозяин успел прокричать вслед Дагаю:
– Ты храбрый? Сам не очень-то туда пойдешь. Случай с Терентием три года назад был – все знают!
– И все верят Терентию? – быстро спросил я.
– Может быть, не все, но ни кеты, ни русские не ходят на лоб.
Где этот лоб? Кому-то надо идти туда, надо вернуть его людям. Чуй… Терентий… Найти Терентия, расспросить его? Без толку. Тайга знает первый рассказ, кто поверит другим словам?
И все-таки что-то нужно предпринять.
Кому-то надо идти. Может быть, нам?
*
На станке обычная летняя жизнь. С утра колхозники ездили проверять сети, с утра уходил Павел. У каждого рыбака свое привычное место. Прежде такие места были у каждой кетской семьи, их наследовали дети. Сейчас по традиции сохранились названия самых удачных мест лова.
В тридцати километрах от станка вверх по реке Сургутихе – такое место у Дагая. Несколько лет подряд до войны он перегораживал реки и ставил там котцы на рыбу – виски. Сейчас называют угодье Дагаевой виской. Узенькая речка – рукав Мангутихи, огибающий полуостров наволочной стороны и впадающий в Енисей на семьдесят километров ниже Сургутихи, – названа речкой Токуле. Отец Дагая чаще всего выезжал сюда рыбачить. Там, где Токуле отходила от Мангутихи, ставил теперь сети Павел.
У Павла подвесной мотор. Рыбак покидал дом в шесть утра и в семь вечера привозил к засольне улов. К этому времени подходили другие лодки. Дагай знал мотор, но не любил рыбачить с ним. «Красная рыба бензином пропахнет», – говаривал он.
На большой долбленке Дагай привозил свой улов, ему помогал рыбачить сын – Токуле, носивший имя деда.
Юного Токуле мы не видели, он все лето жил на угодье, в шалаше из гнутых прутьев, покрытых берестой. Вообще сейчас в поселке мало народу. Из колхозных рыбаков двое – Павел и Дагай, остальные с семьями ушли на Енисей неводить селедку, осетров и стерлядь.
Рыбаки поставили свои палатки и чумы на песках, что узкой косой вдавались с наволочной стороны в реку. Здесь у песков кончалась речка Токуле.
В поселке несколько стариков кетов, засольщик, радист на почте и дети рыбаков в круглосуточных яслях. Все члены правления колхоза, красный чум с библиотекой и кинопередвижкой – на песках. Шла путина.
Наш отряд здесь оказался, по существу, случайно: завершив часть маршрута и выйдя со стойбищ, мы ждали катера на Подкаменную. Через день-два катер должен прийти. Нас ничто не может задержать. А как Сосновый лоб? Видно, самые разумные планы могут измениться…
*
Для колхоза, в котором жил и работал Дагай, Сосновый лоб стал важной проблемой. Вот уже три года подряд не было урожая белки по изведанным дорогам и тропам, которыми ходили охотничьи бригады. Уже третий год пять-семь белок добывает охотник в день.
Приближался новый сезон. Еле заметные следы, на земле, прихваченной ранней осенью, не давали надежды. Белка уходила вверх по Енисею, где чудесные кедровые боры в Саянских отрогах, и на всю зиму она останется там. Если бы белка шла на север, тогда можно было бы ждать ее зимой. Дойдя до тундры, полчища белки повернут назад и осядут в Туруханской тайге.
Но белки уходили на юг. На что можно надеяться – на местного зверя, но сколько его выбили за три года по обычным дорогам?
Где еще может быть своя белка?
– На Сосновом лбу, – мрачно сказал постаревший за четверть века, но еще крепкий и сильный Кильда.
И впервые на заседании правления его никто не перебил. Может быть, те, кто были постарше, вспомнили, что проходная белка идет на юг и на юге от поселка покинутый людьми Сосновый лоб!
*
Я взял фотоаппарат, полевой дневник и пошел к большому дому, где жило несколько кетских семей. Оставшиеся в доме старики, наверное, сейчас в сборе – обедают.
Старик Лукьян Толков после войны никуда из станка не выезжал. «Совсем оседло живу», – посмеивался он, поправляя широкий солдатский ремень, который перехватывал гимнастерку. Полувоенный костюм носил он с гордостью, как память о своей короткой армейской службе в суровые годы.
До фронта Лукьян не доехал, зато впервые в жизни побывал в Красноярске, Омске и восторженно рассказывал о виденном. Рассказывать он умел весело, задори-сто. Слушатели не уставали. Лукьян смотрел на них добрыми, в густых морщинках глазами и смеялся вместе с ними.
Старик слепнул. Полвека назад тяжелая болезнь трахома напала на стойбище. Маленький Лукьян, которого звали по-своему Соколенком, заболел. Лечили шаманы. Давали пить разные настои трав. Он стал видеть, а вырос – ни одной стрелы не пускал мимо цели.
В войну детская болезнь аукнулась. Лукьян крепился, не подавал вида. Комиссия вернула его домой.
Теперь он не охотился и только изредка голодной затяжной весной стрелял воробьев для любимца – кота Васьки. У Лукьяна был сын, он служил в авиации на Камчатке и скоро должен вернуться.
– Вот, начальник, скоро сын приедет. Пишет, вместе жить будем, старику поможет, – сказал Лукьян и протянул мне письмо.
Вынужденный все время сидеть на станке, Лукьян был на редкость гостеприимным хозяином. Каждый и в любой час дня и ночи мог войти в его дом. Чай ждал гостя.
– Пей! – Лукьян поставил чай на обычный высокий стол и сел рядом, а его жена, оставшаяся у низенького столика, протянула сахар, теплый домашний хлеб в виде пресной лепешки.
Считая, что верховским неудобно сидеть на полу, Лукьян потчевал гостя за высоким столом.
– Ну, Лукьян, подмога едет! – заговорил я, обжигая руки о стенки тонкого стакана. Такой стакан подадут гостю в каждом чуме, и невольно удивляешься, как его не разбили при переездах по колдобинам и бурелому тайги.
– Едет, парень, едет. Сын у меня грамотный, служит лучше, чем я служил.
Лукьян задорно подмигнул мне. Я невольно вспомнил смешную историю его службы.
В тыловом госпитале Лукьяна определили возчиком. Спросили: «Возчиком был?» Ответил: «Сам оленей имел». Думал, «конь, что олень – скотина». Ему лошадей дали, за продуктами на склад послали. Пока бумаги разные писали, выпряг он лошадей и пустил в зеленую, высокую траву. Пусть, мол, кормятся. Выбежал лейтенант: «Ты что же, Толков, коней в хлеб пустил?»
– Смотрю, нигде булок нет, ничего не понимаю. А он коней из травы гонит, – такими словами, лукаво улыбнувшись, старик кончал рассказ.
Нравилось Лукьяну потешать слушателей. Одиноко одним старикам. Слепнул старик, но любил шутку и людей, люди всегда шли к нему. В его доме всегда гости. Старик Лукьян много знал и многое слышал.
*
– Вы скоро уезжаете? – спросил Лукьян.
– Они на лоб идти надумали! – сказала жена Лукьяна.
Лукьян посмотрел на меня, ожидая подтверждения. Собственно, ради загадочного лба я покинул друзей, хотел узнать что-нибудь подробнее о нем.
– Лукьян, далеко до лба? Сколько идти отсюда?
Лукьян задумался и произнес:
– Как идти? Рекой надо идти, тундрой, лесом, опять тундрой. Холой увидишь – лиственницу лба. Дагай дойдет за день, вы не дойдете! Проводник нужен!
– Без проводника никак? – переспросил я.
Лукьян вскинул выцветшие глаза:
– Без проводника нельзя, блукать будете.
– Хорошо. Ты можешь идти? Дагай пойдет? Кто из молодых знает?
Старик Топков ответил не сразу.
– Я не могу – глаза совсем плохо видят. Кто еще знает? Старовер Терентий был. Сейчас далеко… Дагай… Дагая спроси сам.
*
– Помнишь, Дагай, когда я второй раз приехал в ваши края? Мы год не виделись. Где ты? Никто не знал.
Я запомнил тот день.
Собачья упряжка тронулась поздно вечером. Через несколько минут за кромкой леса осталось селение, а по разбуженной весной тайге вослед удаляющимся собакам мне пришлось торопливо идти на лыжах-голицах. Четырнадцать километров тайги по конной тропе, занастив-шейся ночным заморозком, пройти нетрудно. Но это только первый участок пути. На берегу скованной льдом реки провожатый повернет назад в селение, я же на вышедших навстречу собаках должен пройти по реке еще двадцать пять километров до станка. Люди с собаками должны прийти, так было условлено заранее.
Двое стариков, живущих в полуразрушенной землянке неприветливо приняли нас.
Короткая передышка, и провожатый, захватив мои голицы, повернул назад. Он боялся застрять в тайге – уже весна, и кто его знает, не последний ли наст этой ночью?
Прошел час. Никого из станка нет. Старик недружелюбно посмотрел на меня. Я улегся на полу и забылся усталым сном.
– На два месяца все вокруг развезет, старуха. У нас самих хлеба мало, а кто в такую ночь придет за ним. – Старик раздраженно продолжал: – ведь, поди, в станке все гусей караулят, собак нет, да и наст последний.
Старик потряс меня за плечо:
– Парень, никто не придет за тобой. Наст-то последний. Иди или обратно в селение, или же на станок.
Обратно? Нет, зачем же. Я ушел к станку.
В землянке остались продукты, спальный мешок, все снаряжение, а за плечами в рюкзаке только блокноты, Записи и фотопленки. Не было даже голиц, не было никакого оружия. Впереди путь в двадцать пять километров по изъеденной весенним солнцем тропе. Два часа ночи – светлой весенней ночи Севера. Наст толщиной в два пальца, и когда пятка унтов пробивала его, нога проваливалась совсем, выступала вода и приходилось ложиться, чтобы выбраться на тропу. Дважды ступать на одно место нельзя. Не выдержит наст.
Тропа идет берегом, за излучиной я оглянулся и не увидел землянки. Один. Теперь только вперед.
Больше всего я боялся солнца. Да, солнца. Сколько до его восхода – еще пять-шесть часов? Если таким будет путь, за эти пять часов пройду половину. А там день ожидания – и по ночному насту опять в дорогу. По ночному насту! А будет ли еще наст?
В серых сумерках чуть поблескивают льдинки. В тишине резко трещит наст. Еще пройдено пять, десять, пятнадцать шагов. Нога то резко погружается в снег, то ступает на твердую льдину, и невольно шаг убыстряется. Шаг становится тверже, и, хрупая, разбивая наст, проваливаюсь по пояс. Выбрался. Жарко. Мокрая рубашка прилипла к телу. Сколько же еще впереди?
Переливчатый звон доносится с крутого яра – сосульки падают с ветвей на снег. Опять тихо. И вдруг чудятся шаги, хруст ветвей и мерное тонкое бульканье – родник течет под снеговой шапкой, укрывшей тайгу и реку. Снова чудится шорох вверху. Пожалуй, такой наст выдержит медведя. Весна – его время. В кармане перочинный нож. И снова шаг за шагом… Неужто скоро рассвет?
Кто узнает, где остался ты? Те, что в селении, думают– за тобой пришли упряжки, те, что на станке, надеются, что ты остался на месте. Ведь только тебе одному пришло в голову уйти по насту в весеннюю тайгу. Иди, ползи, завтра может быть еще хуже.
Впереди на реке появилась темная точка, она медленно ворочается. Иду ей навстречу, а рука тянется к перочинному ножу. По насту не побежишь. Стоять глупо. Небо вдали чуть золотится, и тухнут бледные звезды. Темное пятно на реке медленно движется навстречу. Ну что же – закон тайги…
Собачья упряжка подъезжала к станку, когда лучи солнца съели наст и санка проваливалась в мокрую жижу рыхлого снега. Старик оказался прав только в одном – той весной наста больше не было.
На собачьей упряжке приехал ты, Дагай. Я тогда забыл спросить, как ты очутился на северных границах ваших кочевий. Ты пришел вовремя. А теперь? Что же это – молчаливая обида на нас, или ваши люди не хотят или боятся нарушить обычай?
*
Мы не в заброшенном краю, где о событиях последних дней узнают через три года. Здесь не мир темноты и невежества. На песчаной косе в путины веселый киномеханик устраивает сеансы.
Смеркается. На широком белом полотне, укрепленном на опорных шестах палатки, двигаются тени сказочного мира.
Трудно забыть вечер, когда буквально все живое – люди и стая лаек – разместилось на песке перед экраном. Рыбаки в удобной на промысле национальной одежде, среди обширной тайги и воды, напоминали людей далекого прошлого. На этих людей с экрана смотрело точеное лицо Сильваны Пампанини, и зрители переживали трагедию Анны. Мелькали кадры с непонятным городским бытом, мчащимися лимузинами.
Люди сидели молча, собаки прижали уши. Только с экрана неслись радостные и печальные голоса, где-то на востоке полыхала гроза, и иногда по Енисею проходили освещенные прожекторами самоходные баржи.
Большая жизнь, большой мир не миновали населения северных станков. Но все же что-то старое еще держало их в руках.
Сосновый лоб!
Пронзительный плач женщины разбудил наш отряд. Я выскочил во двор. К старческому причитающему голосу присоединился молодой, и в последней августовской ночи повисла надрывная мелодия.
– У кого несчастье? – выбежала Шура. Паши не было в ту ночь.
Голоса доносились от большого дома. Шура прислушалась к тревожному пению, пыталась уловить смысл слов. Я смотрел на нее, она лучше понимала кетский язык. Мы ждали. Шура растерянно оглянулась и села на ступеньку крыльца.
– Что-то с Дагаем!
Кто-то из нас рванулся за калитку, но я успел остановить его:
– Нельзя. Сами скажут. Сейчас нельзя.
В необычных буровато-серых тенях раннего утра к нашему дому спешил старик Лукьян.
*
Вера в сверхъестественное – во многом продукт самовнушения. Сотни раз может перебежать черная кошка дорогу, а в сто первый то ли от усталости, то ли от дрянной погоды человек слег в постель. Первое, что невольно может прийти в голову – черная кошка подвела.
Издавна, с детства, человек наслышан нелепых историй о черных кошках. Рядовой случай, не связанный никак с безобидным существом, пустыми ведрами и подобными «дурными приметами», становится доказательством истинности сверхъестественного. Бывает ведь так?
Тайга Тысячекилометровое безлюдье. Опасность на каждом шагу: и от топи тундры, и от зверя, и от ружья, и от верткой долбленки. Сколько здесь еще сейчас возможностей для всяких неожиданностей! А сколько их было прежде в годы нищеты, забитости и бескультурья? Какое удобренное, плодородное поле для надуманной или придуманной сверхъестественной силы!
*
Вверх по реке берег, начавшийся высоким угором у поселка, снижается постепенно. Скоро он превращается в пологий выступ, исчезающий в воде, и здесь река резко поворачивает на север.
Массивная дощатая лодка на веслах с трудом шла вверх. На крутом повороте она чуть не уткнулась в громаду берегового леса, неожиданно вставшего над водой.
В лодке, заваленной мокрыми сетями, Дагай правил на корме, а за веслами сидел удивительно похожий на него черноглазый, черноволосый, узколицый юноша – Токуле.
Отец и сын уже вынули все сети. За поворотом реки их стан, их прутяной шалаш.
Лодка из-за поворота появилась бесшумно, неожиданно. Отъевшись за лето, жирный неповоротливый гусь медленно плыл навстречу. Он не учуял опасности.
Дагай успел кивнуть Токуле, тот задержал весла на весу и носком сапога подтолкнул к отцу тозовку– малокалиберную винтовку, лежавшую на сетях.
Дагай за дуло дернул винтовку. Крючок зацепился – и тут же треснул выстрел.
…Десять, пятнадцать, двадцать минут радист не может наладить прямую связь с Туруханском. Над районом магнитная буря. Нет прохождения на север. Радист вновь дает позывные и начинает выстукивать текст. На щите замигала лампа приема. Переключение настройки на телефонную связь. Дребезжащий голос в репродуктор:
– Я борт двести десять. Что у вас случилось. Прием.
Самолет АН-2 № 210 внутрирайонной линии знает о наших сигналах. Радист растерянно смотрит на щит. Радист не засек позывные борта. Мигает лампочка приема, переводим переключатель.
– Я борт двести десять. Почему молчите. Прием.
Несколько щелчков регуляторов, и радист протягивает микрофон мне.
– Тяжело ранен в грудь Дагай. Нужен хирург. С Туруханском связи нет. Помогите связаться с больницей, закажите санрейс. Прием.
– Я борт двести десять. Вас понял. Иду санзаданием Верещагино. Мы…
В эфире раздался гром, протяжные посвисты. Связь нарушилась.
Весь наш отряд у рации. Появился Павел. Он убегает к колхозной больнице, где медсестра делает перевязку Дагаю. Врач на косе с рыбаками. Мы ждем Павла у рации, надеемся, что связь с районом будет. Время безжалостно уходит, но помочь беде нельзя.
Вспоминаются последние слова Лукьяна, принесшего горестную весть на рассвете:
– Дагай сеть вынул, на лоб, говорят, идти решил. Вот и сходил…
– Самолет! – Паша рванул дверь почты и понесся под угор на реку.
Вдоль Сургутихи от Енисея шел гидровариант самолета АН-2 № 210. Около мостков засольни на мертвом якоре качалась бочка. С ходу снижаясь, самолет ударил поплавками по воде и, подняв брызги, подрулил к бочке.
В Верещагине был хирург. Когда прилетевшие врачи скрылись в больнице, я заметил, что к засольне пристала моторка. Двое вышли на берег. Один поспешил к больнице, другой, грузный пожилой человек, шел прямо на меня. Его я никак не ожидал.
– Удружили, нечего сказать. Сагитировали Дагая, – налетел с упреками председатель Гавриленко. – Такого охотника загубили!
– Что вы его хороните! Рана не опасная. Дагай будет жить и охотиться.
– Я собирался на зиму на лоб людей уговаривать, а теперь! Что делать теперь?
– Продолжайте собираться, зимой пойдете.
– Кто пойдет? Наши люди знаешь, что говорят – проклятое это место. Сначала Чуй, теперь Дагай.
Прокоп Гавриленко с досадой махнул рукой и отвернулся.
– Слушайте, Прокоп Васильевич. Вы-то понимаете, что происшедшее – случайность: внезапно появившийся гусь, неосторожное обращение с ружьем?
– Да что я. Вы охотников убедите. Пока там никто из живых не будет, никого туда не заманишь.
– Мы пойдем!
– Вы? – Гавриленко даже ткнул пальцем в меня, – Я проводника вам дать не смогу. Вы не найдете. Лучше отправляйтесь на катере на Подкаменную, а мы здесь, дай бог поправится Дагай, сами разберемся.
Председатель повернулся и ушел в правление колхоза.
Операция прошла успешно. Пулю вытащили, она только слегка задела легкие. Дагай потерял много крови, но рана была неопасная.
После переливания крови, тяжелого сна Дагай почувствовал себя лучше. Врач, приехавший с Гавриленко от рыбаков, позвал меня в больницу.
– Вас Дагай зовет. Пройдите к нему, только долго не разговаривайте.
Дагай лежал на широкой больничной койке. Даже сквозь загар проступала болезненная бледность, лицо осунулось, но глаза были прежними – умными и подвижными.
Я присел около него. Он слегка приподнял руку, протягивая для приветствия. Рука была холодной, потной, Я поправил ему подушку и тихо спросил:
– Очень больно?
Дагай улыбнулся:
– Ничего. Сам чувствую, здоров буду. Что люди обо мне говорят? Шаманов поминают?
– Да так, особенно ничего не говорят.
– Врешь, парень. Я пока в лодке лежал, сам слышал, что говорили. Обидно, что так получилось, я ведь на самом деле сети собрал, на лоб решил пойти.
– Дагай, Павел себя виновным считает.
Дагай резко мотнул головой:
– Что ты, я виноват. Зачем за дуло тянул. Я дурак, а на лоб надо идти. Поправлюсь – пойду, там жить буду. Место хорошее. Там человек поживет, и наши люди про шаманов не вспомнят.
Вошел врач. Пора уходить. Я наклонился к Дагаю:
– Дагай, наш отряд – мы все пойдем на лоб. Завтра же. Мы еще придем к тебе. Ты скажешь, как идти, хорошо?