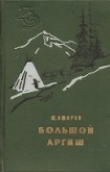Текст книги "Последний аргиш"
Автор книги: Рудоль Итс
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Люди ждали чуда! Ждали, что же будет дальше!
Глупые! Что же дальше? Неужели они не видели…
Я подбежал к матери и приподнял ее голову.
Неужели они не видели, что широкое пятно крови расплылось на ее открытой в разрезе одежды груди!
Руки мои красные от крови, я поднимаю их и кричу:
– Люди, неужели вы не видите! Он убил ее!
Но люди как неживые… Они ждут чуда…
Я бегу прочь от них, а мне вслед доносятся слова сенебата:
– Не держите его! Он снова болен…
С рассветом я подошел к стойбищу. Притаился за большой лиственницей.
Люди запрягали оленей, складывали свои вещи. Они трогались в путь, даже не ожидая меня.
Я посмотрел на наш чум. Дверь была открыта и перегорожена наискосок палкой – в чуме покойник. Санка матери стояла повернутой на западную сторону, сторону смерти. Я осмотрел все вокруг и увидел, что санка сенебата стоит так же. Неужто и он?
Но тут донесся его голос. Я не разобрал слов, расслышал только: «Оставьте их Дагаю». Кого или что нужно было оставить мне?
Наши собаки тихо скулили, они чувствовали горе людей.
Я стоял, боясь шелохнуться. Я боялся, что люди заметят меня. Я не хотел идти к ним, хотя и ждал, что вдруг кто-нибудь позовет: «Дага-ай!»
Тихо заскрипели полозья, и первая санка Чуя стала мять дорогу в рыхлом весеннем снегу. Сенебат ехал последним. К его санке были привязаны олени, которые увозили куда-то в лес мою мертвую мать.
Все уходили от меня – отец, мать, сенебат и наши люди. Даже собаки и те убежали следом за оленями.
Я оставался один на покинутом стойбище.

ОДИН В ТАЙГЕ

Их было трое. Большого рыжего пса с перебитой капканом лапой звали Соболь. Он был самым старым и, конечно, самым умным. Младшего, еще глупого пустолайку, но настороженно злого и удивительно белого, звали Лебедем. Третьего, охотничьего пса, хозяин назвал смешным именем Боской – пестрый.
Боской быстро привыкал к людям, искал их ласки, но, как все северные лайки, не заискивал перед ними. В его глазах, когда рука гладила белую, с крупными серыми пятнами шерсть, пожалуй, больше было собачьей тоски, чем голода.
Когда весна только-только собирается растопить снег и лед долгой зимы, собакам еще тяжелей, чем людям. Толстый слой льда не дает рыбакам ловить рыбу, а рыхлый снег – собакам бегать, охотиться по тайге.
Собаки в один день потеряли хозяев.
Еще утром хозяйка в теплой, украшенной на плечах красными нашивными лентами парке вынесла им еду, и они нетерпеливо ожидали, когда она разольет каждому в туяс, а к вечеру никто не вышел к ним из чума.
Прошла ночь. Псы норовили пробраться в чум, где было тепло и горел костер, но хозяин резким окриком выгонял их снова на мороз. Они жались к занесенным снегом стенкам, укрываясь от ветра. Утро все трое встретили замерзшие и голодные.
Соболь сидел перед входом и ждал, протяжно взвизгивая от нетерпения. Боской был рядом и лишь изредка подвывал. Один Лебедь лежал в стороне и не спускал глаз с двери чума.
Когда дверь откинули и хозяин вышел, неся на руках хозяйку без парки, в одном легком платье, Лебедь, радостно лая и оттолкнув своих старших друзей, подскочил к нему. Хозяин, даже не посмотрев на него, пошел к оленьей санке.
Олени понесли санку быстро. Вслед за санкой собаки прибежали на новое стойбище, на берегу озера, где летом им вдоволь давали рыбы. Они были голодны, но люди не вспоминали о них.
Занятые своими делами, люди меняли уставших оленей. И когда санка снова тронулась, три пса побежали, следом. На санке не было парки хозяйки – ее оставили у большого дома на берегу озера.
Впереди ехало много санок, но хозяин ехал последним. Никто из едущих впереди не оборачивался на него, никто не смотрел назад.
Хозяин ехал тихо, и собаки могли не торопиться.
Хозяин остановил санку под деревом, перекинул через толстую ветвь тонкий олений аркан и просунул голову в петлю…
Больше он никуда не поехал.
Первым обнюхал хозяина Соболь и не почувствовал привычного тепла его рук. Затем подошли другие. Соболь протяжно завыл, Боской и Лебедь подхватили. Люди, ехавшие впереди, вернулись и прогнали собак.
Соболь пошел обратно к озеру, за ним побежали его друзья. Они вернулись к большому дому и сели около санки, на которой лежала парка хозяйки. Скоро чужая женщина накормила их.
Прошло много времени. Они оставались у большого дома и раз в день им давали еду – каждому в отдельности.
Хозяева не возвращались. Даже собаки понимали, что мертвые не приходят…
Однажды Боской очнулся от радостного визга Соболя, вскочил и бросился стремглав к женщине, одетой в парку хозяйки. Но Соболь перестал лаять, а только тихо скулил и вилял хвостом.
Все трое обнюхали знакомую парку и отошли на свои места. Соболь вытянул больные лапы и закрыл глаза. Боской сел, а Лебедь молча погнался за облезлой кошкой, высунувшейся из-под крыльца.
Когда женщина положила парку на место, Боской приоткрыл веки и посмотрел большими умными и немного грустными, по-собачьи грустными глазами.
На другое утро Соболь и Лебедь тихо скулили, ожидая, когда женщина даст им поесть.
Она вышла из большого дома и, увидав только двоих, стала звать третьего:
– Боской! Боской, иди!
Боской еще с вечера ушел в тайгу. Он раньше других вспомнил, что в хозяйском чуме был третий человек, почти мальчик, который любил играть с ними, а весной и летом сам варил для всех троих еду. Его не было с хозяевами, когда они покинули стойбище, его не было и у большого дома на берегу озера.
Когда женщина надела парку хозяйки, Боской вспомнил о нем. С вечера он пошел обратной дорогой на старое, стойбище.
Тайга не пугала его. Пролетавшие птицы не останавливали его. Он не лаял на шнырявших по стволам полосатых бурундуков, а бежал, склонив морду к земле, в поисках старого, успевшего подтаять на солнце оленьего следа, на старое стойбище.
*
Пушистая, осыпанная снегом ветвь лохматой ели больно ударила Дагая по щеке. Он дернулся в сторону, оставляя глубокие борозды в снегу, и коснулся ствола. Крупными хлопьями, легкой пеленой, снег слетал с ветвей и таял на разгоряченном лице.
Дагай стоял по пояс в снегу, облокотившись на ствол ели. Так стоял он долго. Прерывистое дыхание успокоилось, грудь вздымалась медленней, и холодный вечерний ветер стал забираться в успевшую намокнуть от пота и остыть парку.
Дагай тяжело вздохнул и открыл веки. Большими черными чуть-чуть раскосыми глазами он посмотрел вокруг и, казалось, ничего не видел и ничего не понимал.
Наступали весенние сумерки. Взлохмаченная серая белка сидела низко на снежной лапе кедра, и ее красноватые зрачки напоминали выпученные глаза Дочери ночи.
– А-а! – с болью и страхом вырвалось из груди. Он опять закрыл глаза.
Белка испуганно перескочила на соседнюю сосну и быстро вскарабкалась на вершину.
Когда Дагай открыл глаза, обломанные сучки и хлопья снега уже успели осесть на занастившую поляну. Было холодно, немного страшновато, но сознание восстановило память только что свершившегося и появилась потребность понять, где он, что с ним?
Перед собой он видел широкую тропу. Наверное, он бежал долго, если сумел в талом метровом слое снега промять такую дорогу! Начало ее уходило куда-то под угор, за трехвершинную сосну.
За сосной на небе еще стоял отблеск вечерней зари. «На западной стороне стоит сосна. На западной!» – подумал Дагай и тут же вспомнил санку матери, поставленную на западную сторону, санку сенебата, аргиш и первых оленей, устремившихся вниз через озеро под ударами хорея Чуя.
Один, он остался один в тайге.
Не поверив случившемуся, Дагай призывно крикнул:
– Эй, эй!
Сосны и кедры, подступавшие сзади и в вечерних сумерках казавшиеся единой стеной, закачались под порывом налетевшего ветра и повторили: «Эй, эй!»
Сначала тихо, а затем громче отозвалось: «Эй, эй, эй-й!»
Дрожь пробежала по телу, стало жутко. Дагай дернулся в сторону и сразу же увяз в снегу, больно в кровь расцарапав руки о толстую корку наста. Он попытался вылезть из ямы, но наст ломался, и он увязал в снегу. Снег забился в бокари, таял и холодил ноги.
Отчаявшись выбраться, Дагай оглянулся на лес, повторявший его призыв, и ему показалось, что лес подступил ближе, что скоро вокруг будут только стволы и ветви.
Медленно пятясь назад, Дагай вышел на свою тропу, пробитую в снегу, затем повернулся к лесу спиной и побежал, спотыкаясь о снежные комья.
Он не видел ничего вокруг. Он даже не заметил, что на прежнем стойбище стоит только один чум, его чум. Дверь чума закрыта поставленной наискосок палкой. Он забыл, что живому нельзя теперь входить в чум, и, уставший от бега, напуганный вечерней тайгой, бросился на свое место, где так и осталась лежать оленья шкура.
Очнулся он от резкого холода, забравшегося в мокрую парку и бокари.
Бессознательно он подполз к костру, обнаружил несколько еле тлевших углей, подбросил бересту и стал дуть. Занялся огонь. Несколькими сучьями и поленьями, оказавшимися в чуме, удалось разжечь большой костер. Стало тепло, даже душно.
Дагай распахнул парку, снял бокари и потный забрался в оленье одеяло. Быстро пришло забытье.
Тяжелый, болезненный сон длился долго. Временами Дагай просыпался, чтобы подбросить оставшиеся поленья в огонь, и снова впадал в забытье. Проходили часы. Вспотевший, но дрожащий Дагай бредил.
*
Дважды вставало над раскидистым кедром солнце и дважды уходило на западную сторону. Но не видно дыма над островерхим одиноким чумом.
С утра ветер несет над поляной стойбища колючие крупинки подтаявшего и застывшего за ночь снега, а днем, когда солнце греет, раскидывает струи воды, стекающей с кедра, сосен и елей. Наступает быстрая северная весна.
Черные проталины на солнечной стороне бугров с каждым днем становятся шире, чернеют и желтеют людские зимние тропы и оленьи дороги. К полудню отовсюду слышен звон тающего снега, когда под его толщей ручьи несут, отрывают мелкие льдинки. Ударяясь друг о друга, они поют – «длинь, длинь».
Уже в третий раз взошло солнце. Третий день над чумом не видно дыма, и только доносится слабый стон.
Солнце идет по небу, его лучи освещают дымовое отверстие чума, проникают внутрь.
Чуть слышно из чума донеслась песня, точно песня шамана у изголовья больного, без слов – печальный, заунывный мотив.
К середине третьего дня, когда прошло забытье и мозг побудил Дагая жить и действовать, он ослабевшими руками вытащил из оставленного куля горсть муки, смешал ее с грязным талым снегом под покрышкой Чума и жадно проглотил месиво. Чуть-чуть прибавилось сил. Он приподнялся и внимательно осмотрел чум.
По шестам бежал солнечный луч. Костер – груда пепла. На обычном месте, где сидела мать, не было ни ее постели, ни ее туясков и ящичков. Не было и постели сенебата. Кругом только ветви пихты, служившие подстилкой под оленьи шкуры.
Он оглянулся. Сразу же за его постелью, прислоненная к шестам, лежала свернутая шкура сохатого, рядом стоял куль с мукой. Дагай потянул шкуру, она подалась с трудом.
Развернув шкуру, Дагай увидел свое ружье, полный патронташ, несколько кусков сахару, топор, тесло и свой нож.
«Так это мне хотел оставить сенебат?» – подумал Дагай и, почувствовав боль в груди, как в первый день возвращения в чум, неожиданно запел, без слов, закрыв глаза, как пел сенебат, когда болела мать.
Он откинул голову назад и открыл глаза. Первое, что он увидел, был мешок из вывернутой шкуры гагары. Рядом с этим мешком, непромокаемым, служившим хранилищем спичек и табака, висел сверток из белой материи.
Дагай приподнялся, отчетливо ощущая боль в каждом суставе, и дернул мешок и сверток. От чрезмерного усилия он откинулся навзничь, тяжело задышал.
Отдышавшись, Дагай почувствовал мучительный голод. Ослабевшими за время болезни руками он развязал узел шнура и с радостью обнаружил несколько спичечных коробок.
В самом дальнем углу берестяные покрышки чума – тиски – были теплыми от солнечных лучей. Тиски были двойными, плотными, лучше, чем обычная береста.
Дагай поднес оторванный кусок берестяной покрышки чума к зажженной спичке. Скоро вновь пылал костер.
Дагай выполз из чума и, не поднимаясь, добрался до санки с ящиком. Он хотел только одного – есть, есть!
Как будто и нет уже сил, но он напрягается, встает над санкой и, поднатуживаясь, откидывает крышку ящика.
Чайник, кусок замерзшей оленины, старые рыболовные сети, пачка пороху, мешок дроби и тесло…
Дагай быстро схватил мясо и чайник. Откуда только взялись силы, чтобы нагнуться и зачерпнуть под санкой, в тени, оставшийся еще снег.
На самом дне чайника булькает вода, в золе печется, румянится оленина. Дагай выжидательно смотрит на огонь. Скоро он сможет поесть!
Он терпелив, он ждет.
Разморенный теплом, уставший от только, что затраченных усилий, Дагай заснул.
Нет, это как будто бы и не сон. Он видел, как румянилось мясо, кипел чайник. По чуму расходился приятный запах жареного. Скоро еда будет готова.
Он видел все, но он спал. Резкий призывный лай разбудил его. Мокрый лохматый пес стоял над ним и, высоко подняв голову, лаял.
– Боской, Боской!
Дагай широко открыл глаза, схватил пса, радостно вилявшего хвостом.
– Боской… Ты один?
Дагай потащился к выходу. Он увидел озеро, черный лед и забереги.
– Так ты один, Боской! – воскликнул Дагай и понял, что сенебат не зря ставил свою санку на западную сторону. Сенебата тоже нет в живых!
Но сознание происшедшего не вызвало никаких чувств, он был равнодушным к судьбе тех, кто оставил его одного в тайге.
Дагай добрел до своего места в ту минуту, когда Боской яростно рвал зубами успевший обуглиться кусок оленины и опрокинул чайник.
«Давно не ел Боской», – с сожалением подумал человек и в ту же минуту бросился к псу. Собрав остаток сил, человек рванул кусок мяса из собачьей пасти, Боской огрызнулся и больно вцепился в руку.
– Боской, назад, отдай! – крикнул человек.
Пес опешил, и, улучив момент человек с удовольствием откусил первый кусок горелого сверху, сырого внутри мяса. Он глотал его большими кусками, а пес смотрел не отрываясь, и глаза его наливались злобой.
Человек не видел ничего вокруг, и пес грозно зарычал, пригнулся и прыгнул. Щелкнули зубы, но человек успел откинуться назад. Снова пес готовится к прыжку, а человек ничего не видит, человек ест.
Боской прыгнул и сбил Дагая наземь. От неожиданности Дагай выронил мясо и, увидев, как собака подхватила оставшийся кусок, яростно подтянул ружье, не раздумывая, сунул первый попавшийся патрон и направил дуло на Боскоя.
Боской оторвался от куска и прижал уши. Он так делал всегда на охоте, когда сенебат поднимал ружье. Он был хорошим охотничьим псом.
– Ладно, ешь Боской.
Дагай положил ружье и выпил из чайника остатки воды. Голод не проходил.
Боской покончил с олениной, виновато поджав хвост, подошел к Дагаю и жалобно заскулил.
– Больше ничего нет, Боской. Ничего нет, только мука и сахар.
Дагай оторвал новый кусок тиски и бросил ее в костер.
Пробившееся сквозь черный дым искристое пламя ярко осветило мрачный в наступивших сумерках чум.
Боской жадно потянул носом и крадучись подполз к белому свертку из материи, который так и лежал с гагарьим мешком. Пес обнюхал сверток и, схватив его, поднес Дагаю. Тот недоуменно взял. Тяжеловат сверток. Положил рядом с собой. Боской вновь схватил сверток и поднял его к лицу сидевшего хозяина.
– Ну, что ты, Боской?
Дагай нехотя стал разворачивать материю. Оказалось, что в большом белом куске материи было еще два разных по величине свертка. Который побольше Дагай отложил в сторону, но пес, урча, ткнул носом в него. Дагай развернул его.
Желтоватый брусок медвежьего сала выпал на колени.
– Токуле! Отец, пришедший медведем… – горестно выдохнул Дагай. – Токуле… – повторил Дагай и стал лихорадочно искать клочок газеты с портретом отца.
Возня Боскоя с другим свертком привлекла внимание.
– Боской, дай!
Влажный от пота газетный листок прилип к ткани свертка. В нескольких местах зубы Боскоя повредили портрет, но даже при тусклом свете костра вновь видны черты отца.
Дагай бросил в огонь кусок бересты. Стало светлее, и из маленького просалившегося тем же медвежьим салом свертка выглянуло востроносое, с выпученными глазами лицо Дочери ночи.
Дагай попятился, вздрогнул: так вот что оставил ему сенебат!
– А-а-а! Чтобы ты сгорела, проклятая!
Он швырнул куклу в разгоревшийся костер и испугался – ждал, что сейчас загремит гром, расколется земля, повалятся деревья.
В дыму костра промелькнули выпученные глаза Дочери ночи, пламя вскинулось, и вскоре от свертка ничего не осталось.
А за чумом все тихо. Встала яркая луна. Созвездие Сохатого перешло на северную часть неба. Полночь…
*
Созвездие Сохатого, Дорога Альбы, Вечерняя звезда – так называют кеты светила звездного неба.
По звездам человек отсчитывал время, по планетам вел счет годам. Он не только боготворил голубой и черный свод, не только в пору тягот обращался к нему с мольбой, но и посвящал ему свои мечты, дарил ему свои земные сказки, слова ласки, поэтическое настроение. Через многие тысячи лет пронес человек мечту о небе.
Семь звезд, соединившихся в яркий ковш Большой Медведицы, кеты называют Сохатым. Всмотритесь в ночное небо, и вы увидите у второй звезды «рукоятки ковша» еле заметное мерцание ее далекой сестры, это не просто звезда – это охотничий котелок.
А дело было так.
В голодное время разные народы гоняли по тайге лося – сохатого. Далеко убежал зверь от людей, отстали все народы, только три человека вот-вот настигнут добычу.
Совсем близко от сохатого бежит кет, он уже выпустил стрелы, они поразили зверя. На ночном небе прямо против второй звезды «дна ковша» видны эти стрелы – две группы звезд. Три звезды в каждой группе, две сзади и почти рядом, одна далеко впереди – оперенье и наконечник стрелы.
Вторым за кетом спешит селькуп – это он уже приготовил котелок, чтобы поесть жирной сохатины.
Третьим бежит эвенк, он поотстал, он возвращался назад за котелком.
Но так сначала было на земле, а не на небе. Только когда охотники убили сохатого, разделали его тушу, разожгли костер и стали ждать жаркого, они посмотрели на небо и увидели, что звезды переместились и стали картиной, рассказывающей об их охоте.
На бледно-сером весеннем небе ночью пропадают почти все звезды, их свет не освещает земли Севера, и только одна яркая звезда не гаснет под лучами зари – Вечерняя звезда, во многих других странах ее называют Венерой. Вряд ли кто скажет, в каком из этих двух названий больше поэзии.
Человек не только находил путь по звездам, скитаясь в морских и песчаных просторах земли, по зарослям джунглей и тайги. Человек в своей мечте прокладывал дороги в звездном мире, ведь недаром на самых различных языках широкая полоса звездных скоплений называется путем или дорогой.
Великим богатырем был Альба, он прорубил в скалах путь Енисею на север, он прогнал в ледяное царство Смерть, чтобы не могла она быть рядом с людьми, чтобы путь ее к людям шел через препятствия. Альба боролся и жил ради людей.
Он гнал Смерть – Хосядам – по земле, но она решила обмануть его и умчалась на небо. Высоко поднял тогда Альба свой хорей, больно ударил сильных оленей и взлетел с санкой на небо.
Он гнал на небе Хосядам, гнал ее дальше на север, и с тех пор на небе осталась его дорога, след его богатырских саней – Альбакан – Дорога Альбы. Другие называют это Млечным Путем, а кеты – Дорогой Альбы!
Не только от земных горестей человек грезил небом, человек постигал его, так же как постигал землю. Он мечтал, но он верил в возможность достичь непостижимое. И он не ошибся в себе, в своей мечте и надежде.
Человек мечтал о небе и дарил ему поэзию бытия.
*
Кусок оленьего мяса и медвежьего сала несколько восстановили силы Дагая. Наутро он смог выйти из чума, добрести до быстрого ручья, и вернувшись, приготовить лепешку.
Теперь ясным тихим весенним днем он мог подолгу сидеть у чума, на успевшей растаять и высохнуть проталине и дышать солнцем. Солнце вернуло крепость его рукам и надежду на будущее.
Он сжег Дочь ночи, но Хосядам не покарала его. Прошло много дней, но он даже не слышит криков, похожих на плач или смех дотам.
«Чему ты удивляешься? – слышится иногда ему по ночам. – Тебя учил сенебат, тебе он отдал своих духов. Они берегут тебя, помни!»
Он просыпается и невольно всматривается в пространство– кажется, сейчас он увидит лицо сенебата. Никого. Только у самой двери лежит Боской, похудевший от голода и беспрестанной, почти бесполезной беготни по тайге.
Добычи нет. Нет еще и перелетной птицы, озеро только-только начинает раскалывать лед, а в чуме осталась одна мука.
Дагай в который раз, пробуждаясь от ночных голосов, решает утром попытать счастья в поисках таежной дичи, если позволят силы.
Утром, чуть приглушив голод куском полусырой пресной лепешки, он берет ружье. Боской прыгает от радости.
Дагай выходит из чума и с трудом добирается до края леса. Дальше он идти не может, а разве будет глухарь сидеть здесь, на краю. Боской жалобно скулит, но хозяин, постояв с час у сосны, бредет назад; хозяин боится потерять силы.
Пес один убегает в тайгу и возвращается к вечеру злой.
Тяжелое время весна на Севере. Пройдет первый дождь, и, словно проснувшись от долгой спячки, двинутся снега с места, понесутся речками и ручейками в реки и озера. Подопрет их ледяной барьер, и разольется вода на тысячи и сотни тысяч полян, маленьких угоров. Затопит она леса, и лишь одинокие высокие мысы – «лбы» – с исполинскими кедрами смогут приютить человека.
На сотни километров нет земли, кругом вода и деревья в ней. Так будет стоять вода почти месяц, а затем пойдет на убыль. Но тут еще хуже.
Там, где только что ты проезжал на лодке-долбленке, которую в этих краях ласково называют «веткой», вылезли коряги, грозящие пропороть тонкое дно. Неожиданно образовались завалы из плавника и вывороченных льдом и водой деревьев. Или заторосит путь неведомо откуда появившийся лед, снесенный водой из теневых мест. Вот и добывай себе пищу весной.
Одна надежда на места икромета щуки, окуня или язя, да на опускающихся на воду перелетных уток или гусей.
С заходом солнца Дагай слышал высоко в небе крик лебедей. Они первыми прилетели на север, но уходили дальше, в тундровые края.
Еще недолго ждать, еще надо потерпеть. Утром над чумом высоко-высоко шли на север гуси, а к полудню появились стаи черных уток.
С каждым пролетом стаи загоралась надежда, и Дагай ласково потрепал Боскоя:
– Потерпи, завтра и к нам сядут, какие тут забереги, видишь.
Озерная вода с каждым днем приближалась к чуму. Каких-нибудь пятьдесят шагов – и уже широкий, как река, заберег – полоса воды, отделявшая берег от черного льда озера.
– Видишь, – говорил Дагай Боскою, который, высоко задрав морду, с сожалением провожал очередную стаю перелетной птицы, – на озере полыньи и трещины появились. Сядут тут гуси или утки, сядут, Боской, придется тогда тебе поработать, ветки-то у нас с тобой нет. Нет ветки-долбленки.
Начал накрапывать редкий теплый дождик.
– Вот и дождь. Сядут, Боской, сядут.
Дагай с вечера натаскал веток ели и сосны к самому берегу и стал делать скрадку в виде шалаша. Работал с ожесточением, падал от усталости и плакал от бессилия, но скрадка была готова. В чум ой добрался уже ползком.
На другой день голова гудела от боли, саднило в груди, руки с трудом удерживали ружье, но Дагай сидел, затаившись в скрадке, и не спускал глаз с озера. Боской лежал рядом. Они ждали долго.
От солнечного тепла прямо на глазах полыньи на озере расширялись, трещины покрывали лед паутиной, а на той стороне в заберегах уже плавали льдины. Таял поверхностный лед озера.
Девять гусей летели низко над головой. Они появились неожиданно из-за леса с противоположной стороны. Первый замедлил полёт и пошел на лед у самого края заберега.
Все девять опустились разом. Дагай прикинул расстояние. Стрелять бесполезно, не достанет. Боской толкнул хозяина, но тот не поднял ружья. Пес зарычал.
Гуси всполошились, поднялись и пошли прямо на скрадку. Раздался выстрел. Два гуся упали, один в воду, другой на берег. Боской бросился из засады и скоро принес гуся, положил его у ног хозяина и побежал снова. Вот он достал из воды и второго.
– Молодец, Боской, теперь мы жить будем, молодец.
Дагай скоро совсем окреп. Боской выручал его, принося дичь отовсюду, куда бы ни упала она.
Чум казался обоим хорошим жильем, хотя в нем не было доброй половины покрышки.
Теперь Дагай начал ощущать радость свободы от сенебата. Почти ничто его не мучило по ночам, только иногда как будто чей-то голос твердил о духах сенебата.
Но приходил день, патронов еще было много, была дичь, пища, и Дагай стал внимательно присматриваться к тайге, ко всему, что окружало его.
Он заново учился познавать землю, на которой жил, должен был жить, хотя и остался один.
Почему один – а Боской? Все чаще и чаще говорит с ним Дагай, боясь забыть речь людей.
– Завтра с рассветом мы на месте сядем, где вострохвосты были. Сколько добудем, нам хватит, Боской. Ветку делать начнем. К людям пробираться будем. По воде пробираться будем. Ты понял?
Боской понимал.
Серые льдины уже кидало ветром по озеру из края в край. Утром тишина, спадает ветер. Солнце, которое почти не сходит с неба, греет.
Солнце серебрит открытую воду озера. Вдалеке кромка посеревшего льда. Тихо. Ясно. Пахнет теплом, талым снегом, прошлогодними листьями. С тонким печальным криком пролетел одинокий лебедь. Снова тихо.
Раскатистый шум, грохочущий треск неожиданно раздался из самой глубины озера. Пронеслись волны, появилась крутая воронка, и что-то огромное, бело-черное полезло наружу, разрушая тишину. Дагай испуганно вскрикнул:
– Тэлло!
*
Впервые о тэлло Дагай услышал много лет назад, на другой год после смерти дедушки Альдо.
Была ранняя, но затяжная весна. Сенебат весновал у курьи недалеко от озера. Тогда на озере ставили свои чумы эвенки. Древняя вражда эвенков с селькупами и кетами ушла в прошлое. Теперь эвенк Кирмагир был в большой дружбе с сенебатом и даже взял в жены дочь дедушки Альдо.
Поздним вечером в чуме сенебата услышали звон колокольчиков и встревоженный окрик Кирмагира. Не распрягая оленей, сосед вошел в чум и, переведя дыхание, рассказал:
– Пошел я через озеро сушняк посмотреть. Топор взял и веревку. Пешком пошел, наст-то еще держит. До середины озера не дошел, как ступил на черный лед, так и провалился. Лечу вниз. Упал на что-то мягкое, как шерсть сохатого. Страшно стало. Смотрю, два огромных белых зуба впереди торчат. Никак, на тэлло упал. Совсем перепугался.
Вода подступает, а зверь огромный ничего не чует. Топор-то и веревка как были в руке, так и остались. Думал, конец пришел, потом сообразил: пополз к голове чудища, один конец веревки на руку намотал, второй к зубу тэлло прикрутил. Поднял топор и со всей силой стукнул тэлло между зубов. Оно вскочило, разворотило лед и я очутился на берегу.
Очнулся, а лед на озере раскидан, и никого кругом нет. Я так перепугался, что прибежал в чум, взял оленей и скорей к тебе, сенебат. Что ты скажешь?
Сенебат слушал внимательно, а когда рассказчик кончил, спросил с усмешкой:
– А ты, Кирмагир, не выдумываешь?
Эвенк обиженно протянул сенебату большой круглый кусок кости:
– На веревке остался кусок зуба тэлло. Ты мне не веришь, сенебат, возьми его. В зимнюю ночь, когда будешь рассказывать детям сказки, сделай себе ложку. Возьми кость, такой нет ни у медведя, ни у сохатого.
Кирмагир ушел, и вскоре зазвенели колокольчики его оленей. Сенебат взял кость и только тогда обратил внимание на маленького Дагая, который сидел притихший, захваченный удивительным рассказом гостя. Сенебат пристально посмотрел на мальчика:
– Дагай, бойся весеннего озера. Весной просыпается тэлло. Русские считают такие кости костями мамонта, но наши отцы называют его тэлло. Не все верят, что тэлло живет на земле, даже не все наши люди.
Дагай испуганно посмотрел на сенебата:
– А кто же из наших не верит?
– Как кто? Так ведь твой… – тут сенебат задержал дыхание и, что-то буркнув про себя, повторил: – так ведь твой дедушка Альдо не верил.
С той поры, когда весной на озере с рассветом раздавался шум, сенебат говорил Дагаю:
– Слышишь, тэлло встает.
Дагай боялся весеннего, покрытого отдельными льдинами озера. Он боялся тэлло.
*
Увидев, как из воронки встает что-то бело-черное, Дагай зажмурил глаза и сразу же вспомнил ту весну, рассказ Кирмагира и все, что говорил потом сенебат.
«Может быть, мой настоящий отец не верил в тэлло», – промелькнуло в голове, и Дагай заставил себя перебороть страх, открыть глаза.
На озере не было никакого чудища, только над тем местом, где была воронка, плавала огромная глыба белоснежного льда. Льда, который поднимается весной со дна, когда приближается новый весенний месяц – «месяц икромета щуки». «Может быть, тэлло ушло под воду, пока я сидел с закрытыми глазами», – подумал Дагай и тут увидел, что Боской лежит спокойно, как будто бы ничего не случилось.
– Ты ничего не видел, Боской?
Дагай потрепал пса за ушами и продолжал:
– Будем уток ждать, нам много надо припасти, чтобы спокойно ветку делать.
Боской, не поднимаясь, лениво вильнул хвостом. Он соглашался с хозяином.
Шум и грохот над водой раздался как раз в ту минуту, когда на озеро прямо перед Дагаем опускался второй табун уток. Напуганные птицы прошли над водой и взмыли к лесу, а Дагай, не опуская ружья, пересиливая желание опять зажмурить глаза, смотрел на вновь появившуюся воронку.
Вода быстро уходила вниз, и в образовавшуюся пустоту полезла огромная льдина, белая сверху и черная снизу, даже с прилипшими желтыми стеблями озерной травы.
– Льдина, огромная льдина со дна! – закричал Дагай. – Льдина – не тэлло! Она с землей со дна озера поднимает наверх древние кости. Такую кость и нашел у озера Кирмагир!
Дагай обрадовался своему открытию и как-то по-иному смотрел вокруг.
*
Окажись человек один в тайге, и всюду его будут преследовать утренние, дневные, вечерние и ночные шумы. Становится страшно, особенно когда приходят на память внушенные с детства мистические толкования странных явлений.
Ты же знаешь? Это не тайга шумит – это плачут покинутые дети, стонут обиженные покойники; смеются, хохочут помощники смерти – дотам. Налетит неожиданный резкий ветер – значит умер где-то злой шаман. Загремит, зашумит озеро – остерегайся: это встает тэлло. Увидел на вершине березы в затопленном половодьем лесу пучок свившихся ветвей – объезжай стороной: то жилище ульгыся – водяного. Когда такой пучок несется, подхваченный вихрем по воде – скорей правь к берегу, уходи от греха.
Надо быть мужественным, чтобы идти на шум, крик и плач дремучего леса.
Дагай решился. Он хотел узнать правду.
Тихонько на западной стороне в лесу заплакал ребенок. Дагай прислушался. Ветер то налетает, то затихает. Порыв коснется покрышки чума – и опять слышится плач.