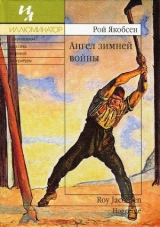
Текст книги "Ангел зимней войны"
Автор книги: Рой Якобсен
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
9
Я раздал рубщикам поручения: кому топить, кому чинить инструмент, кому стирать и прибираться, сказал, что мы должны оставить дом в том же чистом виде, в каком он был. И наврал, что хочу узнать как можно больше о каждом из них, дескать, мне важно понять, что они могут, а чего нет, сказал я; Антонов толмачил, старался изо всех сил, хотя я заметил, что он переводит не все. А учитель снова заговорил, ровно и убедительно, как у школьной доски.
– О чем он? – спросил я, потому что речь никогда не кончалась.
Но Антонов мгновенно ответил – да так, ерунда, ни о чем, и мне показалось, что дело не в трудности перевода, проблема в учителе и теме.
– Брось, – сказал я. – Переведи.
Крестьянин закатил глаза.
– Ну, он о каком-то ученике своем рассказывает, тот украл коня…
– И?
Суслов знай себе вещает дальше с загадочной улыбкой, выдаст длинное предложение и ждет Антонова, тот переводит вдвое-втрое дольше. Потом Суслов продолжает; все внимательно слушают, если он пошутит, они не смеются, пока Антонов не переведет, чтобы посмеяться вместе со мной, а когда учитель скажет что-нибудь глубокомысленное, все кивают после слов переводчика. Оказывается, мальчишка, ученик Суслова, украл коня и поскакал в соседнюю деревню, продавать. Но его арестовали, На допросе он заявил, что сделал это не ради денег для своей семьи, а по приказу председателя колхоза, где работал его отец; и сколько парня ни били, он от своих слов не отступился.
Взяли председателя, он обвинений не признал. Но люди не могли поверить, что двенадцатилетний малец способен так долго лгать, и встали на его защиту. Затеяли разбирательство, и выяснилось, что председатель мухлевал с деньгами, приворовывал, расстроил свой и без того завидный дом. Короче, его арестовали и осудили не только за мошенничество с деньгами, но и за конокрадство, к которому он был не причастен. А мальчишку отпустили и выставили героем.
Суслов удовлетворенно замолчал.
– И в чем смысл? – спросил Надар, видя, что продолжения не будет.
Учитель улыбнулся и спросил, как он сам думает, словно бы перед ним был ученик-тугодум. Надар обиделся, а Суслов вдруг окончательно почувствовал себя в своей стихии.
– Глупый, – сказал он Надару. – Разве ты не понимаешь: ребенку гораздо труднее врать, чем взрослому.
– Но он же сумел?
– Да, он сумел. Сподличал по-взрослому.
Учитель скрестил руки на груди, в комнате стало тихо.
Лев вступился за брата:
– Так и хорошо, разве нет? Поймали жулика.
– Одна подлость не оправдывает другую, – сказал Суслов уже с явным раздражением. – Человек не имеет права…
– Что значит – не оправдывает? – вскрикнул Михаил. – По-моему, все по справедливости и вышло.
– Ты так говоришь по недомыслию. В цивилизованной стране мальчишку бы тоже наказали. А председателя разоблачили гораздо раньше.
Рубщики переглянулись и затараторили все разом, Антонов и не пытался переводить.
– Скажи им, здесь я решаю, что справедливо, а что нет, – велел я ему.
– Так он же еврей, – возразил Антонов по-фински, презрительно тыча пальцем в сторону Суслова, и тот, видимо, понял, о чем речь, так как разразился длинной гневной отповедью. Все захохотали, Антонов тоже.
– Он говорит, что он цыган, – хмыкнул он.
Суслов, видимо, понял и это тоже и разъярился окончательно. Когда он наконец смолк, Антонов перевел, что Суслов, оказывается, назвался цыганом просто для примера.
– Примера чего?
– Не говорит. Он хочет нам что-то доказать.
Суслов уже не орал, а визжал.
– Теперь он говорит, что у нас ума меньше, чем у одного русского. Он взбешен.
– Я вижу. А он правда еврей?
– Нет, нет и нет! – завопил учитель.
– Ты понимаешь по-фински? – спросил я. – Спроси: он знает финский?
Антонов спросил, в ответ Суслов опустился на стул и закрыл лицо руками. Остальные заговорили между собой, мне показалось, речь шла о водке и сигаретах. Вдруг учитель снова взвился.
– А всего через два месяца мальчишка украл другого коня! – радостно перевел Антонов. Рубщики хохотали и хлопали в ладоши.
– Тоже на продажу?
Учитель смотрел на Михаила затравленно, как на безнадегу.
– Это не важно. Важно, что он деградировал как личность. Мораль истории такова: мальчишка стал продажным человеком.
С нетерпением дождавшись, пока Антонов все переведет, они еще помолчали – ждали, когда я скажу свое слово, но я безмолвствовал, и младший из братьев задал волновавший всех вопрос:
– Он хотел продать и этого коня тоже?
– Да, – ответил учитель бесцветным голосом и демонстративно замолчал.
– Он не желает продолжать разговор, – сказал Антонов.
Рубщики стали наседать на учителя, они и грозили, и улещивали. Надар вскочил со словами, что прибьет его, учитель рявкнул в ответ то, что даже я понял.
– Идиота! Ничего вам больше не скажу!
– Он назвал нас всех идиотами. Тебя тоже.
– Меня?
– Да, и финн тоже, так и сказал.
Михаил процедил что-то сквозь зубы, учитель смутился.
– Михаил ничего такого не сказал, – тут же выпалил Антонов и сцепил руки на груди.
– Врешь, – ответил я. – Переводи!
– Не буду.
Я вынул из короба с дровами топор, положил его на стол и сказал Антонову, что у него ровно одна минута. Он боязливо посмотрел на Михаила.
– Он пригрозил убить учителя, если тот не расскажет дальше, – произнес Антонов бесстрастно и потупился, словно он тоже считал, что учителя надо заставить говорить. Я заметил, что остальные не сводят с нас глаз.
– Мы должны помогать друг другу, – сказал я.
Антонов глянул на меня с недоумением.
– Мне это переводить?
– Да.
– Но мы хотим услышать, чем все кончилось.
– Я не знал, что ты говоришь по-фински так хорошо, – сказал я, он удивленно зыркнул на меня, потом гордо кивнул.
– Я много чего умею. Но мы хотим дослушать историю. Это наше право!
Я был с ним согласен, но боялся, что уступчивость повредит моему авторитету, а между тем учителю явно не терпелось узнать, о чем мы говорим. Я придвинул к нему топор, положил обе руки учителя на рукоять и сказал:
– Скажи ему: пусть защищает себя.
Антонов взглянул на меня очумело, но перевел, и Суслов отдернул руки от топора, словно обжегшись.
– Он говорит, ему защищать нечего, – заржал карел.
– Пусть рассказывает.
Антонов вдохнул и рыкнул что-то учителю в лицо, тот беспомощно откинулся назад. Остальные громко захохотали.
Я притянул Суслова назад, к столу, и жестом объяснил ему, что выбора у него нет. Он заговорил, но голос звучал безжизненно и равнодушно, как речитатив в пустом храме. Рубщикам опять не понравилось.
– Это саботаж, – сказал Антонов и уж собрался рыкнуть на учителя еще раз, как его опередил Михаил, судя по всему, снова пригрозивший Суслову расправой. Тот обреченно замахал руками, продолжая нудно бухтеть.
– Теперь он говорит, что история закончилась, когда мальчишку похвалили вместо того, чтобы наказать. Это в ней единственный поучительный момент. А твое мнение?
– А зачем он рассказал, что парень украл другого коня?
Антонов перевел вопрос. Суслов отвечал как приговоренный к казни.
– Говорит, мы его вынудили.
– Так это неправда?
– Правда, но это уже лишнее доказательство, ненужное – ну, того, что мальчишка испортился, стал продажным. Вот что он говорит, но, по-моему, недоговаривает, просто чтоб мы от него отвязались.
В первый раз увидев Антонова, я подумал: что-то с ним не то. Так пугает нас звереныш, с рождения ведущий себя не как остальные, мы ведь не ждем, что собака будет петь, а дрозд блеять. Дело в том, что Антонов всегда выглядел так, словно работает дома, на своем поле, рубит и сгребает граблями в какой-нибудь ясный и мирный летний денек, и это было непостижимо, ведь мы все тут одичали, перестали себя за эти недели узнавать, и вот этого непрошибаемого Антонова так заела чья-то болтовня.
– По-моему, он просто сволочь, – все не мог угомониться карел. – Наверняка он и еврей, и цыган тоже, я слышал, такое бывает.
Я опять сказал ему, что он здорово шпарит по-фински, хотя он сажал по ошибке в каждую фразу.
– Это дело нелегкое, – сказал он примирительно и потянулся, как после тяжелой работы.
Учитель воспользовался заминкой и пристроился полежать на лавке с ведрами. И тут твердь у нас под ногами тряхануло так, что с полок посыпались стаканы и чашки, а стекла обоих обращенных к дороге окон внесло в дом.
Убедившись, что никто не ранен, я выскочил на улицу и увидел, что ближайший дом, один из тех, в которых Николай топил печь, разрушен прямым попаданием, крыша и стены пылали, среди руин бегали люди с ружьями и санитар со скатанными носилками. В ответ ударила артиллерия Илюшина, а стоявшие вокруг развалин церкви танки тронулись с места и вереницей потянулись на север.
Я рванул выше, к дому бабки Пабшу – он стоял как стоял, темный и заброшенный. А из соседних домов выскакивали солдаты, их было несколько десятков, и исчезали в ближайшем окопе. Человек шесть пытались потушить полыхавшую полевую кухню, мельтешили солдаты и офицеры, мешались звуки, и я впервые увидел зарево в лесу на той стороне озера: это били финские орудия, они стояли у самой паромной переправы.
Я вернулся к рубщикам, они испуганно вжимались в пол, выбирая из волос и одежды осколки и щепы, только Михаил заколачивал фанерой выбитые стекла, как безумный твердя одну и ту же фразу.
– Он говорит, что живой, – сказал Антонов. – Что будем делать?
– Не знаю.
Мы сидели и молча слушали войну, пока нам не показалось, что она зазвучала как обычно, а может, мы просто привыкли к новому звучанию.
– По-моему, Рождество, – сказал Антонов в пустоту.
– Да, – сказал я. – Вчера было…
Он задумался.
– Финское?
Я кивнул.
– Мы выживем? – спросил он.
– Да, – ответил я.
Он обдумал и эти мои слова.
– Откуда ты знаешь? – он выдавил улыбку.
Я попробовал тоже улыбнуться.
– Они отступают, – сказал я. – У них там тоже разброд.
Антонов выкрикнул несколько фраз по-русски, и все посмотрели на нас, ожидая чего-то.
– Ну а мы что?
– Я не знаю.
– Что финны сделают с нами?
– Тоже не знаю.
Родион был коренастым и крепко сбитым мужичком, и даже теперь, похудев и осунувшись, он совсем не казался хилым – этот механик с головой странной формы, обладатель пары дамских туфелек, которые он снова баюкал у груди.
– Формы на нас нет, – бубнил он. – Они могут принять нас за пленных или дезертиров, мы можем так и говорить.
– Русские нас не тронули, – сказал я, – поэтому как теперь посмотрят на нас финны, я не знаю. К тому же неизвестно, что вообще останется от города, пока финны его возьмут…
А потом я стал рассказывать о своем хуторе, это километров двадцать от города, в Лонкканиеми, сказал, что если все не против, мы может укрыться там, на хуторе есть и еда, и горючее…
Я разливался соловьем, а непрошеные мысли о том, каким образом эти доходяги по метровому снегу одолеют два десятка километров, в сорокаградусный мороз, да так, чтоб их не заметили ни финны, ни русские, плотной цепью лежащие по обеим сторонам озера, – эти мысли я старался задвинуть подальше, но тут потребовал слова Лев.
– Он говорит, что нам надо сделать из простыней накидки, как привидений изображают, – с улыбкой перевел его Антонов, – чтобы они нас не заметили.
– Я тоже об этом думал, – соврал я, раздосадованный, что мне не пришла раньше в голову эта простая мысль; в доме полно постельного белья, кипенно-белого, и машинка швейная есть. Братья тараторили, перебивая друг дружку, старались убедить остальных.
– Они считают, что надо попробовать, – сказал Антонов. – И я тоже «за». А лошадей мы не найдем?
Я задумался, мне уже хотелось отыграть назад.
– А учитель как думает?
Антонов поговорил с Сусловым, тот кивнул, он тоже готов был рискнуть. Я посмотрел на Михаила, и тот снова сказал «за», хотя вид у него был оглоушенный. Мы взглянули на Родиона, он лежал на коврике, закрыв лицо руками, красные отсветы от огня в печке блестели на лысине, мизинцами он мерно похлопывал по закрытым векам.
– Да! – сказал он, не глядя на нас. – Да, да, да!
Они были похожи на детей, которым удалось добиться своего, поэтому мы, не обращая внимания на грохот, от которого повыбило стекла и в восточной стене тоже, стали собирать по всему дому белые полотнища; мы оттащили в кухню Роозину машинку, братья кроили, а Родион с учителем строчили; они озорничали и болтали, переругивались и смеялись, им было глубоко плевать на грохотавшую за окном битву. Одно хорошо: они теперь будут заняты делом до утра, надо надеяться, потому что нам осталось одно только это игольное ушко. Как давно был сожжен Суомуссалми? Три недели назад, четыре? Целый человеческий век. Но потом снова возникли проблемы: братья требовали пуститься в путь как только маскировочные накидки будут готовы, Суслов, отчего-то ставший главным поборником этого безрассудного плана, возражал, Мне пришлось перейти на крик, чтобы заставить Антонова утихомирить их.
Посветлело всего на несколько часов, мороз не спадал, разрывы гранат, крики, железные гусеницы, перемалывающие мерзлые комья земли, машины, которые горят, обугливаются и сгорают, деревья, которые ломаются и валятся на улицы и траншеи, бегущие люди, орущие люди, город держался, и нам оставалось делать то же, что и все это долгое время, – ничего.
Я законопатил окна подушками и простынями и безостановочно жарко топил печь в кухне, где я обретался вместе с котом, Антоновым и Михаилом, которые спали по очереди, сторожа меня. Антонов устроился у печи, взял чурбан и ковырял его ножом, изредка бормоча что-то себе под нос, широченные плечи на минуту напрягались, когда снаряд ложился близко, рубщики приделали к накидкам остроугольные капюшоны, мы походили на белых монахов.
– Не верится, – пробормотал вдруг Антонов.
– Ты о чем?
– Что они в дом не попадают.
Я кивнул. Он опустил нож и посмотрел на меня.
– О чем ты думаешь, когда тебе хорошо? – спросил он.
Я не понял вопроса, потому что он сделал четыре ошибки в предложении, но он повторил его, я сообразил, что он хочет поговорить.
– О лесе, – сказал я, просто чтоб не молчать. И он коротко хохотнул, будто сроду ничего глупее не слыхивал. – Лес так приятно шумит, – продолжил я. Он засмеялся громче.
– Сейчас я бы этого про него не сказал.
– А ты о чем думаешь?
Он долго молчал, потом серьезно ответил:
– О моем сыне. Я представляю себе, что он получил хорошую профессию, прилично зарабатывает, счастливо женился, родил пятерых славных ребят, что он состоялся в жизни и строит ее по себе, вот о чем я думаю.
Он бросил на меня взгляд, а потом вздохнул и продолжил:
– Но это я так, мечтаю, ничего из него не вышло, ни жены у него нет, ни детей, не годен он ни на что.
Он улыбнулся.
– Но я все равно думаю, что он женился и как-то устроился в жизни, как я думал когда-то, пока он рос и надежда еще оставалась; странное дело, я же знаю, что обманываю себя, но все равно мне приятно об этом мечтать, как будто еще не поздно.
– А еще я думаю о воде, – сказал я, чтобы отвлечь его от грустных мыслей, и стал рассказывать о Киантаярви, к концу лета оно прогревается градусов до двадцати и можно купаться с четырех камней, спускающихся вниз как лесенка, и плавать среди камышей и лилий, смотреть на ласточек и слушать зудение всяких мошек, я запросто умею лежать на воде, я так даже спать могу.
Антонов кивнул.
– Ну а бабы? – сказал он сухо. – Про баб ты никогда не думаешь?
– Никогда, – соврал я, потому что я часто мечтаю о женщинах, особенно о Марии-Лиизе Лампинен, она была нашей учительницей в школе, как же от нее пахло молоком в те годы, когда все чувства распалены, а теперь она стала такая тощая и холодная, что я стараюсь избегать ее при встречах и дров ей больше не продаю, я бредил ею в молодости и всегда думаю о молодой Марии-Лиизе, а эта старая тетка может стареть сколько ей влезет, это ее дело, и я вдруг понял, что думаю точно как Антонов, мечтаю о том, чего больше нет, о времени, когда надежда еще оставалась, и думаю так, как будто она еще не вся вышла, и тогда я впервые испугался, мне это показалось знаком того, что мы не сдюжим и что мы оба это поняли, словно бы побратавшись, не так уж это невозможно, потому что этого человека я понимал, мы были очень похожи.
– Надо уходить, – сказал я. – Буди всех. Немедленно!
10
От задней стороны дома через ельник, куда я вешал свиную тушу, ведет неглубокая тропка. Я шел первым и тащил санки, нагруженные едой, постельным бельем и всем, что, по моему разумению, могло нам пригодиться: инструмент, котелки, веревки, одежда плюс Родионовы туфли. К санкам я привязал веревку, чтобы остальные держались за нее или обвязались ею. Лыжи я отдал учителю, а детскую пару – Родиону. За ним шли братья, а последними – Антонов с Михаилом. По-хорошему надо бы двум самым сильным идти впереди и торить путь, но тогда я потерял бы контакт со слабейшими.
Позади нас опять полыхал город, и пока мы не перевалили через низкий пригорок, где мне пришлось решать, идти ли нам вдоль озера, что было самым легким, или продираться сквозь лес, что было самым надежным, город пыхал нам в спину огненными языками, похожими на студеный закат.
Я бросил санки и пошел назад вдоль нашей колонны, заглядывая каждому в лицо. Родион и Суслов, оба, отвели глаза, они тяжело дышали, никто не радовался, что мы успешно миновали передовую, все наши силы шли на борьбу с холодом, он стоял между деревьев как непреодолимая стена из битого стекла.
– Все нормально, – прохрипел Антонов, – Нам далеко еще?
Я не ответил, а попросил его узнать у Михаила, не мерзнет ли тот.
Парнишка ответил:
– Нет.
– Спроси еще раз, – сказал я. – И пусть говорит правду.
Михаил снова ответил: нет, раздраженно, но вяло.
Я повторил Антонову, что если парень замерзнет, он уже не согреется. Крестьянин спросил, про что это я заладил.
– Нам далеко еще?
Я и в этот раз не ответил.
Выстрелы слышались где-то впереди, у озера. Я вернулся к санкам и потащил их в лес, вдоль по тропинке, которой я хожу летом.
Но не прошли мы и полукилометра, как учитель стал всхлипывать; рыдания делались все громче и громче, так что довольно скоро я вынужден был остановиться. Суслов показал знаком, что хочет снять лыжи.
– Спроси, не мерзнут ли у него ноги.
Учитель сказал, что ноги не мерзнут, но идти в лыжах невозможно, слишком тяжело.
– Без них еще тяжелее, – сказал я. – Пусть не снимает.
Насколько я видел, с остальными все обстояло неплохо, я только в Михаиле сомневался, поскольку жаловаться он никогда не жаловался и узнать, как он на самом деле, я не мог.
– Он знает, что ему надо все время двигаться? – спросил я Антонова. – Даже когда мы стоим на месте, пусть шевелит пальцами на руках и ногах.
Крестьянин перекинулся с парнишкой парой слов, и оба сказали «да». Я проверил, насколько мог, остальных, никто ни слова не говорил, но и белых пятен обморожения ни на ком не было, я решил двигаться дальше.
Учитель замолк. Но еще через километр Родион шепнул что-то и упал навзничь. Я услышал, как выматерился Антонов. В следующую секунду лег на снег Лев, а его брат опустился на колени. Я велел Антонову поставить их на ноги. Он взялся за дело жестоко, но никто не кричал и не протестовал.
– С этими слабаками, – пыхтел Антонов, – у нас ничего не выйдет. Пусть остаются.
Я ответил, что думаю о том же.
– Мы не можем разжечь костер, потому что его далеко видно. Но если мы будем двигаться, не останавливаясь, до самого…
Он чихнул и заговорил с Михаилом. Парень ничего не отвечал. На секунду показалось, что Антонов вот-вот потеряет сознание.
– Еврея и прочих оставляем тут, – прорычал Антонов. – И Михаила тоже, у него больше нет сил. Только ты да я можем это выдержать.
Я притворился, что обдумываю его слова.
– Мы идем дальше, – сказал я. – Делай что хочешь, но они должны стоять на ногах.
Нам несколько раз встречались следы, проторенные пешими, и лыжниками, и колесами, но мы не пошли по тем следам, хотя идти так было бы легче. Из-за спины то и дело доносились возмущение и недовольства, но я делал вид, что ничего не слышу. Потом мы снова напали на следы и тут же уткнулись в штабель из двадцати с чем-то трупов русских солдат. Родион зарыдал, остальные молча отпрянули. Я рассмотрел задубевшие тела – все застрелены, наверно, при попытке сбежать, но почему их навалили такой грудой?
– Их расстреляли? – спросил Антонов.
– Не думаю, – сказал я. – Но кто скинул тела в кучу, я тоже не знаю.
В одном вещмешке я нашел флягу с водкой, в другом – замороженный хлеб, пару одеял, но на них не было ничего из оружия, и никакой годной к носке одежды я тоже не нашел. Мы прошли еще несколько сот метров и сели посидеть на куче валежника, я дал Антонову разделить водку. Он сам не пригубил, передал Родиону, который вдруг вскрикнул и стал отплевываться. У Антонова хватило сил засмеяться. Я сказал, что это моя ошибка, и забрал у него флягу. Но теперь заорал Надар, мы сидели на штабеле трупов, пролежавших здесь, судя по глубине снега, примерно неделю. Я огляделся и тут и там на крошечной полянке заметил под искристым снегом какие-то возвышения. Антонов несколько раз наподдал ногой по ближайшему к нам, и показался темный кусок солдатской формы, русской.
– В нескольких километрах от города есть избушка, – сказал я, – мы, должно быть, где-то неподалеку.
– Неужели мы прошли всего несколько километров?
Я не услышал вопроса.
– Она такая приземистая, что ее заносит снегом полностью. Поэтому возможно, что ее никто до сих пор не обнаружил.
Антонов умоляюще посмотрел на меня. Я сказал, что нам надо идти дальше.
И через час мы нашли избушку, из-под снега ее не было видно совершенно. К тому моменту мы не только потеряли Родиона и Льва, но и снова вернулись на войну: на льду всего в каком-нибудь полукилометре от нас шло настоящее сражение.
Я попросил Антонова откопать дальнюю от озера стену избушки и прорубить лаз внизу, а сам сходил и приволок на саночках сперва Родиона, потом Льва, сломавшегося первым. Оба были без сознания, но дышали.
Избушка была прогнившая, но бревна смерзлись, и Антонов к моему приходу выбился из сил. Я велел рубщикам лечь друг на друга и драться, или сношаться, или делать что хотят, но шевелиться, а сам приступился к стене. И нижнее бревно поддалось, а следом и два других. Мы втащили внутрь Родиона и Льва и положили их на подпорки, где обычно лежит лодка. Я прорубил дырку в крыше и ободрал с ближайших елок сушняк – и скоро у нас уже горел костерок, а дым тонкой белой палкой выходил в дырку в крыше.
Я велел Антонову согреть водку, а потом надавать пентюков этим двоим обморочным и не останавливаться, даже если они вдруг придут в себя и станут возмущаться. А сам ушел за дровами и таскал сухие ветки до тех пор, пока в заснеженной избушке не стало так же тепло, как было в домике Луукаса и Роозы.
– Они увидят дым, – сказал Антонов.
– Возможно. Или унюхают. Но у них и самих костры, а нам без этого не продержаться.
Он кивнул и сказал, что теперь они с Надаром могут сходить за дровами, а я чтобы отдохнул.
Я сказал, что пойду с ними. Мы набрали ельника, накидали его на пол и положили на него Родиона и Льва. Мы положили их к огню и прикрыли одеялами, а сами легли за ними, тесно прижались друг к дружке и постепенно заснули. Но, пробудившись, я обнаружил, что Михаил сидит и следит за костром, вид у него был смущенный, видно, стыдился, что не помогал. Я протянул ему флягу, он сделал глоток и заплакал. Я сделал вид, что не заметил этого, и вышел наружу – серая вата под матовым звездным небом начала редеть, бой на озере затих, но на горизонте я различал в несметном количестве темные точечки, солдат, лошадей, здесь и там стояли покореженные, сожженные машины, последний бой на Суомуссалми чернел на льду, он походил на застывшую гримасу, нельзя было разобрать ни малейшего движения.
Рядом с избушкой я не увидел никаких следов, только наши, и сперва подумал замести их, а потом сообразил, что если нас кто и найдет, то только финны, а они, скорей всего, просто возьмут нас в плен, – если только не разнесут избушку в щепы сразу, обнаружив дым.
Я притащил дрова, достал немножко еды, мы с Михаилом поели. Постепенно и все проснулись, даже Лев и Родион. Оба соображали с трудом, были не в себе, но Родион тут же потребовал свои туфли, и это быстро переросло в свару между братьями, и Лев сказал, что будет до конца жизни презирать Надара: как он мог бросить его замерзать?
– Какой жизни-то? – хмыкнул Надар.
Антонов переводил, смеясь. Даже Михаил изобразил подобие своей былой куничьей улыбки. Как ни странно, никто не спросил, что мы будем теперь делать. Сам я тоже об этом не заговаривал. Мы жили в теплом коконе. Спали, ели волглый хлеб, который грели в котелке, в этом раю под миром, под снегом мы провели сутки. А потом Лев отказался идти писать наружу. И брат под держал его. Антонов сказал, что надо проголосовать. Я ответил, что об этом и речи быть не может: и срать, и ссать мы будем только на улице. Антонов перекинулся парой слов с остальными и сказал торжественно-усталым голосом:
– Мы не вынесем больше холода. Даже я. Мы не будем выходить на улицу.
– Вы хотите лечь здесь и умереть?
– Да, мы уже так решили. И ты ничего не можешь с этим сделать. Мы дошли до последней черты.
Я кивнул в знак того, что уважаю их решение. И присоединился к их мнению, это мудрое решение с одной оговоркой – пусть ходят в какой-нибудь котелок, который я буду выносить, и пусть позволят мне носить дрова, пока хватит сил.
Они долго разговаривали между собой, потом Антонов снова обратился ко мне.
– У нас кончилась еда, – сказал он. – Умирать от голода дольше, чем замерзать. Мы не можем сговориться.
– Что ты хочешь сказать?
Он фыркнул.
– Я не хочу, чтобы ты топил дальше, так все кончится быстрее. Но эти слабаки хотят, чтобы ты поддерживал огонь, но и умереть быстро они тоже мечтают. Еще мы говорили о том, что ты должен вернуться назад, тебе одному это по силам, но даже и об этом нам не удается договориться.
– А кто что говорит?
Он запнулся.
– По-моему, тебя надо отпустить, но остальные боятся.
– Тогда я останусь, – сказал я и объяснил, что буду костровым и что я должен был понимать, что у них не хватит сил дойти до хутора, нам надо было оставаться в доме Луукаса и Роозы, а теперь мы даже вернуться туда не сможем, и я виноват, нам не надо было уходить из Суомуссалми, я не сделал этого, когда жгли дома, и теперь не следовало.
Антонов положил руку мне на плечо и сказал, чтоб я не думал об этом.
– В городе такой же холод, – усмехнулся он.
Потом заскворчал Михаил, мы положили его к самому огню, но он продолжал бормотать что-то.
– Это он о коте, – сказал Антонов.
– Спроси у Льва и Родиона разрешения, чтобы я осмотрел их раны, – сказал я.
Он попросил меня не тратить времени на их уговоры. У Льва почернели пальцы на одной ноге, а у Родиона одна нога от колена до пят была сухой и белой, и черные ногти на обеих ногах. Я долго изо всех сил растирал ее, потом забинтовал и пошел принести еще веток для костра. Со всех сторон по-прежнему стояли стеклянные стены заледеневшей тишины, но на озере я увидел свет от фар, а потом услышал звук: масса лошадей, людей, орудий двигалась южнее…
К моему возвращению рубщики уснули. Я подвинул их, подновил костер свежими еловыми ветками и жег их, пока Антонов не раскашлялся. Он проснулся, посмотрел на дым и снова уснул. Я добавил еще веток, потом еще, так всю ночь. Проснулся Михаил, в ясном уме, обнаружил дым, но ничего не сказал. Я жестом попросил его помочь мне передвинуть остальных. Никто из них от этого не проснулся, даже Антонов. Но все дышали спокойно.
Я поманил Михаила с собой на улицу, принести еще дров. Это оказалась плохая идея. Михаилу она была не по силам, мне пришлось вернуть его назад, но на все это ушло много энергии.
– Я хочу есть, – показал он пальцами, пристраиваясь полежать рядом с остальными.
А я остался дальше работать истопником, чувствуя, как что-то нарастает и во мне, и вокруг, как неумолимая хватка, едва ощущавшаяся мною во время разговора с Антоновым в вечер накануне нашего ухода, сжимается, как по моим грезам расплывается белое пятно – это знак того, что и мне не вернуться назад. Но я докончил дело. Конченым я еще не был. Хотя вернулся к остальным, не дождавшись темноты.
Видимо, наступил день. Я подложил в костер свежих веток. И только гораздо позже Антонов спросил, что я задумал. Я не ответил, как будто не понял, он не переспрашивал. Велев рубщикам перелечь по-другому, я попросил Суслова рассказать что-нибудь – он не проронил ни слова с тех пор, как мы поселились в избушке, и сейчас продолжал молчать, несмотря на тычки и пинки Антонова.
– Я не знал, что замерзать насмерть так больно, – сказал Лев.
Антонов ответил, что дело не в холоде, но в голоде. Они переругались, но свара была без страсти и задора и прерывалась долгими паузами – а я все подкладывал и подкладывал в костер свежие ветки.
Около, судя по всему, полуночи я услыхал шум и вылез наружу, на озере мельтешили огни, машины шли на юг.
Я заполз в избушку и положил в костер самое большое полено, а сверх того еще кучу веток, пламя пыхнуло, опалило стену и зацепило переборки крыши; кашляя, проснулись рубщики, но только братья испугались. Антонов снова спросил, что я задумал, Суслов и Михаил промолчали.
Опалило всю восточную стену и закапало с крыши. Мы отодвинулись от огня и капели и прижались к уцелевшей стене.
– Теперь хоть все быстро закончится, – сказал Антонов.
Все обледенело и горело плохо, хотя дым делался гуще. Но потом бревна просохли и затрещали, занялась крыша, вся целиком, нам пришлось вылезти наружу. Похоже было, что я совершил еще одну глупость. Рубщики таращились круглыми глазами. Я сказал, что нам надо лечь на остатках лапника как можно ближе к кострищу и, по мере того как избушка будет прогорать, сдвигаться.
– А потом все закончится быстро, – сказал я.
И они снова меня послушались.
Я проснулся от тихих голосов, чтобы увидеть вокруг мои леса, пляшущие на теплом летнем ветру деревья, но острая боль прорезала ногу. Рядом с собой я увидел рот Михаила, распухший язык, парень беззвучно шептал молитву. Вокруг нас в синем свете утра стояло десять, двенадцать человек в белом, все с оружием за спиной. На льду внизу у прогалины урчал грузовик со включенным мотором, окутанный белым облаком собственных выхлопов.
Я сел и увидел, что рубщики лежат полукругом вокруг черного солнца на снегу. Было холодно. Было ужасно холодно. Подошел, скрипя настом, солдат и что-то сказал по-фински. Я ответил.
– Финн? Ты финн?
– Я рубщик дров, – сказал я.
Он улыбнулся в заиндевелую бороду.
– Это я вижу. Стоять можешь?
Нет, этого я не мог, потому что моя нога вмерзла во что-то черное, бывшее теплым.
– А это кто? – спросил он и кивнул на остальных.
– Тоже рубщики дров, – сказал я.








