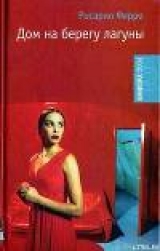
Текст книги "Дом на берегу лагуны"
Автор книги: Росарио Ферре
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
14. Тоска-предсказательница
В Понсе были тогда убиты семнадцать человек, почти все подростки, и множество демонстрантов было ранено. Газеты Острова, дабы оправдать губернатора, обвинили во всем полковника Арриготию, который в упор расстрелял безоружных кадетов.
Дону Эстебану Росичу было тогда девяносто лет, и он так и не смог оправиться от потрясения, – его зятя публично обвинили в том, что он мясник. С ним случился сердечный приступ, и вскоре он умер. Маделейне вернулась в Бостон на одном из пароходов «Таурус лайн» вместе с забальзамированным телом отца. Она так больше и не появилась на Острове, остаток дней она провела в семейном доме в Норд-Энде. Я никогда не видела ее; все, что я о ней знаю, мне рассказал Кинтин.
Аристидес одиноко жил в шале в Розевиле. Он возненавидел белые орхидеи и однажды, облив бензином теплицу за домом, поджег ее. Когда пламя как следует разгорелось, он пошел в свою комнату, достал парадную форму и фуражку с золотым орлом и бросил все это в огонь. Когда уходил, то услышал потрескивание, будто кто-то вскрикивал и жаловался, и ему показалось: он слышит Маделейне, которая сетует на судьбу, обрекшую ее на женственный, словно цветок орхидеи, облик и на силу духа, достойную мужчины. У него сжалось сердце, но он не обернулся – боялся удостовериться, что это она.
Аристидесу было пятьдесят девять лет, и его мучило одиночество. Друзья покинули его, поскольку им трудно было общаться с ним по-английски, а приятели, общие с Маделейне, – супружеские пары, с которыми они играли в бридж каждую пятницу, – перестали приглашать его после того, как она вернулась в Бостон. После расстрела в Понсе на него смотрели как на чудовище. Даже губернатор Виншип отказал ему, когда он попросил у него аудиенции в Ла-Форталесе. Его официально обвинили в том, что он отдал приказ стрелять, судили и признали виновным. Вскоре его разжаловали из начальников полиции. К счастью, не посадили в тюрьму. Его приговорили к домашнему заточению. Он не выходил на улицу целый год, но потом стал сбегать из дома, несмотря на то что к нему был приставлен офицер-охранник.
Аристидес выставил шале в Розевиле на продажу и попросил, чтобы ему разрешили переехать в дом поменьше в Пуэрто-де-Тьерра, район, где он родился. Он продал «Таурус лайн», открыл счет в банке на имя Ребеки и положил туда все деньги. Ему самому вполне было достаточно страховки. У Ребеки двое детей, и деньги помогут ей не зависеть от Буэнавентуры, если когда-нибудь возникнет такая необходимость.
Когда в конце XIX века пристань Сан-Хуана была разрушена, чтобы продлить авениду Понсе-де-Леон, появился квартал Пуэрто-де-Тьерра. Арриготии нравилось жить возле старых стен. Нравилось, глядя на них, размышлять о судьбах империй, вспоминая знаменитое стихотворение Франсиско Кеведо: «Старинная стена на Родине моей, которая когда-то так была могуча, а нынче вся разрухе предана». Уж если испанская империя, обладавшая таким могуществом, пришла в упадок, нечто похожее когда-нибудь вполне может случиться и с Соединенными Штатами. Ему становилось грустно: он все еще восхищался этой страной. Но возможно, тогда все, что с ним произошло, не будет вызывать у него такого стыда.
Аристидес подолгу гулял по Старому Сан-Хуану. Он любил свой город – это было все, что у него оставалось. Волосы у него побелели и отросли; он отпустил бороду, чтобы никто его не узнавал. Он поднимался по улице Форталеса и покупал газету на углу улицы Гонсалес Падин, где ветер был такой сильный, что ему казалось, будто он плывет на корабле. Ветер трепал волосы и приносил ему ощущение молодости. Аристидес пересекал Пласа-де-Армас, где вокруг фонтана с фигурами, изображающими четыре времени года, всегда сидели несколько нищих, и вынимал из кармана мелочь, чтобы раздать милостыню. Потом шел вверх по улице Христа и выходил на луг Сан-Фе-липе-де-Морро. Там ему было лучше всего; он любил сидеть на траве, глядя на детей, запускавших воздушных змеев, которые приклеивались к небу, словно разноцветные стеклышки. Он гладил и ласкал бродячих собак, а те подходили к нему и обнюхивали его мятые брюки и заляпанные грязью ботинки.
Иногда он доходил до Пасео-дела-Принсеса и там любовался закатом солнца. Несколько рыбаков удили рыбу прямо с лодок; они появлялись в пять утра, а в восемь возвращались домой с уловом. Обычно он был невелик: пара морских лисиц; колючий морской еж, из которого можно приготовить кулебяку; черный толстый угорь со злыми глазами посередине лба. Вместе с окончанием рыбной ловли прекращали сновать по бухте туристские кораблики, и пляж был усеян пластиковыми бутылками, обрывками оберточной бумаги и прочим мусором. Но Арриготия этого не замечал. Он смотрел на линию горизонта, где небо и море были одинаковой синевы и можно было унестись душой куда тебе угодно. И ничто на берегу не могло его остановить. А там, вдали, среди бесконечного покоя, он забывал о том, что потерял все.
Он считал: ему повезло, что он живет в портовом городе, где отовсюду видно море. Вода будто зализывала его ноющие раны и понемногу залечивала их. И давала ему надежду, на гребешках волн она несла ему обещание жизни и любви. Надо было только суметь дождаться.
Однажды, гуляя по Сан-Хуану, Арриготия увидел дом, выкрашенный в желтый цвет, с вывеской на дверях, которая привлекла его внимание: «Посетите Тоску-гадалку, и вы обретете средство от одиночества». Внизу была нарисована ладонь, расчерченная на пять частей: эмоции, самоуважение, энергия, внутренняя сила и дух. На кончике каждого пальца был изображен какой-нибудь святой. А в середине ладони Одинокая Душа, обнаженная до пояса, молилась, скрестив руки, в окружении пламени. Дом находился неподалеку от форта Сан-Кристобаль, на улице Луны, в той ее части, которая пользовалась дурной славой; это был квартал вымогателей, где жили продавцы лотерей, сводни и проститутки.
Аристидес подумал, что он и есть та самая Одинокая Душа, и решил войти. Отодвинул занавеску из пластмассового стекляруса и шагнул в темный коридор.
– Пожалуйста, снимите обувь, прежде чем идти дальше, – сказал голос откуда-то из глубины. Голос был молодой, слышно было, как где-то льется вода. В доме веяло приятной прохладой. – А теперь снимите пиджак и галстук, – сказал голос.
Аристидес огляделся и подумал, откуда молодая женщина может знать, что на нем надето, – вокруг было темно. В глубине коридора он увидел маленький алтарь с изображением Аллана Кардека, спиритиста, украшенный искусственными цветами из крепа. На фотографии над головой Кардека сияли луна и семь звезд. Арриготия пошел туда, снял ботинки, галстук и пиджак и положил все это на маленькую скамеечку перед алтарем. Открылась дверь, и оттуда вышла красивая мулатка в цветастом халате.
– Полная луна благоволит к тем, кто ищет друг друга, – сказал она, беря его за руку. – Тем, кто поклоняется ей, она дает свет и силу и помогает найти дорогу.
И она опустилась на колени перед алтарем. Потом повела Аристидеса в маленькую комнатку в задней части дома, где не было никакой мебели. Они сели на пол на подушки из потертого бархата. Рядом с ними в единственной лампаде курился дымной спиралью фимиам, да в углу комнаты стоял аквариум с рыбками, в котором поднимались пузырьки воздуха.
Тоска наклонила голову и сложила ладони. Черная волна волос закрыла ее, так что лица не стало видно.
– Вы ничего не должны говорить, – сказала ему девушка. – Закройте глаза и отдайтесь своим мыслям, они сами полетят ко мне.
Аристидес глубоко вздохнул.
Тоска взяла левую руку Арриготии в свои и стала медленно водить пальцем по линиям его ладони. Она заговорила так, как говорят, войдя в транс.
– Все покинули тебя: жена, губернатор, друзья, – прошептала она. – У тебя был долгий счастливый брак. Но твой тесть умер и не пожелал, чтобы его похоронили на Острове. Твоя жена не захотела с ним расставаться и увезла его тело на пароходе далеко отсюда. Твоя дочь – свет очей твоих, но она замужем за человеком, которого ты не выносишь. Одиночество может быть очень суровым наказанием, особенно если ты не сделал ничего такого, чтобы заслужить его.
Она умолкла и выпустила его руку. Занавес из черных волос откинулся назад – на Аристидеса смотрели сверкающие, влажные черные глаза. Он так и сидел, уронив голову на грудь.
– Я пришел, потому что хочу покончить с собой, но у меня не хватает смелости, – сказал он дрожащим голосом. – Укажи мне средство, которое поможет старику обрести мужество.
Тоска посмотрела на него с сочувствием. В свои пятьдесят девять лет Аристидес был все еще привлекательным мужчиной, с длинной седой шевелюрой и крепкого сложения.
– Ты всегда был хорошим человеком, – сказала она ему. – Но то, что хорошо для одних, плохо для других, нельзя угодить всем. Твоя ошибка в том, что ты с самого начала не понял, в чем для тебя благо. И все-таки есть у тебя одна возможность, не убивай себя, пока не используешь ее. – И она, положив руку ему на бедро, наклонилась и поцеловала его.
Аристидесу показалось, что его тело растворилось в воздухе, словно дым, поднимающийся из лампады, которая свисала с потолка позади Тоски. И вдруг он почувствовал себя так, будто рядом была Маделейне; он словно вдыхал запах ее духов, похожий на аромат орхидей, чувствовал прикосновение нежного золотистого пушка к своей щеке. Однако Тоска не дала ему времени подумать об этом. Она откинулась на подушки и стала раздеваться. Аристидес не останавливал ее. Тоска разделась и легла рядом с ним. Аристидес повернулся к ней и стал целовать. От нее исходил терпкий аромат земли, густых зарослей кустарника, диких куропаток. Он снял одежду, закрыл глаза и проник в самую глубину ее естества. Когда все кончилось, он в изнеможении откинулся на подушки. Маделейне испарилась, как не бывало. Его больше не мучил ни запах ее духов, ни золотистый пушок.
– Спасибо, Тоска, – сказал он. – Это лучшее средство для Одинокой Души.
Перед его уходом Тоска сказала:
– Твоя целомудренная душа вконец иссушила твое нутро. Что тебе нужно, так это погрузиться на время в пучину греха. Приходи ко мне каждую неделю, – увидишь, как быстро ты пойдешь на поправку.
Тоска оказалась права. После того, как он тридцать семь лет занимался любовью в соответствии с брачными рекомендациями монахинь из монастыря Непорочного Зачатия в Бостоне, любить Тоску было для него освобождением. Впервые в жизни Арриготия чувствовал себя по-настоящему счастливым.
Офицер полиции, который был приставлен к Аристидесу, ходил с ним до дома Тоски. Он ничего не сказал начальству о том, что там происходило, но рассказал все Ребеке. Та была возмущена, узнав, что ее отец живет с какой-то мулаткой. Когда Аристидес пришел навестить ее в доме на берегу лагуны, то сел на террасе в ожидании, что Ребека спустится и побудет с ним, но она так и не появилась. Даже Буэнавентура, уж на что у них были плохие отношения, и тот обошелся с ним лучше. Он находил его приключение с гадалкой весьма живописным и в чем-то оздоровляющим.
– Эта Тоска как раз то, что нужно твоему отцу, – сказал он Ребеке однажды. – Если мужчина еще на что-то способен в постели, значит, скоро он не загнется.
Когда Буэнавентура приходил вечером с работы домой и заставал там Арриготию, который опять явился с визитом, он тоже усаживался на террасе перекинуться с ним словцом. Он спрашивал, как идут дела и не надо ли чем помочь, потом прощался с ним и уходил к себе в комнату принять душ и переодеться. Но если Ребека за чем-нибудь спускалась вниз и оказывалась на террасе, то отворачивалась и проходила мимо, будто он призрак.
Арриготия тяжело переживал разрыв с дочерью. Он был баск, а для басков семья – это главное. У него начались «сдвиги». Он впадал в состояние аффекта и, стоя на углу какой-нибудь улицы Старого Сан-Хуана, произносил монологи все более несуразные.
– Кровь кадетов-националистов республики омыла нашу звезду, которая скоро займет свое место на американском флаге, – говорил он прохожим, которые останавливались его послушать. – Хвала тем американским конгрессменам, которые однажды откажут нам в государственности, чтобы мы стали независимой страной.
Когда Ребека узнала об эксцентричном поведении отца, она стала давить на Буэнавентуру, чтобы тот упрятал его в сумасшедший дом. Буэнавентура какое-то время сопротивлялся, но когда над ним начали насмехаться и говорить, что его тесть похож на нищего, бродит в лохмотьях по улицам Старого Сан-Хуана и говорит глупости на политические темы, другого средства не осталось. Через несколько дней карета скорой помощи с двумя санитарами остановилась около дома Арриготии в Пуэрто-де-Тьерра, чтобы забрать его, но полковника там не оказалось. Его искали по всему городу, но так и не нашли; никто понятия не имел, что с ним могло случиться. Однажды, когда Буэнавентура попал в форт Сан-Кристобаль, чтобы запастись продуктами для американских военных, расквартированных в городе, он обратил внимание на то, что вывеска на доме Тоски исчезла. Соседи сказали ему, что гадалка куда-то переехала несколько дней назад вместе с высоким седовласым мужчиной.
Буэнавентура никогда не рассказывал об этом Ребеке, но когда он слышал, как ее друзья сожалели о «трагической судьбе бедного полковника Арриготии», то кусал губы, чтобы не рассмеяться. Историю об исчезновении деда Буэнавентура рассказал Кинтину много лет спустя, а Кинтин передал ее мне.
15. Бегство Карлоса и Кармиты
Мой папа был не просто хороший столяр, он был настоящий художник. И поэтому я так сожалела, когда он оставил свое дело и стал обыкновенным коммерсантом. В те времена мы жили в большом неустроенном доме, где была его мастерская. Моя колыбель стояла рядом с его рабочим столом, и среди самых ранних моих воспоминаний я помню металлический визг пилы, одурманивающий запах клея и прохладу скипидара, брызги которого иногда попадали мне на кожу. Молоток, рубанок и стамеска всегда были рядом, и мне нравилось смотреть, как папа из древесного ствола вытачивает мебель.
Карлос был худой и выжженный солнцем, как все, кто живет на природе, а руки и ноги у него были такие длинные, что делали его похожим на водяного паука. Несмотря на то что он родился в столице, в нем всегда было что-то деревенское. Он носил простые хлопчатобумажные рубахи и сандалии из буйволовой кожи и часто употреблял старые народные поговорки вроде: «Гол как сокол» или «Пришла беда, отворяй ворота».
Я любила смотреть, как он работает. У него был свой стиль, он украшал мебель изысканными резными цветами: маками, ирисами, анютиными глазками. Люди восхищались его изделиями, и во всех гостиных Сан-Хуана стояли кресла, стулья и кресла-качалки, сделанные руками моего отца. Его консоли для двухстворчатых зеркал, украшенные корзинами винограда и пальмовыми листьями, красовались в казино и в самых элегантных салонах города, и молодые девушки с восхищением разглядывали их, отдыхая на балах между танцами.
Карлос женился на Кармите против воли Баби, как, впрочем, и против воли бабушки Габриэлы и дедушки Винсенсо. Они с Кармитой и в самом деле были очень разные. Мама была выше и крупнее папы, и в ней абсолютно не было никакой артистической жилки. У нее были большие глаза, а тело казалось похожим на ванильное мороженое – такая она была белая и плотная. Когда Баби увидела ее в первый раз, Кармита ей не понравилась. У Кармиты была какая-то особенная манера садиться, – она будто заполняла собой стул и выглядела при этом ужасно самодовольной, что раздражало Баби. Но Кармиту не задевало плохое отношение Баби. На губах ее цвела неизменная улыбка, словно она знала секрет, как сделать счастливыми папу и себя.
Кармита была самой младшей из шести сестер, и, когда вышла за Карлоса, остальные сестры были уже замужем. Она ничего не делала второпях и никогда не теряла терпения. Когда она познакомилась с папой, ей было двадцать восемь, на два года больше, чем ему; в сущности, она была уже старая дева. Ее сестры познакомились со своими мужьями, когда дон Винсенсо разбогател, и могли выбирать жениха по своему вкусу. И Винсенсо боялся, что Кармита выйдет замуж за искателя приданого. Она – наследница кофе, говорил он, и если она выйдет замуж за нищего, то потеряет все.
Папа с мамой познакомились во время благотворительной ярмарки в Понсе. Кармита убежала из дома, где за ней все время вели неусыпный надзор, и отправилась гулять. С восхищением смотрела она на скачки, где лошади бегали по кругу с невероятной быстротой, опрокидывая флажки с номерами, и тут папа приблизился к ней и сказал:
– Поставьте один доллар на тринадцатый номер. Сегодня вторник, тринадцатое, ни жениться нельзя, ни в море выходить. Он принесет вам удачу.
Кармита удивленно посмотрела на него. Ей понравились его тонкие усики, похожие на два крылышка над улыбающимися губами. На Карлосе был синий костюм, довольно поношенный. Он приехал в Понсе на ярмарку продавать мебель; место, где он расставил свои стулья и кресла, было неподалеку. Кармита послушалась его совета, поставила доллар на лошадь светлой масти под номером тринадцать, написанным на попоне, и выиграла двадцать долларов.
– Первый раз в жизни я что-то выиграла! – воскликнула она. – Скажите мне, на какую еще поставить.
Карлос посоветовал ей поставить на гнедую лошадь под номером два.
– Два – мой любимый номер, он означает, что ты всегда будешь не один, – сказал он.
И Кармита выиграла еще двадцать долларов.
– Здорово! – закричала она, хлопая в ладоши, как маленькая девочка.
Карлос поручил своему другу присматривать за товаром и взял Кармиту под руку. Они стали ходить от киоска к киоску. Кармита играла в серсо, в «балду» и в лотерею «бинго» и все время выигрывала.
– Давайте и дальше ходить вместе, – сказала Кармита, смеясь, пока считала выигранные деньги. – Вы приносите мне удачу.
Вскоре к ним подошел продавец надувных масок. Они были привязаны к высокой палке, которой он размахивал из стороны в сторону, демонстрируя маски прохожим. Почти все маски изображали дьявола с рогами. Несмотря на то что они были устрашающими, Карлосу они показались занятными; он купил одну и надел на себя. Это был красный пузырь с зеленым рогом на подбородке, двумя желтыми рогами у висков, и еще один, синий, красовался вместо носа. Он раскинул руки и стал подпрыгивать, изображая летучую мышь, и при этом кричал: «Подайте страшной маске на кусок хлеба с луком!» Кармита смеялась до слез.
– Купите мне Печальную Принцессу, – сказала она, показывая на маску с кружевной диадемой и слезинкой из прозрачной бусинки на щеке. – В следующий раз, когда мои родители станут надоедать мне, чтобы я не влюбилась в нищего, надену эту маску и буду кричать: «Подайте на кусок хлеба с луком!»
На следующий день Карлос нанял грузовик, чтобы отвезти мебель в Сан-Хуан.
Потом он пошел на станцию и стал ждать ближайший автобус, который отходил в час дня. Он сел на скамейку и тут увидел идущую по улице Кармиту. На ней была маска Печальной Принцессы, а белокурые волосы были заплетены в тугую косу. В правой руке она несла чемодан, в левой – охапку крапивы.
– Надо питаться тем, что дает земля, – сказала она, подмигнув Карлосу, когда подошла к остановке. – Кофе надо смолоть и процедить, а крапива растет на обочине и ничего не стоит.
Карлос взял у нее чемодан, и вскоре они сели в автобус вместе.
Папа явился домой в Трастальерес вместе с Кармитой, которая висела у него на руке, как ярмарочная кукла. Баби не могла понять, что он нашел в этой девушке, которая все время смеялась, будто пятилетняя, а ведь ей было уже двадцать восемь.
– Она просто дурочка. Если она будет жить с нами, то должна зарабатывать себе на хлеб, а она не умеет ни готовить, ни шить, ни убирать. Единственное, что она умеет, – это спать до одиннадцати часов. Мы не можем позволить себе роскошь кормить кого-то бесплатно.
На следующий день Карлос перенес свою кровать в мастерскую, и Кармита осталась жить с ним. Ему не надо было, чтобы она работала по дому. Достаточно было, чтобы она была рядом и чтобы он мог смотреть на нее.
– Ее кожа как-то по-особенному отражает свет, и это помогает мне по-другому глядеть на вещи, – сказал он Баби. – Мне лучше работается, когда она рядом.
Кармита целыми днями сидела на стуле, который он сделал, совершенно голая, и только расчесывала свои роскошные волосы, похожие на медовый водопад, ниспадающий на плечи. Они были очень счастливы. Баби, дедушка Винсенсо и бабушка Габриэла вынуждены были надолго смириться с сожительством Карлоса и Кармиты, прежде чем они надумали зарегистрировать брак.
Я родилась в 1932 году, когда мы еще жили в сарае в Трастальересе, где мои родители устроили себе временный домашний очаг. Мы прожили там три года, а когда Кармита впала в депрессию после аборта, мы переехали в дом Баби. Еще через семь лет мы переехали в Понсе, тогда мы все еще были единой семьей.
Никогда не забуду тот день, когда мы после смерти дедушки Винсенсо переехали в роскошный дом на улице Зари. В доме у Баби все было очень просто, и никто из нас, кроме Кармиты, не видел ничего подобного. Поэтому, когда Баби вошла в гостиную и увидела ковры из Бове, шикарную мягкую мебель, обтянутую синей камчатой тканью, и люстру, которая свисала с потолка, будто огромный кокон, она прищурила глаза, так что они стали похожи на две точечки черного гранита, и сказала: «В добрый час, если надолго!» – повторив слова Летисии Бонапарт, матери Наполеона, которая произнесла их, узнав, что ее сын стал императором Франции. Карлос попытался успокоить ее:
– Дареному коню в зубы не смотрят, мама. Пока можем, будем получать от всего этого удовольствие.
Мы пошли в кухню, и Баби попросила кухарку приготовить нам цыпленка с рисом и другие наши любимые блюда. Мы достали серебряные приборы, фарфоровый сервиз и хрустальные бокалы из буфета красного дерева, который стоял в столовой, и устроили банкет. Но настоящий праздник ждал нас в библиотеке, где мы увидели собрание книг дедушки Винсенсо. Баби и папа любили читать, и я этим пошла в них. За столом, в вечерние часы, мы часами беседовали о литературе. Баби всегда говорила, что семья, которая читает вместе, будет и жить всегда вместе, и, может, так оно было бы и у нас, если бы не проклятая страсть Кармиты.
Я очень любила папу, но он был слабый человек. Возможно, поэтому я его плохо помню. Когда я пытаюсь вспомнить его лицо, то вижу только расплывчатую фотографию; печаль почти совсем стерла его черты. Он ни в чем не мог отказать маме. Если Кармита тратила состояние на косметические кремы, датский шоколад или французские духи, он находил, что все это хорошо. Он зависел от ее малейшего каприза. Поначалу, когда Кармита стала уходить из дома по вечерам, чтобы играть в казино Сан-Хуана, его это даже забавляло.
После того как бабушка Габриэла убедила Кармиту сделать аборт, та стала играть все чаще и чаще. В четыре часа ее начинало одолевать беспокойство, будто в нее вселялся дьявол. Она поспешно уходила из дома, брала такси и ехала в отель «Континенталь» – это было единственное место, где казино открывалось так рано. С четырех до восьми там была специальная льгота для Дам: шесть фишек за доллар вместо обычных трех. Там Кармита познакомилась с самыми разными женщинами: домохозяйками, спасавшимися игрой от неудачного брака, унылыми вдовами, знавшими, что такое одиночество, и проститутками, искавшими клиента на вечер. Кармита тоже от чего-то спасалась, но никто из нас не догадывался, от чего именно. Она жила в мире фантазий; между «делайте вашу игру» и «ставки сделаны» было возможно все: путешествия по Европе, платья от Диора, драгоценности от Тиффани – все то, от чего она должна была отказаться, когда вышла замуж за Карлоса и переехала жить в Трастальерес.
Папа делал мебель по утрам, Кармита играла в рулетку по вечерам, и, когда наступал час ужина, в доме частенько нечего было есть. Баби готовила жаркое, как она научилась, когда жила на гасиенде, – с зеленью, мятой и ямсом, которые нам присылали из Адхунтаса, где у нас был земельный надел, доставшийся от дедушки Лоренсо. Игра для Кармиты превратилась из времяпрепровождения в порок. Она уже не просто играла в казино; стоило ей выйти из дома, она искала, где бы купить лотерейный билет, или шла в ближайший тотализатор, чтобы попытать счастья там. Если у нее не было денег, снимала с себя драгоценности и несла их в ломбард. Ее почти никогда не было дома, большую часть времени она бродила по улицам и клянчила деньги у прохожих. Папа был сильно озабочен ее состоянием. Когда мы ужинали, он почти не разговаривал со мной, будто меня и не было. Тогда-то Баби и настояла, чтобы мы переехали к ней. Лучше, если она будет заботиться обо мне у себя дома, сказала она, и с тех пор она меня купала, одевала и каждый день отводила в школу.
Бабушка Габриэла умерла от воспаления легких, а дед, который не смог жить один, умер вслед за ней, неделей позже. Кармита унаследовала приличное состояние, несмотря на то что наследство моего деда было распределено между шестью сестрами. Баби и Карлос не могли оправиться от изумления; они думали, что дедушка с бабушкой лишат Кармиту наследства из-за того, что она вышла замуж за человека не своего круга.
– Да благословит их Господь и да пребудет с ними вечная благодать! – воскликнула Баби, когда узнала эту новость. – Наконец-то Кармита перестанет повторять, что устала есть только хлеб с луком!
У сестер Кармиты были свои дома, так что они не возражали, когда мы переехали в дом на улице Зари. Нам в наследство остались также кухарка, шофер и синий «понтиак» деда Винсенсо. Продав земли в Рио-Негро, дедушка распорядился ими с умом и вложил их в прибыльное дело. Мамино наследство – четыре дома и несколько торговых предприятий в коммерческом центре в Понсе – приносило хорошую ренту, но этим нужно было заниматься, так что папа закрыл мастерскую и семья переехала на юг. Больше папа никогда не делал мебель, ни одной вещи. Он стал управляющим маминой собственности и в конце концов ее хозяином.
Кинтин
Кинтин почти решился вложить листы с историей доньи Валентины Монфорт в папку с рукописью, чтобы Исабель поняла – он прочитал ее. Но в последний момент передумал и вынул страницы. Он испугался, что Исабель может спрятать рукопись за стенами дома: сдать на хранение в банк, например, или унести кому-нибудь из друзей, чтобы она хранилась у них, – и тогда он не сможет дочитать ее до конца. Его так распирало от любопытства, что он не хотел рисковать.
Он сделал на полях кое-какие комментарии малюсенькими, почти незаметными буквами. Он понимал – есть опасность, что Исабель прочитает их, но если он не попытается исправить всю эту клевету или, что еще важнее, не запишет свои собственные переживания, то сойдет с ума. Он не может позволить вот так, запросто, разрушить его мир, и эти замечания, пусть эфемерные, будут доказательством истины.
И вдруг папка с прочитанными главами исчезла из кухни. Каждую ночь Кинтин вставал с постели, искал ее по всему дому, но безуспешно. Или Исабель спрятала ее так умело, что он никогда ее больше не найдет, – как большинство мужчин, Кинтин порой не мог найти собственные носки, – или она такая хитрая, что уничтожила ее. Например, для того, чтобы никто ничего не прочитал. Такая возможность не казалась ему невероятной – он верил, Исабель никогда не пойдет на то, чтобы кто-то посторонний прочитал ее рукопись и потом рассказал об этом ему.
Однажды ночью, перерыв все шкафы и комоды, Кинтин в полном разочаровании вернулся в кабинет; было три часа ночи; он сел за письменный стол Ребеки. Это был претенциозный стол, отделанный по бокам бронзовыми перышками, с кариатидами, которые украшали каждую ножку стола и которые ему не нравились. Но Кинтин не хотел его продавать – это была память о матери. В столе было потайное отделение, куда Ребека прятала много лет назад тетрадку со своими стихами. Вдруг ему стало любопытно, лежит ли там до сих пор эта тетрадка. Он осторожно выдвинул центральный ящик, сунул руку в углубление и пошарил внутри, пытаясь отыскать миниатюрный ключик от потайной дверцы, но его там не было.
Подозрения охватили его, однако он вернулся в спальню и тихонько лег в постель. Исабель спокойно спала. На следующее утро, когда Исабель была в душе, он заглянул в шкатулку с драгоценностями, которая стояла у нее на туалетном столике. Там он и нашел маленький бронзовый ключик, спрятанный под кулонами и браслетами. Он оставил его там, где он был, и, как ни в чем не бывало, продолжал одеваться, однако ночью взял ключик и пошел в кабинет. Он вынул ящик из стола и отложил его в сторону. Когда вставлял ключ в скважину, от волнения у него перехватило дыхание. Он повернул его наудачу и открыл потайную дверцу. Ключ подошел! Там, где Ребека раньше прятала тетрадь со своими стихами, теперь лежала кремовая папка с романом, написанным Исабель.
Кинтин почувствовал невероятное облегчение. Раздражение, которое вызывала Исабель, исчезло, как по волшебству. Ничто теперь не помешает чтению, теперь все в порядке; он узнает, чем кончается роман. Какая она изобретательная! Он не мог не восхищаться ею. Они много ссорились, но порой ссоры между любящими людьми являются результатом глубокого чувства друг к другу. Безразличие есть доказательство отсутствия любви, а он ни минуты не сомневался, что любит Исабель.
Сможет ли она действительно написать роман? Этого он не знал, но в глубине души все-таки надеялся, что сможет. Несмотря на волнение и беспокойство, которые вызывали у него некоторые страницы, ему хотелось, чтобы Исабель состоялась как настоящая писательница. Заменить стихи Ребеки рукописью романа в потайном ящике стола в любом случае было поступком настоящего мастера. Подлинный художник всегда сделает все возможное, чтобы сохранить свое творение.
Кинтин уселся на зеленый кожаный диван и положил папку на колени. Она была тяжелее, чем раньше, поскольку, несомненно, в ней прибавились новые главы. Озноб – не то от страха, не то от радости – пробежал у него по спине. Комната была погружена в темноту. Этой ночью не ощущалось ни ветерка; тишина казалась такой глубокой, что слышно было, как вода лагуны плещется о фундамент дома. Кинтин зажег бронзовую лампу над диваном, развязал пурпурную ленточку и вынул рукопись из папки. Кружок света упал на первую страницу. Он быстро пробежал глазами прочитанные главы и дошел до следующей части, которая называлась «Шале в Розевиле». Кинтин, очарованный, прочитал название. Некоторые страницы, конечно, состояли из каких-то ужасных анекдотов, но он не мог удержаться и не прочитать их. Две главы были посвящены Росичам, семье матери Исабель. В третьей рассказывалось об истории Кармиты и Карлоса, несчастных родителей Исабель.
Читать о себе как о ком-то другом было делом необычным; будто ты призрак. Кинтин увидел себя ребенком, что пришел в гости к дедушке и бабушке в Гуайнабо в День благодарения в 1936 году. Что сейчас будет вытворять Исабель? Каким еще пыткам его подвергнет? Он сидит на террасе дома в Розевиле и слушает, как дед и отец горячо спорят о политике, так и не придя к согласию. Ему было мучительно читать об этом. Он любил деда не меньше, чем отца, и был на стороне обоих.
Он грустно улыбнулся и прочитал еще несколько страниц. Не стоит обращать особого внимания на дискуссии о националистах и о законопроекте Тайдингса, сегодня это уже неактуально. Было ясно, что Исабель больше симпатизирует семье его матери, чем семье его отца. Как прадедушка, дон Эстебан Росич, так и прабабушка, Маделейне, были описаны с большой теплотой, зато с беднягой Буэнавентурой она обошлась плохо. Мало того что он был неотесанный провинциал, он получался еще и жестокий человек. Угостив жену тумаком, после которого она еле осталась жива, в день, когда танцевала Саломею, он еще имел наглость появиться в доме тестя и тещи в День благодарения и сесть за стол откушать индейки. Разве ее родители могли принимать у себя Буэнавентуру после того, как он публично избил их дочь? Или они об этом не знали? Может быть, Ребека ничего им не рассказала? Все это было маловероятно и походило на выдумки.
Сцена была полна иронии, за всем этим угадывался какой-то тайный смысл. Возможно, Исабель прибегает к гиперболам и хочет заставить его увидеть, что его отец плохо обращался с его матерью. Порой, когда женщины считают, что с ними обращаются жестоко, они могут прибегнуть к иносказаниям, далеким от конкретной реальности. Не говорит ли Исабель таким образом о себе? Быть может, он бывает жестоким с ней, не отдавая себе в этом отчета? Кинтин закрыл глаза. Это невозможно, когда любят так, как любит ее он.
В следующей главе, «Агония полковника Арриготии», главное место опять занимала история Пуэрто-Рико. Симпатии Исабель националистам ей не помогли, и повествование вышло натянутым и скучным, как будто она повторяла одно и то же. И опять она допустила серьезную хронологическую ошибку: говоря о бухте Сан-Хуан, она описала ее такой, какой та была сегодня или какой могла быть в 1981 году, – со множеством туристских пароходов, что ежедневно сновали туда-сюда, но уж никак не в 1937 году. В 1937-м, подумал Кинтин, когда мой дед, полковник Арриготия, был разжалован из начальников полиции Острова, туристов было немного, а роскошные лайнеры и вовсе были редкостью. Воды бухты Сан-Хуан были прозрачными, как стекло, и рыбаки каждый день вынимали сети, полные рыбы.
В нашем доме никогда не было политического единомыслия: каждые четыре года я голосую за государственность, а Исабель – за независимость. Далеко ушли те времена, когда послушная супруга слепо повиновалась мужу. Для меня Соединенные Штаты – моя настоящая родина. Я не чувствую себя гражданином Пуэрто-Рико, скорее гражданином мира.
– Если в один прекрасный день Пуэрто-Рико станет независимой страной, как того требуют националисты и борцы за независимость, – сказал я однажды Исабель, – мы тут же садимся в самолет и летим в Бостон, где у моей семьи еще есть кое-какая собственность.
Исабель опустила голову и промолчала. Я знал, что она со мной не согласна, но я всегда уважал ее право на собственное мнение.
Кинтин еще кое-как терпел сторонников независимости, но националисты вызывали в нем непримиримую злобу. Он считал их всех убогими и закомплексованными. Поняв, что они ничто, они решили прошить президента пулеметной очередью. Один раз это уже было и повторится еще не однажды. В 1950 году они покушались на жизнь президента Трумэна, устроив перестрелку в Каса-Блэр. Через несколько лет, в 1954 году, некая швея с запросами модели из журнала «Вог», по имени Лолита Леброн, сын столяра с внешностью элегантного киноактера, которого звали Рафаэль Кансель Миранда, и два крепких парня, больше похожие на жокеев, чем на террористов, которых звали Ирвинг Флорес и Андрейс Фигероа «ордере, устроили перестрелку в Палате представителей в Вашингтоне.
Кинтин вытер потный лоб носовым платком и устроился на диване поудобнее. Слава богу, совсем скоро на Острове пройдет референдум. Через пять месяцев пуэрториканцы смогут наконец выбрать – быть ли им в составе Соединенных Штатов или стать независимой страной. Он был уверен, что победят сторонники вхождения в состав США. Свободное ассоциированное государство, созданное в 1952 году Луисом Муньосом Мартином, для реальной жизни не годится. Голосовать за свободное государство – значит остаться на бобах.
Понятно, что интеграция в США не решит языковую проблему. Язык всегда был камнем преткновения; если пуэрториканцы не займутся этой проблемой, они кончат, как гладильщица Панча, которая сама себя выгладила. Исабель права, считая, что брак ее деда и Маделейне распался из-за того, что Маделейне так и не выучила испанский язык. Губернаторы из Америки тоже на нем не говорят. По мнению Исабель, мятежи националистов, возникавшие время от времени на протяжении последних тридцати – сорока лет, явились результатом именно этой ситуации. Распоряжение уполномоченного, г-на Истона, который семьдесят девять лет назад пытался сделать английский язык официальным, – факт исторический, и сегодня все признают, что это было ошибкой. Но то, что на Острове научились говорить по-английски, стало нашим огромным преимуществом перед соседями. Благодаря английскому пуэрториканцы интегрированы в современный мир, тогда как Куба, Доминиканская Республика и Гаити все еще живут в средневековье.
Сегодня в Пуэрто-Рико два официальных языка – английский и испанский, – так решил народ во время последнего референдума. Официальное употребление обоих языков неизбежно, поскольку промышленное и экономическое развитие Острова тесно связано с Соединенными Штатами. Объявить испанский единственным официальным языком, как того, несомненно, хочет Исабель, – значит вызвать всеобщую неразбериху. Такого люди не выдержат; в юриспруденции, медицине и торговле это неприемлемо. Кинтин был уверен, что когда-нибудь Пуэрто-Рико станет двуязычной страной, особенно если учесть, что три миллиона пуэрториканцев то и дело ездят в Соединенные Штаты и обратно.
– Сегодня Бронкс – это практически пригород Сан-Хуана, – сказал он однажды Исабель, – а самолеты «Америкэн Эйрлайн» – наши самые популярные автобусы.
Что больше всего мешало Кинтину – это безответственность Исабель как историка. Она, например, описала кадетов-националистов как мучеников. «Многим кадетам было не больше пятнадцати-шестнадцати лет, и они смотрели на Арриготию, словно не веря, что он может в них стрелять. Со своими деревянными ружьями они напоминали непослушных детей, играющих в войну», – пишет она в своем романе. Все это неправда. Среди кадетов-националистов были люди разного возраста, разных убеждений и цвета кожи. Их объединяло только одно. Если они хладнокровно позволили стрелять в себя, так только потому, что хладнокровно убивали других. Губернатор Виншип был прав, настаивая на том, чтобы выслать националистов куда бы то ни было. Это были фанатики, жаждущие крови, – как боевики тупамаросы в Уругвае или члены «Сендеро люминосо» в Перу.
Расстрел кадетов-националистов произошел в Вербное воскресенье в 1937 году; этого никто не будет отрицать. Однако Исабель неправильно навела на это событие фокус своей лупы и обвинила тех, кто был не виноват. То же самое сделал губернатор Виншип, несправедливо утверждая, что дед Кинтина несет ответственность за бойню.
Его дед Аристидес никогда не был салонным шаркуном, как изобразила его Исабель в своей книге. Он был требовательным и надежным начальником полиции, целиком преданным губернатору Виншипу. Его борьба против националистов вовсе не была обычным преследованием инакомыслящих, она была героическим делом. Он посвятил свою жизнь установлению порядка. В то утро, когда состоялась демонстрация, он пришел к алькальду города Понсе и вытащил его из постели под дулом пистолета. Он заставил его подписать приказ об отмене демонстрации. Потом он отправился на Морскую улицу, где собрались кадеты-националисты, и показал им этот приказ. Но те отказались расходиться по домам.
Полковник Арриготия был героем в борьбе за американскую государственность, и тут уместно вспомнить о предательстве его жены, которая ни черта не смыслила в политике и потому вылила на него ушаты грязи. Его дед занимал прочное место в политической истории Острова – это несомненно. Но Исабель это было неважно, она даже имела смелость взяться за описание эротических картин, которые ему пригрезились перед расстрелом кадетов. Откуда ей знать, что думал его дед в те минуты? В чужую голову не влезешь. И вообще, это абсолютно не похоже на полковника Арриготию.
Кинтин сидел как на угольях. Что хочет доказать Исабель? Что он ошибается? Что она знает больше, чем он, о расстреле в Понсе, несмотря на то что он историк? И почему ему так хочется доказать, что ошибается она? Ответить на все несуразности, которые Исабель нагородила в этих главах, было невозможно. Чтобы этого добиться, нужно писать историческое эссе одновременно с романом, а у него нет на это времени.








