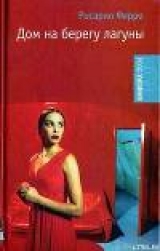
Текст книги "Дом на берегу лагуны"
Автор книги: Росарио Ферре
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
18. Вассар-колледж
После скандала с Керенски мы с Баби очень сблизились. Я ходила с ней в квартал Лас-Кучарас, одно из предместий Понсе, по крайней мере дважды в неделю. Мы учили тамошних детей читать и писать, а иногда шить и готовить. Как-то раз Баби написала письмо президенту компании «Кодак» о том, что недавно открыла новое предприятие в Понсе и просит прислать двадцать фотоаппаратов «Полароид» для детей предместья. Очень скоро она получила от него вежливое письмо, где президент извинялся за то, что не может подарить фотоаппараты такого высокого качества, но обещает выслать двадцать фотоаппаратов марки «Кодак» и вдобавок пятьдесят пленок для счастливого почина.
Баби считала, что научить детей квартала фотографировать, будет очень полезно. Она показала им, как надо фотографировать, например, котов, которые роются в помойках. Мусор, конечно, не самая привлекательная вещь на свете, но коты замечательные, – ведь они полны жизни, а все, что борется за выживание, заслуживает восхищения. В квартале было полно бродячих собак и кошек. Какая-нибудь одна маячила возле мясной лавки, выпрашивая обрезки или кости, после чего дюжина таких же бежала вслед за ней в надежде что-нибудь урвать и себе. Баби полагала, что дворняги – звери особенные. В нашем доме в Понсе жили три дворняги: Зануда, Блоха и Царапыч. Окрас у них был каштановый, светлый и черный соответственно, морды чернее смолы, шерсть шелудивая. Но мы их очень любили, и Баби уверяла, что они куда преданнее породистых собак, ведь она спасла их от городской живодерни, и они обязаны ей жизнью.
Баби велела детям квартала фотографировать городские сточные канавы, которые несли нечистоты на пляж Лас-Кучарас, где обычно играли ребята, потому что он заменял им парк аттракционов. Контраст между улыбающимися лицами детей и унизительной нищетой, которая их окружала, производил сильный художественный эффект. Когда проявили пленку, Баби отобрала лучшие снимки и послала в Соединенные Штаты на конкурс, рекламу которого она видела в «Нью-Йорк таймс», и в результате дети из Лас-Кучарас получили первое место. Некоторые мальчики стали впоследствии профессиональными фотографами и основали первую в Понсе Школу художественной фотографии.
Через четыре года после моего провала в спектакле, в 1950 году, я окончила лицей в Понсе. В январе того же года меня приняли в Вассар-колледж, куда Баби решила послать меня, чтобы утешить, – моя карьера балерины закончилась, – и я начала готовиться к отъезду. Однажды вечером мы с Баби вместе сидели в гостиной, разглядывая каталог торгового дома «Серс». Я выбрала красивую дорожную сумку зеленого цвета с бронзовыми замками, шесть пар шелковых чулок, три комбинации, две юбки из шотландской шерсти, пальто из верблюжьей шерсти, пару резиновых ботиков и клеенчатый плащ, и все это мы внесли в розовый формуляр в конце журнала, куда надо было вписать все, что вы хотели получить. В магазинах Понсе такие вещи не продавались, но благодаря каталогу «Сере» мы могли купить все что угодно.
В сороковые и пятидесятые годы у «Серса» не было своего магазина на Острове. «Серс» – это было не место, это был образ мыслей; заказывать товары от «Серса» было все равно что заказывать их у Господа Бога. Не было такого дома в Понсе среди людей нашего круга, где на видном месте не лежал бы каталог «Серс». Как большинство семей Острова, наша тоже была разделена по политическим интересам. Кармита и Карлос были за американскую государственность, а мы с Баби оставались убежденными сторонниками независимости. Но все мы одинаково любили листать страницы каталога «Серс». Держать его в руках – уже одно это воодушевляло; это было неопровержимое доказательство того, что мы являемся частью Соединенных Штатов. Мы не какие-нибудь там Гаити или Доминиканская Республика, где люди и не слыхивали, что такое телефон, а продукты хранили в деревянных ящиках между кусками льда, вместо того чтобы обзаводиться холодильниками от «Дженерал электрик». Благодаря каталогу «Серс» у нас были те же возможности приобрести современную домашнюю технику, что у жителей Канзаса или Луизианы, и мы получали из Соединенных Штатов всякие новые изобретения без какого-либо дополнительного налога. Картонные коробки с товарами, которые привозил с Севера пароход, запаздывали иногда на несколько недель, но когда их открывали, оттуда веяло бодрящим холодком Соединенных Штатов, который овевал лицо и проникал в душу.
У нас в доме каталог «Серс» всегда лежал в гостиной, на кофейном столике, и мы часами листали его, мечтая о разных чудесных вещах, которых никогда не видели. Когда я была маленькая, я однажды заказала на Рождество куклу Мадам Александр. В Понсе таких кукол не было. Куклы у нас были самые обычные: лицо, руки, ноги из грубого папье-маше, а туловище тряпичное, набитое ватой. А у моей Мадам Александр личико было покрашено тонкой глазурью, а зубы и светло-каштановые волосы блестели, как настоящие. Она приехала в картонной коробке с золотыми уголочками, а вместе с ней целый гардероб, точно такой же, как купила мне Баби пятнадцать лет спустя, когда собирала меня в Соединенные Штаты.
Кармита заказала себе по каталогу «Серс» плиту марки «Филипс», стиральную машину «Кельвинатор» и пылесос «Электролюкс». Карлос наслаждался электросверлами и автоматической пилой от «Дженерал электрик» и мечтал купить когда-нибудь целый ящик суперсовременных инструментов, которые «Серс» предлагал для резчиков по дереву. Даже Баби часами сидела, погрузившись в разложенный на коленях каталог. Больше всего она любила раздел садоводства. Она прочитывала всю информацию о вращающихся поливальных шлангах, которые орошали газоны перед домами в Форте-Лаудердале; о кормушках для птиц из штата Мэн, сделанных из настоящей сосновой коры; о садовой мебели из Калифорнии из ценной древесины секвойи; о желтых цинниях, оранжевых георгинах и голубых вьюнках из Аризоны, которые не могли прижиться в тропиках, но которые Баби все равно заказывала через «Сере» и потом сажала у нас в саду, потому что слепо верила ярким цветным картинкам, нарисованным на пакетиках, в которых присылали семена. Иной раз, листая страницы каталога «Серс», Баби была готова отказаться от своих свободолюбивых идеалов и проголосовать за американскую государственность, как делали Кармита и Карлос, но так никогда на это и не решилась.
В то время я склонялась к идее независимости, возможно, из чувства солидарности с Баби. Но когда я видела, насколько ее убеждения противоречивы, то не знала, что и думать. Баби хотела, чтобы Остров был независимым по моральным соображениям, и я была с ней согласна. Она считала, что Пуэрто-Рико сильно отличается от Соединенных Штатов и что просить включить нас в состав Соединенных Штатов как еще одну административную единицу несправедливо по отношению к американцам, и уж тем более к нам самим. В определенном смысле мы как бы пытались обмануть американский народ, который так хорошо к нам относится. Но Баби также придавала большое значение прогрессу и берегла свой американский паспорт как драгоценную вещь.
В Пуэрто-Рико политикой «болели» все. У нас было три партии, и каждой соответствовал свой цвет: у Новой прогрессивной партии, ратующей за американскую государственность, – голубой; у приверженцев свободного ассоциированного государства и Народной партии – красный, а у сторонников независимости – зеленый. Политика все равно что религия: можно верить либо в государственность, либо в независимость, но нельзя иметь сразу две веры. Одни хотят самостоятельности, другие, наоборот, зависимости, а те, кто верит в свободное ассоциированное государство, – вообще витают в облаках. Во время выборов народ впадал в истерическое состояние, и часто люди вели себя самым диким образом.
Во время последних выборов, например, один сторонник независимости был убит перед началом баскетбольного матча в квартале Канас. Кто-то всадил ему в спину, на манер копья, древко американского флажка, потому что он, видите ли, не снял шляпу во время исполнения пуэрто-риканского гимна. Я не выношу насилия, и такого рода вещи меня ужасают. Поэтому я аполитична, я вообще не хожу голосовать. Возможно, моя нерешительность восходит к тем временам, когда я девочкой сидела в гостиной нашего дома в Понсе с каталогом «Серс» на коленях, думая о независимости и одновременно мечтая, чтобы наш остров стал частью современного мира.
Многие смотрели на свободное ассоциированное государство как на нечто временное. Возможно, это действительно то, что нам подходит больше всего, но не навсегда. Люди хотят ясно понимать, что это такое; им надо, чтоб все было написано черным по белому, с подписью и печатью внизу страницы. Стремление к созданию федерации – это как раз и означает оставить для себя возможность перемен. Подобное политическое решение умно и продуманно, но мы потеряем уверенность в себе, будем бояться, что перестанем быть самими собой. И потому я уверена, наступит день, когда нам все равно придется выбирать между интеграцией в состав США и независимостью.
В моем представлении Остров похож на вечную невесту на выданье. Если однажды Пуэрто-Рико станет одним из американских штатов, стране нужно будет принять английский язык, потому что это язык ее будущего супруга, в качестве государственного языка наряду с испанским, и не только потому, что это язык современности и прогресса, но и потому, что это язык мирового могущества на сегодняшний день. Если же Остров выберет независимость и решит остаться старой девой, тоже придется идти на жертвы и согласиться с бедностью и отсталостью, придется жить, не получая никаких благ от Соединенных Штатов и никакой протекции с их стороны. Мы будем независимыми, но не будем свободными, потому что какая уж тут свобода, если ты беден. К несчастью, вполне вероятно, что мы падем жертвой одного из наших политических касиков, которые не дремлют, следя из-за опущенных жалюзи, когда придет подходящий момент, чтобы узурпировать власть. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что независимость отбросит нас на столетие назад и что это будет огромной жертвой с нашей стороны. Но как же тогда остаться самими собой?
Наконец наступил день моего отъезда в Соединенные Штаты. Я тщательно уложила новую одежду в дорожную сумку от «Серса». Баби проводила меня до Сан-Хуана в стареньком «понтиаке» бабушки Габриэлы, на котором мы доехали до аэропорта «Большой остров». У меня слезы навернулись на глаза, когда я попрощалась с ней и поднялась по трапу звезды «Пан Америкэн», самолета с четырехмоторным двигателем, который через пять часов приземлится в Идлевильде. Впрочем, я быстро перестала грустить. А когда добралась до колледжа, то вообще чувствовала себя уже другим человеком.
Четыре года, которые я провела в Вассар-кол-ледже, были самыми счастливыми в моей жизни. К счастью, в лицее Понсе английский язык учили с первого класса, так что у меня не было проблем с учебой. Мне очень понравился колледж: дорожки, посыпанные белым гравием и обсаженные плакучими ивами, и прекрасные аудитории греческого и латинского языков и английской литературы. Там-то я поняла, что Понсе, который казался мне чуть ли не мегаполисом, когда я жила на улице Зари, всего-навсего маленький городок.
Кинтин
В последующие две недели, после того как Кинтин обнаружил рукопись в потайном ящике письменного стола Ребеки, он больше не находил ничего нового. Он ни словом не обмолвился жене о находке, но не переставал думать о рукописи. Каждое утро, еще до рассвета, он на цыпочках отправлялся в кабинет с бронзовым ключиком в руке проверить, не появилось ли еще чего, но все было без изменений. Кремовая папка лежала на своем месте, но страниц было ровно столько же. Через две недели, когда он выдвинул потайной ящик, ему показалось, что папка стала тяжелее, и действительно там прибавилось еще три главы.
Кинтин подозревал, что Исабель знает о том, что он читает рукопись. Все было слишком просто: ключик всегда находился на одном и том же месте, на дне шкатулки. Странным казалось также и то, что Исабель ни разу не проснулась и не пожаловалась, когда он вставал среди ночи и в темноте бродил по дому, что он мешает ей спать. Все было так, как будто между ними существовал тайный уговор: если ни один из них не скажет ни слова, Исабель будет продолжать писать, а Кинтин – читать.
Когда Кинтин увидел, что три новые главы посвящены семье Монфорт, то вздохнул с облегчением. Значит, его в этих главах не будет; так что ему не придется переживать от того, каким он предстает в глазах Исабель. Его удивило упорство жены. Новый материал она написала безо всякой помощи с его стороны, потому что не задала ему ни одного вопроса. Стиль стал более легким; язык по ходу написания романа приобретал естественность, что удивило его. Исабель становилась настоящей писательницей, она расцветала у него на глазах. Особенно ей удались главы о Керенски, их можно было бы напечатать отдельно как небольшую повесть. Он с жадностью прочитал их, ловя себя на мысли, что получает эстетическое наслаждение.
Однако, кроме удовольствия, он испытывал еще и смутное сожаление. Он тоже хотел состояться как творческая личность. В конце концов, хороший историк должен обладать не меньшей самобытностью и не меньшим воображением, чем писатель-романист. Сказать откровенно, у него просто не было времени, чтобы реализовать эту сторону своего интеллекта. Ему приходилось кормить слишком много ртов и выполнять слишком много обязанностей. Когда еще была жива Ребека, он должен был кормить племя Мендисабалей целиком, включая брата и сестер; потом настал черед «Импортных деликатесов», а потом у него появились собственные дети. Как все, у кого есть чувство ответственности, он вынужден был затянуть пояс потуже и взять быка за рога. Он никогда не мог позволить себе роскошь сидеть на террасе, попивая лимонад, как это делает Исабель, или наблюдать за возней пеликанов в лагуне и ждать, когда тебе в голову придут замечательные мысли, которые захочется запечатлеть на бумаге. Он всегда жил как стреноженный. Создать произведение искусства было самой большой мечтой его жизни! Если бы только у него было на это время…
И все-таки его нельзя назвать неудачником. Он гордился тем, что уже успел сделать в жизни. Чтобы стать преуспевающим предпринимателем, надо быть смелым человеком и не бояться принимать решения, связанные с большим риском. Это тоже способ что-то создать. Организация компании требует порядка, настойчивости, дисциплины, но, кроме всего прочего, ты должен быть личностью. Нужно уметь расположить к себе служащих, и он это умел – служащие его обожали. Многие работали в «Импортных деликатесах» по двадцать лет, и он, помогая им зарабатывать в поте лица на хлеб насущный и растить детей, старался делать так, чтобы все это время они вели достойную жизнь.
Он был честным человеком: платил налоги с неукоснительной регулярностью и обладал гражданским сознанием; ему не было безразлично, соблюдаются ли права ближнего. Но, когда его не станет, никто не вспомнит о том, что он делал в жизни. Пыль забвения покроет его имя, и оно превратится в безликий номер в длинном списке граждан, которые достойно прожили свою жизнь. Его семья получит приличное наследство, а правительству отойдет все остальное. А вот Исабель, наоборот, если книгу когда-нибудь опубликуют, будут помнить как автора романа «Дом на берегу лагуны», может быть, как автора подлинного произведения искусства. Оставить свой след в искусстве, безусловно, означает продолжиться и в какой-то степени себя обессмертить.
Он говорил себе, что он эгоист и что нельзя завидовать жене и ее возможному успеху. Но он бы предпочел, чтобы она была так же безвестна, как он. Может быть, ему еще удастся отговорить ее печатать роман. Сохранить все в тайне – проявление скромности, достойное похвалы. Написав книгу, Исабель получит нечто такое, что придаст смысл ее жизни, и он первый, кто это признает. Книга жила втайне от всех, подобно бриллианту в земных недрах, но от этого она не стала менее реальной. Так ли уж важно вытаскивать ее на свет Божий? Публиковать ее? Если она останется неизданной, то станет совершенной, потому что тогда это будет идеальное произведение. Не говоря уже о том, что будет спасена репутация семьи и ему не придется уничтожать рукопись. Если Исабель еще любит его, она сможет пойти на такую жертву. Это станет высшим доказательством ее любви к нему.
Надо запастись терпением и перестать тревожиться. Инстинкт подсказывал ему, что неразумно сейчас давить на Исабель, чтобы она решилась заговорить о своей книге. История ее семьи трагична. Мать была подвержена пагубной страсти к картам. Отец покончил с собой, и Кармита погрузилась в тяжелую депрессию, которая привела ее к безумию. У него нет другого способа как ждать. Порой самое лучшее – ничего не делать, и все образуется само собой.
Кинтин снова принялся за рукопись. Он взял карандаш, отточил его и решил сосредоточиться на чтении. По крайней мере он может помочь Исабель довести роман до совершенства.
Он прочитал описание города Понсе, которое Исабель дала в начале шестнадцатой главы, и сделал маленькую пометку на полях: «Тебе не кажется, что ты слишком идеализируешь „Жемчужину Юга"? Ты говоришь о Понсе так, будто это Париж. Понсе – красивый городок, но не следует сравнивать его с Сан-Хуаном. Надо смотреть на вещи объективно. Понсе насчитывает сто пятьдесят тысяч жителей, а Сан-Хуан – это полуторамиллионный мегаполис. Конечно, архитектура Понсе весьма привлекательна, и дома действительно похожи на свадебный торт, но не хочешь же ты сказать, что он более значителен, чем Старый Сан-Хуан, который поистине является архитектурным шедевром!»
Второй недостаток, который он подметил, – стремление Исабель придать персонажам романа собственные черты. «Кроме того, что это люди с собственной жизнью, в них много от тебя. Избегай подобного; это ошибка всех посредственных писателей».
«Тебе нравятся независимые характеры, – приписал он в конце следующей страницы, – но это не значит, что ты должна отождесвлять себя с ними. Тебе надо следить за собой: каждый раз, когда ты кого-то описываешь, твоя строптивость поднимает голову. Возможно, поэтому ты получала такое удовольствие, когда писала о Ребеке в шестой и седьмой главе. Я узнал ее: в юности мама отличалась ужасным непослушанием; ей слишком потакали, и она привыкла, что все будет так, как хочет она. Но потом она изменилась. Папа помог ей повзрослеть, и в конце концов она стала безукоризненной женой и матерью».
Замечания Кинтина на третьей странице не уместились, и он продолжил писать на обороте. Он понимал, что это опасно, но его вело воодушевление.
«Самое подлинное в твоей книге – это страсть к классическому балету, – продолжал он. – Читатель тотчас же это ощущает, потому что тема увлекает тебя и ты пишешь с вдохновением. Твоя Исабель назубок знает названия всевозможных па, и тех, которые она освоила, и тех, которые могла бы освоить, и она, должно быть, прочла пару-тройку книг по теории танца. Ребека или тот персонаж, который ты выдаешь за мою мать, разделяла эту страсть. Когда Керенски говорит ученицам: „Если вы наполнитесь звуками музыки, однажды вас посетит вдохновение", – мне кажется, я слышу слова Ребеки.
Я прекрасно помню скандальную историю о Керенски и Эстефании Вольмер, в сороковые годы это был один из самых известных анекдотов в Понсе. Ты же знаешь людей, злословие на этом острове будто портулак – вьется по телефонному шнуру до самой крыши каждого дома.
С твоего позволения, я напишу здесь свою версию этого грустного происшествия. Она сильно отличается от твоей, потому что основана на реальных событиях. Впрочем, не все ли равно? Из-за неразберихи, которая царит в твоей рукописи, никто не отличит зерна от плевел: что есть правда, а что ложь. Для того, кто никогда не жил в Понсе, обе версии покажутся убедительными. Единственное, что имеет сейчас значение, – эстетическая сторона повествования, как именно рассказана история. И я собираюсь доказать тебе, что историк тоже может быть художником, как и писатель. Так что я делаю свою ставку в этой игре, и да восторжествует истина!»
Бледно-розовый свет поднимался над лагуной и проникал в окна комнаты, когда Кинтин начал с почти маниакальной сосредоточенностью записывать свою версию:
«Керенски был нью-йоркским евреем и симпатизировал левым. Поэтому, когда он женился на Норме Кастильо и они переехали жить в Понсе, ему дали кличку Красный Керенски. Никто бы не отдал свою дочку в Школу балета, если бы директором там был Керенски. Но в Понсе каждый знал, кто такие Кастильо; состоятельные люди в Понсе все знакомы друг с другом. Норма пользовалась большой популярностью как преподавательница правил хорошего тона и светского поведения; осанка и изящество движений – важная часть этой науки. Школа с самого начала имела успех, и денег было достаточно, но Керенски был недоволен, что Норма принимала только девочек из обеспеченных семей. Он хотел работать с разными людьми, чтобы потом показать своим друзьям-социалистам, что его школа основана на демократических принципах и туда принимают детей из бедных семей. Задевало его также, что школа известна только благодаря Норме и что его самого люди почти не берут в расчет. Вот почему он решил получить свое и нацелился на Эстефанию Вольмер.
Я знал Эстефанию задолго до вашего с ней знакомства, поскольку молодые люди из хороших семей Понсе часто ездили на танцы в Сан-Хуан. Мы вместе ходили в кабаре и месяцами предавались невинному флирту. Твой отец, будучи пуританином, не разрешал тебе туда ходить, вот почему мы с тобой познакомились, только когда учились в университете. И поэтому ты никогда не видела меня с Эстефанией и до сих пор не подозревала, что мы с ней знали друг друга; но именно от нее я услышал, что тогда действительно произошло в Школе балета Керенски.
Я согласен с тобой: Эстефания была сумасшедшая, но симпатичная сумасшедшая. Мне она нравилась, и я могу подтвердить твои слова: она никогда не носила нижнего белья. Был такой памятный случай в „Казино" Аламареса. Эстефания должна была надеть корону на королеву бала, и она выбрала себе в партнеры меня. На ней был наряд с множеством блесток, чрезвычайно безвкусный, из тех, что так нравятся публике Понсе. Юбка у нее была колоколом, на металлическом каркасе. Когда наступил момент коронования, Эстефания поднялась по ступеням трона в глубине зала, держа на вытянутых руках бархатную подушечку, где лежала корона. Она поднялась на возвышение, сделала королеве глубокий реверанс, и тут ее юбка высоко поднялась, явив взорам самые соблазнительные розовые округлости, которые я когда-либо видел. Остальные тоже это заметили. Мужчины стали свистеть и аплодировать. Однако Эстефания даже не покраснела. Она кокетливо улыбнулась, надела на королеву корону, закрепила ее гребнем и вприпрыжку спустилась по ступенькам как ни в чем не бывало. Через несколько секунд оркестр заиграл какую-то музыку, и мы стали танцевать. Я никогда не рассказывал тебе об этом, потому что знал – вы были подругами, и тебе было бы стыдно за нее.
Марго Ринсер, мать Эстефании, была первая платиновая блондинка, которую я увидел в своей жизни. У нее были волосы цвета рома, который продавала ее семья. Но он слишком нравился ей самой, в этом была ее беда.
Однажды Артуро и Марго возвращались с какого-то праздника в „Кантри-клубе". Было около шести утра, когда они оказались возле парка отдыха и увидели, что невдалеке от парка установил свой шатер цирк. Пара львов дремала в клетке у самой реки. Марго сказала Артуро, что хочет посмотреть на них поближе. Артуро сразу же ответил „нет", но когда Марго на чем-нибудь настаивала, себе дороже было не уступить. Они были всего месяц как женаты, и им пока еще хотелось угождать друг другу. Они спустились по откосу, прошли Голубую рощу и подошли к клетке.
Артуро был в парадном костюме, а Марго в вечернем платье с длинным шлейфом, отделанным кружевами и золотой канителью, которая мерцала в предрассветных сумерках. Когда они подошли поближе, то увидели какого-то человека, который доставал из мешка кости и куски мяса. Это был служащий цирка, который смотрел за животными и в тот момент кормил их завтраком. Марго подошла совсем близко и зачарованно глядела, как львы пожирают свежее мясо. Она никогда не видела живых львов и нашла их очень красивыми. У них были огромные глаза, а когда они ели, зрачки делались совсем узкими и глаза становились похожи на два золотых озера.
Марго попросила служителя позволить ей покормить льва. Тот, недолго думая, согласился. Звери были старые и давно уже привыкли есть у него из рук. Он дал кусок мяса Марго. Марго подошла к клетке вплотную и, будто играя, стала подзывать худую и грязную, с желтыми кисточками на ушах, самку, которая была к ней поближе. Марго стало жалко львицу. В цирке жестоко обращались с животными; кто знает, сколько страданий выпало на долю бедного зверя? Она медленно просунула правую руку сквозь прутья решетки. Артуро стоял рядом с ней, держа ее под левую руку и посмеиваясь над ее сентиментальностью. Но в тот момент, когда Марго бросила кусок мяса на пол клетки, львица бросилась на нее. Она просунула лапу между прутьями решетки, зацепила шлейф платья Марго и с силой рванула его, – возможно, ее привлекли мерцающие блестки, – пытаясь подтащить Марго к себе. В течение нескольких последующих секунд продолжалась ужасная схватка: Артуро тянул Марго к себе, львица – к себе. Марго кричала изо всех сил, но львица ее не отпускала. Канитель скрепила ткань, и она никак не могла разорваться. Правая нога Марго, застрявшая между прутьями решетки, превратилась в кровавое месиво.
В результате этого кошмарного случая, – а совсем не по причине заболевания раком, как ты мелодраматически утверждаешь в своей рукописи, – Марго Ринсер пришлось ампутировать ногу. Через несколько недель Марго обнаружила, что беременна. Сердце разрывалось смотреть на нее – беременную молодую женщину, которая вышла замуж всего полгода назад, – когда она гуляла в парках Понсе вместе с мужем, толкавшим впереди себя ее инвалидную коляску. Артуро никогда не оправился от этой травмы. Он винил себя в том, что не смог предотвратить тот несчастный случай. Ему беспрестанно снилось, как Марго протягивает львице кусок мяса в правой руке, а он держит ее под левую руку и смеется, будто все это обычная шутка. Поэтому он посвятил себя заботам о ней с такой одержимостью, а Эстефания росла как беспризорный ребенок.
Эстефания была бесстыдница, это знал весь Остров. Ей нравилось ездить на своем „форде" с откидным верхом со скоростью сто километров в час из Понсе в Сан-Хуан, и в этом самом „форде" она делала все, что хотела. Она принесла много огорчений Артуро и Марго тем, что вела такую жизнь, но они ничего не могли с ней поделать.
Рассказ о том, что произошло между Керенски и Эстефанией в Школе балета, тоже, можно сказать, „глас народа"; я не узнал из него ничего нового. Они стоили друг друга, и им не понадобилось много времени, чтобы это понять. А вот чего я не знал – что ты тоже была почти влюблена в этого каналью! Ведь это ты подняла занавес в тот вечер в театре, чтобы все узнали о шашнях Керенски и Эстефании! Я знаю, через несколько месяцев после этого, чтобы облегчить Норме Кастильо развод с Керенски, ты выступала свидетелем в суде, обвиняя его в сексуальных домогательствах. И в результате твоего обвинения Керенски был депортирован и уехал из Соединенных Штатов».
Кинтин аккуратно сложил рукопись, поразившись тому, что сам написал, как вдруг услышал какой-то шум снаружи, как будто зашелестел кустарник. Он поспешно спрятал рукопись в потайной ящик письменного стола и тихонько подошел к окну. Шум наделал филин, он запоздало ухал в близлежащих кустах, но, увидев за окном бледное лицо Кинтина, тенью скользнул над водой и исчез. Кинтин вернулся на прежнее место и в задумчивости снова сел за письменный стол.
Ему открылось нечто новое в характере Исабель. Она была влюблена в Керенски и скрыла это. Она всегда клялась ему, что он ее первая любовь, но это была ложь. Узнать, что его предшественник – какой-то проходимец, учитель танцев, – значило сыпать соль на рану. Исабель была тогда почти девочка, однако не проявила никакого сострадания к бедняге Керенски. Если все, что она рассказала в своей книге, правда, – она погубит свою репутацию, когда все узнают, что это она подняла занавес в театре «Ла Перла», чтобы отомстить за поцелуй с Эстефанией. На первый взгляд она была сама невинность, само простодушие, но в глубине души – какая ужасная ненависть кипела в ней! Сила ее эмоций, жестокость, на которую она оказалась способна, пропитывает страницы романа, словно смертельный яд. В четырнадцать лет она вела себя как маленькая Медея и, как Медея, использовала колдовскую силу слов, чтобы отомстить кривоногому русскому иммигранту.
Холодок пробежал у Кинтина по спине, ему стало страшно. Если Исабель смогла вот так отомстить Керенски только за то, что однажды увидела, как он целует ее соученицу, чего ожидать от нее в тот день, когда ей взбредет в голову, что Кинтин не любит ее?








