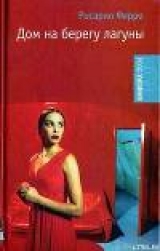
Текст книги "Дом на берегу лагуны"
Автор книги: Росарио Ферре
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Часть третья
Семейные корни
9. Обещание Кармиты Монфорт
Когда мы были женихом и невестой, Кинтин часто навещал меня в нашем доме в Понсе, останавливаясь в мотеле «Техас» на окраине городка. Мотель снабжал горючим моторные лодки, и, кроме того, в его распоряжении было несколько меблированных комнат, где заезжие торговцы могли переночевать. «Техас» был первой современной заправкой, и я хорошо помню, как его неоновая красная звезда непрерывно горела всю ночь. Это была первая неоновая реклама, которую мы видели у себя в городке, и мы были столь простодушны в то время, что приняли сей факт за торжество прогресса в наших местах.
Денег у Кинтина тогда не было, но мы были счастливы и с нетерпением ждали дня нашей свадьбы. Ждать пришлось довольно долго: Буэнавентура был против нашего брака, во всяком случае, до тех пор, пока Кинтин не «поднимется на ноги» настолько, чтобы стать независимым от отца.
В то лето у нас обоих были каникулы, мы оба заканчивали учебные заведения в Соединенных Штатах, каждый свое. Мы тогда часто спали обнаженными, поскольку из ближайших зарослей сахарного тростника доносился теплый ветер, напоенный тропическими ароматами, а кондиционеров еще не было. Мне исполнилось двадцать один, и я училась на четвертом курсе Вассар-колледжа. Кинтину было двадцать четыре, и он заканчивал Колумбийский университет. На время каникул Буэнавентура определил его в магазин, где он должен был грузить ящики со скумбрией. Кинтин работал по двенадцать часов в день. Только так он мог заработать денег на автобусный билет и еще три доллара на мотель, чтобы в конце недели поехать в Понсе.
В городке заняться было особенно нечем. По вечерам мы ходили в кино посмотреть какой-нибудь фильм с Эвой Гарднер или Роком Хадсоном или гуляли на площади. Мы расставались рано утром у кованых железных ворот. Но около часа дня, когда все в доме спали, я босиком выходила из дома и спускалась в сад. Я сбрасывала рубашку и голышом пробиралась в кустарник патио. Там, спрятавшись среди индейского лавра и клещевины, меня ждал Кинтин.
Прошло уже более тридцати лет, а я до сих пор живо помню те дни. Мы, как безумные, занимались любовью на траве в окружении кротких домашних собак, они взирали на нас с любопытством и весело виляли хвостами, будто речь шла о какой-то игре. Мы были такие юные, почти дети!
Осенью, сразу после возвращения в Соединенные Штаты, мы виделись в Нью-Йорке каждое воскресенье. Мы встречались в отеле «Рузвельт», который тогда стал уже приходить в упадок. В коридорах темно, система освещения была древней: по потолку во всю длину коридора шла труба, а на ней крепились светильники в виде бабочек. Стены – из искусственного мрамора, а газовые светильники покрыты пылью. Отель «Рузвельт» соединялся с Центральным вокзалом подземным переходом. Это было удобно по двум причинам: зимой не надо было выходить на улицу в непогоду – я ненавидела холод, – и, кроме того, мало кто пользовался этим переходом, так что снижалась вероятность столкнуться с кем-либо из знакомых. В то время запятнать свою репутацию было самым большим грехом для девушки из хорошей семьи, и я прекрасно помню извечный страх натолкнуться на кого-нибудь из знакомых в вестибюле отеля. Переход отеля «Рузвельт» был идеальным путем к отступлению: можно было приехать и уехать незамеченными.
Как только я выходила из колледжа, я думала только об одном – как можно скорее оказаться в объятиях Кинтина. Поезд привозил меня на Центральный вокзал. Я бегом преодолевала подземный переход отеля, поднималась на лифте и устремлялась в конец коридора – в заветную комнату с кроватью, где меня ждал Кинтин. Это было все равно что оказаться в конце пути, где желание и расстояние сходились в одной точке. Моя мать и мой отец, Ребека и Буэнавентура – все уходило сквозь стены безымянной комнаты, скрывалось где-то в тумане времени. На этом предбрачном ложе, вдали от недремлющего ока родственников и знакомых, мы потеряли невинность и обрели сознание правоты. Мы погружались в неведомое сладострастие, в очистительный для обоих жар любви.
Узнав Кинтина, я словно кружилась в нескончаемом вихре, который увлекал меня в глубину моей собственной души. Я была безумно влюблена в него и думала только о встречах в саду нашего дома или в отеле Нью-Йорка. Могучее притяжение, которое я чувствовала к своему жениху, не уменьшилось ни после печального эпизода с несчастным певцом, покончившим с собой, ни даже после нескольких лет совместной жизни.
Кинтин был очень хорош собой. Он унаследовал испанскую стать Буэнавентуры: его широченные плечи, шею, как у молодого бычка, и его агатовые глаза. Единственное, что мне в нем не нравилось, – его темперамент холерика. Когда я чувствовала в нем приближение приступа гнева, то опускала голову и отводила глаза. Это был наш тайный сигнал. Кинтин много страдал в детстве от необузданного нрава своего отца, и наш договор был попыткой избежать таких же проявлений у него самого. Какое-то время это помогало: Кинтину становилось смешно, когда он видел мою пантомиму, и гнев отступал. И это нас вновь соединяло.
«Чем дольше мы живем, тем больше у нас на душе шрамов, – говорила мне Баби. – В глубине души каждый из нас ветеран войны: кто-то потерял руку, кто-то ногу или глаз, – всех побила жизнь. А раз мы не можем нарастить себе другую руку или глаз, значит, надо учиться обходиться без них».
Моя мать, Кармита Монфорт, нанесла мне тайную рану, сама того не зная. Когда мне было три года, в семье произошло нечто ужасное. Мы тогда жили в Трастальересе – папа, мама, Баби и я. Трастальерес – это предместье Сан-Хуана, где селились выходцы из среднего и отчасти низшего класса. В то время Кармита была беременна вторым ребенком. Я смутно помню тот день. Я играла в куклы под сливовым деревом, которое росло позади дома Баби, и полуденное солнце свинцом жгло мне затылок. Ванная комната была как раз у меня за спиной, а ее окошко выходило в патио. Мама вошла в ванную и поскользнулась; я хоть и не видела ее, но услышала, как она упала и громко закричала. Я бросила кукол на землю и побежала в другую часть дома, взлетела по лестнице и открыла дверь ванной. Мама лежала на полу, ее кровь растеклась по белому плиточному полу, как мазок красной краски.
Мои дедушка и бабушка, донья Габриэла и дон Винсенсо Антонсанти, были выходцами с Корсики, где – если верить моему деду – нет ничего, кроме ветра, крутых скал и гор, поросших таким колючим кустарником, что его не едят даже козы. Габриэла и Винсенсо отправились в свадебное путешествие, когда им было по двадцать лет, и поселились у родственников недалеко от селения Яуко. Они полюбили эти горы, будто покрытые зеленым бархатом, где в густой чаще кофейных деревьев произрастали горьковатые зерна. Они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, и, для того чтобы пожениться, им требовалось высочайшее соизволение Папы Римского. Но они решили проблему по-своему, сделав из брака союз равноправных и пообещав друг другу нести за это равную ответственность. Вскоре они стали хозяевами красивых владений вблизи Яуко, где вместе жили и трудились.
Бабушка Габриэла была красавицей, но в этом заключалась для нее месть Немезиды, потому как она всегда жила в ожидании очередного ребенка. На отмелях Рио-Негро у нее было не так уж много занятий, и она проводила то окаянное время, пытаясь отвлечь деда от его любимого занятия. Винсенсо обожал плоды гуайабы с козьим сыром, и бабушка готовила ему любимое блюдо чуть не каждый день. Когда она варила гуайабу, аромат шел из окон, будто розовое облако, и дедушка слышал его, как только слезал с лошади. Он взбегал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, сбрасывал с себя одежду и кидался в погоню за бабушкой по всему дому, пока ему не удавалось завалить ее на кровать. Кожа бабушки Габриэлы была точь-в-точь такого же цвета, как мякоть гуайабы, и, когда они занимались любовью, дедушка покусывал ее груди, что еще больше его возбуждало. В конце концов бабушка поняла, что гуайаба будила в нем любовный инстинкт, и перестала готовить ее днем. Но было уже слишком поздно. На протяжении шести лет она каждые девять месяцев рожала по ребенку. Дедушка был счастлив и гордился плодовитостью жены, усматривая в этом Божью благодать. «У меня жена так плодовита, – говорил он всем и каждому, – стоит мне раз чихнуть на нее, как она уже полна семечек, как тыква. Но мне это нравится, потому как близость к природе – одно из ее главных очарований».
Шесть лет бабушка Габриэла выполняла свои обязанности и жила со спокойной совестью. Но на седьмом году, когда Винсенсо ворвался в дом. будто голодный пес, умоляя жену сварить ему проклятую гуайабу, Габриэла не выдержала. Она предпочла рассориться с Господом Богом и терпеть любовный голод сама, но прогнала Винсенсо с брачного ложа, не желая превратиться в тыкву, полную семечек, в седьмой раз.
Победа далась нелегко; она защищала свое ложе, как бастионы крепости. Винсенсо осаждал ее каждую ночь поэмами и серенадами и часами ждал у нее под дверью, глядя кроткими, как у барана на бойне, глазами. Габриэла еще никогда не видела его таким. Но бабушка гордилась своим корсиканским характером и демонстрировала железный отпор.
– Если и дальше будет как было, колыбель станет моей могилой, – кричала она Винсенсо из-за двери, умоляя сжалиться над ней и принять пояс целомудрия как норму жизни.
Все было напрасно.
Когда Винсенсо стал настаивать и попытался вернуть себе супружеские права силой, Габриэла взялась за оружие, подобно Лукреции гор, и защищала свое целомудрие с помощью метелок, щеток и даже кухонных ножей. Когда вечером она видела дедушкину тень, тихонько подкрадывающуюся к ее кровати, то выпрямлялась и, сидя на подушках с ножом в левой руке, кричала во всю мощь своих легких:
– Уходи отсюда, Винсенсо, это моя крепость! Больше никто не будет ни резвиться здесь, ни командовать, а то смотри, как бы твои кости не упокоились в могиле!
Борьба была тяжела для обоих. Их сердца по-прежнему были полны любви, и по ночам им недоставало друг друга. Бабушка Габриэла совсем не имела в виду оставаться без дедушки вовсе, но, сколько она ни умоляла его, сколько ни просила, сколько ни убеждала Винсенсо в том, что истинная любовь содержится в верхней части тела, а не в нижней и что утешением от всех печалей этого мира может служить целомудренное объятие, дедушка не давал выкручивать себе руки. Его глаза наполнялись слезами, он обнимал и целовал ее бесчисленное количество раз, но через две недели воздержания чувствовал себя как на адской сковородке, поэтому снова приступал к осаде. В конце концов он признал себя побежденным. Однажды ночью он ушел из дома и отправился ночевать в поселок.
Дедушка завел себе любовницу в Яуко, которую посещал раз в неделю. Никто не осудил его за это.
– Только благодаря естественной плодовитости человек может утвердиться в этом мире, – краснея, сказал ему священник, когда он пришел на исповедь. Священник нашел его поведение совершенно правильным и только предостерег, чтобы он еще больше не усложнял себе жизнь. Он дал дедушке отпущение грехов и отослал домой с миром.
Тем временем его сожительница забеременела. Когда бабушка Габриэла об этом узнала, она до того обрадовалась, что не ей придется рожать, кормить грудью, одевать и растить ребенка, что благословила будущего малыша. Когда ребенок родился, то был крещен, а дедушка Винсенсо признал его как своего законного сына и дал ему свою фамилию.
По ночам Винсенсо очень не хватало Габриэлы, которая по-прежнему ложилась в постель одна. Она лежала, глядя в темноту, изнуренная бессонницей, и пускала стрелы в святого Петра, святого Павла и во всех прочих святых Матери нашей Католической церкви, проповедовавшей, что плодовитость женщины есть продолжение ее природы. Вместо того чтобы молиться Деве Марии, фигурку которой она поставила на маленький столик в углу своей комнаты и окружила свечами, она упрекала ее в том, что та заключила союз со святыми Петром и Павлом, которые славились своей приверженностью к выполнению мужских обязанностей.
Со временем бабушка примирилась с несправедливым неравенством, на которое обрекла ее природа, но в церковь все равно не ходила. По ночам она чувствовала себя как неприкаянная душа: адское пламя лизало ей плечи и грудь, делая желание нестерпимым. Несомненно, именно поэтому она перестала верить в ад: никакие адские муки не могли сравниться с тем, что она испытывала.
Бабушка посоветовалась с одной акушеркой. «Нет ни такого зла, которое бы длилось сто лет, ни такого тела, которое бы ему столько лет противостояло, – сказала ей женщина. – Придет день, когда проклятие плодовитости исчезнет и счастье вернется в твое лоно». Так и случилось. Через двадцать лет, избавившись от проклятых менструаций благодаря благословенному климаксу, бабушка снова стала мирно делить супружеское ложе с Винсенсо. Это было весьма кстати, потому как Винсенсо, который столько лет таил на нее досаду, теперь, когда она потеряла способность зачать, вновь предпочел ее любовнице. Габриэла впустила его к себе в кровать-крепость, и они снова стали заниматься любовью с не меньшим энтузиазмом, чем раньше.
Дедушка с бабушкой продали землю в Рио-Негро и переехали в Понсе, где открыли хорошенький магазинчик по продаже кофе на пристани Ла-Плайа. Бабушка продолжала помогать деду и каждый день ходила с ним в магазин; они вместе вели экспортную торговлю кофе, причем с большим успехом.
В течение всего этого времени у бабушки был от Дедушки только один секрет. Когда в Рио-Негро она беременела шесть раз подряд, то поклялась, что в будущем защитит своих дочерей от подобной участи. Так что, когда девушки вышли замуж, она заставила каждую из них поклясться, что они будут рожать по ребенку не раньше чем через пять лет и тайно будут делать все возможное, чтобы избежать нежелательной беременности.
– Один ребенок еще куда ни шло: мать может всюду возить его с собой без всяких неудобств. Но двое – это первые звенья железной цепи, которыми муж приковывает свою жену к бренной земле.
Это и было то обещание, которое Кармита дала и нарушила через три года после моего рождения. Когда бабушка узнала, что ее дочь забеременела во второй раз раньше установленного срока, она на автобусе приехала из Понсе в Сан-Хуан вместе с акушеркой, чтобы напомнить дочери о клятве, которую та дала. Баби тогда с нами не было, она уехала в Адхунтас на похороны своего шурина Оренсио Монфорта. Если бы Баби была дома, такого бы не случилось. Бабушка Габриэла велела Кармите выпить какое-то зелье, чтобы вызвать выкидыш. Однако средство оказалось слишком действенным – началось сильное кровотечение.
Когда в тот день я вбежала в дом и увидела, что Кармита лежит без сознания на полу, я испугалась. Я не слышала, о чем бабушка Габриэла шепталась с акушеркой, но ясно помню стульчак, забрызганный кровью, – это заставило меня заподозрить, что произошло нечто ужасное. Потом бабушка Габриэла вместе с прислугой перенесли маму на кровать и побежали с окровавленными простынями в прачечную в глубине патио, чтобы папа их не увидел. Тут я услышала, что бабушка успокаивает маму, говорит ей, мол, нечто величиной с четыре месяца лежит в унитазе, и что она разрешилась от бремени. Немного позже, тайком, через заднюю калитку патио, чтобы его не увидели соседи, пришел наш семейный врач и прописал Кармите лекарство, которое остановило кровотечение. Когда папа пришел вечером из своей мастерской, кризис миновал, мама возлежала на подушках, свежая, будто плод агавы, причесанная и надушенная, якобы оправившись после приступа мигрени.
Я помню свой страх и одновременно волнение из-за того, что узнала нечто неположенное, какую-то тайну, объединявшую женщин нашей семьи, которую бабушка Габриэла обещала открыть мне, когда придет время. Возможно, это происшествие и не имело бы больших последствий, если бы мама не перенесла вследствие него тяжелейшую родильную горячку и не оказалась бы серьезно больна. Врач пришел к нам в дом еще раз и сказал моему отцу, что Кармита больше не может иметь детей.
Бесплодие Кармиты явилось для Карлоса тяжелым ударом. Папа был сиротой, и ему казалось: самое печальное, что может произойти с ребенком, – прийти в этот мир, не имея отца. Он мечтал о сыне, с которым они вместе делали бы все то, чего ему никогда не доводилось делать со своим отцом: ловить мидий в Пиньонесе, запускать воздушных змеев на Козьем острове и скакать на лошади вдоль песчаной отмели в Лукильо, чтобы стать настоящим мужчиной. Когда Кармита слышала все это, она молчала. Но чувствовала себя страшно виноватой.
Много лет спустя Баби рассказала мне, как все было. Когда бабушка приехала в Понсе, она убедила Кармиту, что та сможет воспитать второго ребенка гораздо лучше, когда первый – то есть я – немного подрастет и сможет ей помогать. Кармита послушалась бабушку Габриэлу и согласилась на аборт. А потом произошло непредвиденное. Мама уже любила это маленькое, пока еще безымянное и безликое тельце, которое жило в ее теплой утробе, и после всего случившегося впала в глубокую меланхолию.
Однажды Баби обнаружила, что все ножи из ящика кухонного стола исчезли, портновские ножницы не лежат в швейной машинке, а садовые ножницы пропали из сарая, так же как и бритвенные лезвия отца из шкафчика в ванной. Она, как безумная, бросилась искать Кармиту по всему дому и нашла ее в комнате для шитья; та сидела перед «Зингером» с ручным приводом, который папа подарил ей на последний день рождения – роскошная модель, инкрустированная позолоченными букетами роз. Кармита разложила все ножи, ножницы, бритвы рядами на столе, а также иголки и нитки. Она была как в столбняке и смотрела в одну точку.
– Я знаю, что всеми этими ножами и ножницами делают что-то важное, Баби, – сказала она, – но никак не могу вспомнить, что именно.
Баби пришла в ужас; она заперла на ключ все эти предметы и тщательно обыскала дом, дабы быть уверенной, что никакое холодное оружие не попадет в руки Кармиты.
После этого мама вновь погрузилась в прострацию – в черную пустоту, где всегда шел дождь. Она была словно окутана туманом. Ее одежда всегда оказывалась влажной и холодной, и каждый раз, когда я пыталась приласкаться к ней, она отталкивала меня, потому что вспоминала о своем неродившемся малыше.
10. Свадьба Аристидеса и Маделейне
Прадедушка Кинтина, дон Эстебан Росич, был по происхождению итальянец. Он родился в Бергамо, маленьком городке на севере Италии, но много лет прожил в Бостоне и получил американское гражданство в 1899 году. Однажды (должно быть, это произошло году в 1879-м) он вошел в магазин модных товаров «Травиата» в Сан-Хуане сделать вместе с дочерью кое-какие покупки. На прилавке полированного красного дерева лежали штуки разных дорогих тканей: шелковистый муар из Франции, кружева из Бельгии, полотно ярких оттенков из Ирландии. Аристидес Арриготия, дедушка Кинтина, работал в «Травиате» продавцом. Ему было двадцать лет, и жизнь его складывалась неважно. Дон Тито, хозяин магазина, был заносчивый старик, который терпеть не мог иностранцев; он хоть и нанимал их на работу, но платил гроши. Аристидес родился на Острове, но, поскольку его родители были испанцы, дон Тито считал его иностранцем. Каждый раз, когда дон Тито обнаруживал мышей в перьевых подушках, которые продавались в магазине, он давал Аристидесу нахлобучку и всячески оскорблял его.
Аристидес был всегда любезен и сумел даже на таком скромном поприще извлечь для себя пользу. Проработав всего несколько месяцев, он уже знал Добрую половину светского общества столицы и помнил вкусы всех дам, которые покупали у него кружева, камчатую ткань или атлас, чтобы заказать самым лучшим портнихам в городе платья по последней моде.
Дон Эстебан Росич был вдовцом. Он решил уехать и жить на Острове по соображениям здоровья, после того как сколотил состояние, продавая итальянскую обувь в Соединенных Штатах. Он также был владельцем пароходной компании «Таурус лайн», которая осуществляла активный обмен товарами между Сан-Хуаном, Бостоном и Нью-Йорком. Жить на Острове было удобно не только благодаря его здоровому климату, но и потому, что можно было руководить своей торговлей прямо на месте. Месяц назад он вдвоем с дочерью приехал в Сан-Хуан и только что купил шале в Розевиле, на голубых холмах Гуайнабо, где было немного прохладней, чем на побережье. Розевиль был первым населенным пунктом в американском стиле: в домах были камины из кирпича и наклонные крыши из шифера с огромными водостоками для таяния воображаемых тропических снегов.
Росич с дочерью пришли в «Травиату», чтобы купить ткань для простыней, наволочек и занавесок; чего только не надо было купить, чтобы обустроить новый дом!
– Чем могу вам служить? – улыбаясь, спросил их Арриготия, увидев, как дон Эстебан входит в магазин, опираясь на серебряную трость и держа Маделейне под руку. – Мы только что получили модные товары из Европы.
Он говорил на безупречном английском, и дона Эстебана это удивило. В то время в Сан-Хуане почти никто по-английски не говорил.
– Где вы жили в Соединенных Штатах, юноша? – спросил старик любезно, слегка дотронувшись до его плеча рукояткой трости.
Аристидес был такой белокурый и излучал такую уверенность в себе, что дон Эстебан принял его за американца.
– Я родился здесь, сеньор, – вежливо ответил он. – Я коренной пуэрториканец. Мои родители эмигрировали на Остров из Страны Басков незадолго до моего рождения. Меня зовут Аристидес Арриготия. Рад знакомству. – И он пододвинул стул для Маделейне.
Кинтин часто рассказывал мне об Аристидесе, это был его любимый дед, и он говорил о нем с нежностью. Его фотография в серебряной рамке всегда стояла на столе в библиотеке нашего дома. Кинтин не знал своего деда со стороны отца. Буэнавентура много раз рассказывал ему о героических подвигах своих далеких предков, которые скакали на лошадях по бескрайним просторам, вооруженные аркебузами и копьями, но все это были сказочные персонажи, а не люди во плоти и крови. Аристидес, напротив, был любимый дедушка с розовыми щеками и седыми усами и бородой.
Аристидес был высокий и сильный, он и в самом деле был похож на жителя Пиренейских гор. Он сразу же понравился дону Эстебану. Тот всегда симпатизировал людям, которые пробились в жизни, преодолевая трудности, неминуемые для бедняка.
– Я тоже рад, – ответил он по-итальянски, пожимая руку Аристидесу. И спросил, где тот научился так хорошо говорить по-английски.
– Монахини из американской миссии при монастыре Чудотворной Девы научили меня, сеньор, – почтительно ответил молодой человек. – Нас учили, что, когда мы попадем на небо и постучимся в небесные врата, святой Петр нас не впустит, если мы не будем знать английского языка.
Маделейне засмеялась. Она поняла, что Аристидес имеет в виду заявление губернатора, которое тот сделал в прессе. Истон, главный уполномоченный, только что издал распоряжение, согласно которому обучение должно вестись на английском языке, так что четыре тысячи экземпляров английского букваря уже разошлись по школам. Вынуждать пуэрто-риканских детей изучать историю, географию и даже математику на непонятном для них языке было нелепо.
– По крайней мере, дети могут ходить в школу, а то когда они попадут на небо, то не поймут, что им говорит святой Петр, – добавил Аристидес, подмигивая Маделейне.
Аристидес чувствовал, что произвел хорошее впечатление, и решил упрочить свой успех. Когда Маделейне сказала ему, что ей нужно несколько метров белой перкалевой ткани без рисунка, чтобы заказать дюжину простыней для нового дома, он принес штуку брабантского полотна.
– На Острове невозможно спать ни на чем другом, – сказал он ей. – Такая жара, что перкаль липнет к телу, будто ты облит ананасным сиропом. Даже если спать нагишом. Нет ничего приятнее, чем спать нагишом на брабантском полотне.
Маделейне смерила его взглядом.
– Это не важно, сплю я нагишом или нет, – за словом она в карман не лезла, – но на простынях будут вышиты мои инициалы. – И спросила у Аристидеса, не знает ли он, кому в Сан-Хуане можно заказать вышивку.
– Монахиням монастыря Чудотворной Девы, конечно, – любезно ответил Аристидес. – Если хотите, я завтра же отвезу вас туда.
Через год после визита в «Травиату» Маделейне прошла по центральному нефу церкви Чудотворной Девы под руку с доном Эстебаном. На ней была фата, в руках требник и огромный букет белых орхидей. Аристидес подарил ей алансонское кружево для свадебного платья в счет своей зарплаты у дона Тито за два года вперед. В шале Розевиля дон Эстебан обнял их и благословил. Ему нужен был именно такой юноша, который мог бы помогать ему в управлении компанией «Таурус лайн», а так как его зять знал множество людей в Сан-Хуане, то он мог помочь и с клиентурой. На следующий день дон Эстебан заплатил долг Аристидеса дону Тито, и его зять начал работать в «Таурус лайн».
Аристидес родился в бедной семье басков. Его отец работал старшим поваром в «Испанском казино», где шестнадцать лет спустя его внучка будет признана королевой Антильских островов. Его мать умерла рано, и отец определил его в приют Чудотворной Девы в Пуэрто-де-Тьерра, который пышно назывался Академией Чудотворной Девы.
Монахини Чудотворной Девы были миссионерами и делали много полезного. Именно их заслугой было то, что Аристидес восхищался Соединенными Штатами. Они были хорошими учителями и старались воспитать в своих учениках подлинные гражданские чувства. Они преподавали историю Соединенных Штатов самым детальным образом, но никогда не упоминали об истории Пуэрто-Рико. По мнению монахинь, у Острова вообще не имелось истории. В этом не было ничего удивительного: в те времена запрещалось изучать историю нашей страны как в частных школах, так и в государственных. Неужели наша история так опасна, что может привести к революции? Я часто спрашивала об этом Кинтина, но он никогда не отвечал на мой вопрос.
Монахини Чудотворной Девы учили Аристидеса, что Остров стал существовать как административная единица, лишь когда американские войска высадились в Гуанике. Официальная история Острова начинается с этого момента, утверждали они. Когда дети закончили четвертый класс, им роздали доклад президента Вильсона, сделанный в 1913 году, где говорилось: «Пуэрто-Рико, как и Филиппины, которые Соединенные Штаты берут под свое покровительство, должны следовать букве закона. Они как дети, мы же – взрослые в вопросах государственного управления и правосудия». Аристидес хранил экземпляр доклада между страницами своего требника. И потому был таким горячим приверженцем республиканских идеалов американской демократии.
Когда Аристидес закончил обучение, он попытался найти работу в учреждениях Федерального правительства. Ему хотелось работать на почте. Это было престижно: у почтовых служащих был федеральный оклад, медицинская страховка и право на двухнедельный оплачиваемый отпуск ежегодно. Но ему не повезло и пришлось согласиться на должность продавца, которую ему предложил дон Тито.
После свадьбы Маделейне и Аристидес остались жить в шале дона Эстебана. Дон Эстебан был уже в годах, и о нем 1гужно было заботиться. Переезжать в собственный дом не имело смысла. К тому же Аристидес прекрасно ладил со стариком. Маделейне оказалась очень хорошей хозяйкой. Она привезла в дом двух деревенских девушек из горного села Кайей, чтобы они помогали ей, и в доме у нее все сверкало. Она научила их драить полы с хлоркой, дезинфицировать туалет и начищать ванну до такой белизны, какой отличаются только искусственные челюсти. Кухонные сковородки и кастрюли блестели, будто серебряные.
Когда Кинтин появился в доме своей бабушки, его глубоко поразила разница между кухней Маделейне и кухней Петры. У Маделейне была электрическая плита, а пол сиял такой чистотой, что хотелось расположиться поужинать прямо на полу. Но еда была невкусной; меню всегда состояло из цыпленка, запеченного в духовке, картошки и кубика подтаявшего масла «Брукфельд», да еще сока из облаков (так красиво называла Маделейне газированную воду). В кухне Петры, наоборот, готовили на очаге, который топили вместо угля сухим конским навозом, а в соусе из фасоли часто весело барахтались тараканы, но еда была поистине «королевского вкуса» – кулинарное блаженство, сдобренное веточкой альбааки.
Аристидес быстро стал настоящим управляющим, сочетая два вида деятельности: гражданскую и военную. С утра он работал вместе с тестем в пароходной компании, а по вечерам ненадолго брал на себя обязанности офицера полиции. Он делал это добровольно – так можно было быть в курсе всего, что происходило в мире политики. Его идеологические убеждения носили несколько иллюзорный характер, и борьбу за стабильность в стране он считал священным долгом.
В первые годы замужества Маделейне не хотела иметь детей. Она мечтала когда-нибудь вернуться в Массачусетс, где прошло ее счастливое детство. Ребенок не позволил бы ей распустить паруса так легко; к тому же она все еще не знала, хочет ли она навсегда бросить якорь на Острове, где чувствовала себя немного иностранкой. В Бостоне у дона Эстебана был красивый кирпичный дом с широким балконом в викторианском стиле на третьем этаже, с которого было видно, как причаливают и уходят в море пароходы «Таурус лайн». Дом находился в Ист-Энде, итальянском квартале неподалеку от порта, и дон Эстебан не хотел продавать его на тот случай, если Маделейне захочет однажды вернуться в Соединенные Штаты.
Маделейне обожала спорт. Она была поклонницей Хелен Уилс Муди, американской звезды тенниса, которая была в те времена очень знаменита. Каждый вечер Маделейне играла в теннис на кортах военной базы Гуайнабо недалеко от Розевиля. Женщины Острова спортом не занимались, так что Маделейне играла в теннис с новобранцами базы, и это давало немалую пишу для пересудов. Она была высокой и стройной, юбки носила гораздо короче, чем девушки Острова, и ходила быстрым шагом, потому что не любила терять время. Гуляла одна в уединенных местах и частенько сама садилась за руль «рено» дона Эстебана, собираясь побродить по холмам в поисках диких орхидей и бромелий.
Орхидеи были ее страстью, не считая тенниса. Аристидес построил ей теплицу в глубине патио, где Маделейне разводила разные сорта орхидей: каттлею, лелию и фаленопсис. Она ухаживала за ними сама, и ей удалось вывести необыкновенные экземпляры; некоторые были похожи на пауков с розовыми лапками, другие на скорпионов в панцире из золотых колец или на бабочек, забрызганных кровью. Ей нравился этот мир тишины и влаги, что царствовали под зеленой сеткой москитного полога. Все равно что гулять по заросшим зеленью холмам: чувствуешь, что ты в мире с самим собой и что ты – хозяин своей судьбы. Со временем и Аристидес заразился этой же страстью к орхидеям, но по другим причинам. Они доставляли ему эротическое наслаждение, он смотрел на них, и ему казалось, будто он окружен красивыми женщинами. Через пару лет совместной жизни Аристидес и Маделейне купили землю на холмах Барранкитас, где разводили орхидеи круглый год.








