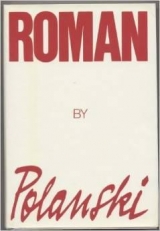
Текст книги "Роман"
Автор книги: Роман Полански
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Теперь мы жили в огромной старомодной квартире с высокими потолками, в одной комнате с молодой семьей и их маленьким сыном Стефаном. Отец был архитектором, и наши семьи быстро подружились. С нами жил еще и вонючий старик с такой же вонючей собакой по кличке Фифка. Сестра спала в соседней комнате, отделенной от остальных обитателей шкафом. Стефану было года четыре-пять. У него были кудрявые светлые волосы и серьезное личико. Мы почти все время играли вместе, и он стал для меня тем, чем я был для Павла, – жадным слушателем всевозможных сведений.
Вскоре отец узнал, что готовится новый рейд. Воспользовавшись своим пропуском, мать отвела меня к Вилкам. Когда пришло время вести меня обратно, вместо матери за мной зашел отец, возвращавшийся с фабрики, где работал слесарем. Он подкупил охранника, чтобы пораньше уйти с работы, и возвращался в гетто без повязки на рукаве. Когда на улице пани Вилк передала меня ему, он с неожиданной силой обнял меня и расцеловал. По пути в гетто, проходя через мост Подгуже, он безудержно зарыдал. Потом выдавил из себя: «Маму забрали».
Я сказал: «Не плачь, люди смотрят». Я боялся, как бы его слезы не выдали, что мы евреи и разгуливаем без охраны в неположенном месте. Он взял себя в руки.
Исчезновение матери произвело на меня более тяжелое впечатление, чем исчезновение Павла, но я ни секунды не сомневался, что она вернется. Мы только волновались, как с ней обращаются, достаточно ли ей еды и мыла, когда мы получим от нее письмо? Мы тогда еще не знали про газовые камеры.
Меня снова отправили к Вилкам, но я сбежал. Черт с ним, с рейдом, я хотел быть с отцом.
Я подошел ко входу в гетто и попросил, чтобы меня впустили. Польский полицейский отмахнулся от меня, но пропустил, после того как я сказал ему, что живу там.
День стоял жаркий, солнечный. Все словно вымерло. В этой тишине было что-то зловещее. Я понял, что произошло нечто ужасное. По вонючему коридору я пробежал в нашу комнату. Там никого не было.
Я лихорадочно обегал все места, где по моим представлениям мог быть отец. В комнате бабушки никого не было. Там царил беспорядок. Никого не было и в писчебумажном магазине на углу, дверь стояла нараспашку. Внутри все было в порядке, будто владелец, друг моего отца, только что вышел подышать свежим воздухом. Я не обратил внимания на краски, цветные карандаши и бенгальские огни – там их были целые коробки, бери, сколько хочешь. Я проверил кассу – узнать, есть ли там деньги. Если да, то был шанс, что хозяин вернется. Она была пуста.
Я запаниковал. Все, кого я знал, исчезли. Мне необходимо было найти хоть каких-нибудь людей, пусть даже чужих. Тишина делалась невыносимой.
Первые взрослые, которых я обнаружил, стояли на улице под охраной поляков. В некоторых домах еще продолжались обыски. Я слышал, как топают сапоги, как выкрикиваются по-немецки приказы. «Что мне делать?» – спросил я у ближайшего взрослого.
Один из них спросил, где я живу.
– Вон там. А что происходит?
Кто-то сказал: «Если ты не идиот, проваливай».
Но я не двинулся с места. «Если я останусь, – подумал я, – то смогу как-то соединиться с отцом».
На улице показался эсэсовец. Толстенький, в очках, похожий на директора школы с пачкой бумаг. Он велел отвести нас на площадь Згоды перед главными воротами. Здесь стояли депортанты. Их держали там уже два дня. Это была самая крупная облава.
Проталкиваясь сквозь толпу, я натолкнулся на Стефана. Хотя он ничего не знал про отца, я обрадовался, что встретил его. Мы продолжали поиски вместе, расспрашивая незнакомых людей, протискиваясь сквозь толпу. Масштабы депортации привели меня в ужас. Я понял, что зря вернулся. Надо было драпать.
Подъехал эсэсовец на мотоцикле. В окружении подобострастных подчиненных начал отдавать приказы. Я объяснил свой план Стефану, который немного говорил по-немецки: он должен был подойти к немецкому офицеру и попросить разрешения нам двоим сходить домой за едой. Если офицер разрешит, мы попробуем пролезть через проволоку. Но в критический момент нервы у Стефана сдали. Рядом с нами стоял молодой поляк, охранявший обитателей гетто, один из многих, кого поставили надзирать за толпой депортированных. Я подошел к нему и попробовал рассказать нашу историю. Он, должно быть, все понял, но сделал вид, что поверил, и кивнул. Мы пустились бежать. «Идите медленно, – прорычал он, – не бегите». Мы пошли шагом.
Дорогу я знал: через двор, переулками, по одной улице, по другой. Наконец мы добрались до колючей проволоки, отделявшей гетто от остального Кракова. Вот знакомое отверстие в проволоке, и никакой охраны поблизости не видно.
«Иди», – сказал я Стефану. Я-то привык проползать сквозь дыру, а он испугался. «Иди!» – подгонял я его, но в конце концов пополз первым и подождал его, проклиная за то, что он так долго возится. Он пробрался сквозь маленькую дырку, и вот мы уже были по другую сторону. Все было похоже на сон. Медленно, как на прогулке, мы пошли прочь от колючей проволоки. Мы не оборачивались и не разговаривали, пока не услышали гул и звон трамваев. Тогда мы в первый раз взглянули друг на друга. Получилось.
При нашем появлении пани Вилк сказала только: «Что такое? Уже два еврея?» Но Стефан был таким очаровательным ребенком, что скоро она перестала сердиться.
Как только облава кончилась, я вернулся в гетто. Я снова был с отцом, который перебрался в бывшую комнату моей бабушки. Ее забрали. И мою сестру Аннетт тоже. Теперь отец жил в бабушкиной комнате вместе со мной и Стефаном.
Это были последние недели краковского гетто. Мы, дети, теперь работали в заведении, представлявшем собой и фабрику, и приют. Раз в день нас кормили, час или два с нами проводились занятия. Все остальное время мы делали бумажные пакеты – складывали и склеивали листы коричневой бумаги. У Стефана пакеты получались плохо, но он не плакал.
13 марта 1943 года, в день, когда краковское гетто должны были, наконец, ликвидировать, отец разбудил меня еще до зари. Он отвел меня на площадь Згоды, прямо позади эсэсовского охранного пункта, в то место, которое не просматривалось, и хладнокровно разрезал проволоку кусачками. Быстро обнял меня, и я в последний раз скользнул под проволоку. Стефану пришлось остаться вместе с остальными ребятами – его некому было взять к себе. Однако когда я добрался до Вилков, дверь
была заперта. Я побродил вокруг, не зная, что делать. Потом, обрадовавшись, что появился повод вернуться к отцу, направился назад в гетто. Не доходя до моста, я увидел колонну пленных мужчин, которых немцы вели под дулами ружей. Среди них был и мой отец.
Сначала он меня не заметил. Мне пришлось бежать, чтобы не отстать. Наконец он меня увидел. Я жестами показал ему, поворачивая воображаемый ключ, что произошло. При молчаливой помощи остальных пленных он отстал на два-три ряда, незаметно меняясь с ними местами, чтобы оказаться подальше от ближайшего солдата и поближе ко мне, и прошипел: «Проваливай!» Я остановился и посмотрел, как удаляется колонна, потом отвернулся. Больше я не оглядывался.
ГЛАВА 3
«Tylko swinie siedza w kinie!» – «Только свиньи ходят в кино» – согласно этому лозунгу, нацарапанному на стенах краковских кинотеатров участниками Сопротивления, я как раз и был свиньей. Кино стало моей страстью, единственным спасением от депрессии и отчаяния. Моим наставником и опекуном был мальчик по имени Мечислав Путек, или Метек. Высокий, черноволосый молчаливый подросток, мой ровесник. Мы с Метеком были неразлучны, тем более что я жил в одной комнате с ним и его семьей.
В день, когда забрали отца, Вилки вернулись вечером незадолго до наступления комендантского часа и увидели меня под дверью. Я провел с ними всего одну ночь, а потом они сбагрили меня под своей фамилией Путекам. Болеслав Путек работал швейцаром, и здание, за которым он смотрел, вполне подходило для того, чтобы в нем скрываться. Ну кому пришло бы в голову искать маленького беженца из гетто в доме, реквизированном для немецких офицеров и их семей?
Впервые, уже в роли Романа Вилка, я ощутил вкус свободы, когда проехался на трамвае № 1 вдоль Плантов. Я и до войны ездил на нем с родителями, но Метек показал мне, что значит ездить по-настоящему. Нельзя было садиться в переднюю часть вагона – там ездили немцы. А задаром лучше всего было кататься снаружи на сцепках и спрыгивать, не доезжая до следующей остановки.
Сумма, которую отец заплатил Вилкам, давала мне право на получение от них карман-
ных денег. Большую часть я тратил на кино, но билеты были настолько дешевы, что хватало на много фильмов. Я смотрел все подряд, от оперетты до любовных драм. [...] Метек присоединялся ко мне отчасти потому, что ему нечем было заняться, а отчасти, чтобы уберечь меня от беды. Когда он был в школе, я бродил сам по себе. Когда деньги кончались, я просто глазел на фотографии в фойе. В особенности меня завораживала одна актриса – изящная блондинка по имени Марика Рёкк. Я мечтал когда-нибудь обвенчаться с ней, но приходил в ужас от того, что скажет отец, узнав, что сын женится на ненавистной немке. Потом я выяснил, что она венгерка. Так что зря я беспокоился.
[...] Кино превратилось в настоящую страсть. Меня завораживало все, что имело хоть какое-то отношение к нему, а не только сами фильмы. Я обожал светящийся прямоугольник экрана, луч света, разрезавший темноту от будки механика до экрана, таинственную синхронизацию звука и изображения, даже запах пыльных откидных мест. Но более всего меня волновала сама механика кино.
Я задался целью смастерить себе проектор наподобие школьного эпидиаскопа – коробки с линзой. Линзу я взял от фонаря. Осталось раздобыть коробку. Я безуспешно облазил мусорные баки по соседству. Как-то утром я попросил мусорщика подвезти меня до свалки. Через несколько часов поисков я нашел то, что искал: металлическую коробочку из-под чая, раскрашенную красным и золотым цветом. Теперь нужно было прорезать с одной стороны четырехугольное отверстие, а с другой – круглое. За неимением лучшего я воспользовался молотком и гвоздем. Работа была шумной.
В тот день как раз пришла тетка Метека Янка, привлекательная девятнадцатилетняя девушка. Она меня недолюбливала и потребовала прекратить стучать молотком.
– Я делаю проектор, – сказал я.
– А мне плевать, – ответила она и попыталась выхватить молоток. Я полез драться, ругая ее плохими словами, которых наслушался на улице. Она вышвырнула мою банку в окно. Когда я пошел ее подобрать, Янка заперла дверь. Инструменты остались в доме. Я без толку звонил и звонил, потом безутешно побрел по улицам и встретил Крупу, приятеля чуть постарше меня. Чтобы досадить Янке, мы зажали звонок спичкой и смылись.
Янка грозила донести на меня, и Путеки решили от меня избавиться, отправив подальше от Кракова. В сопровождении Янки, которая теперь пребывала в чуть более добром расположении духа, я сел в поезд, забитый крестьянами, так что всю дорогу нам пришлось стоять прижатыми к двери туалета.
Мы вылезли на маленькой станции под названием Пшитковице. Я нес чемоданчик, а Янка – узелок с едой. Мы шли и шли под палящим солнцем, мне казалось, я вот-вот потеряю сознание. Носков у меня не было, мозоли на пятках лопнули и начали кровоточить.
Мы направлялись в деревеньку под названием Высока, где я должен был поселиться у людей по фамилии Бухала. Они жили на хуторе на склоне лесистого холма. Я очень скучал без родителей. На сей раз меня спасла природа. Я открывал для себя новый мир. Будто начинал жизнь заново.
Бухалы были очень бедны. Сам Бухала был сапожником, но заказов почти не имел. Человек он был простой, ворчливый и недалекий. Из всего семейства самым нормальным был Людвик, на два года младше меня.
Все семейство держалось на пани Бухала, сильной, энергичной женщине. Она была глубоко религиозна, добра и чутка, но так же неграмотна, как и ее муж. Удивительно, что она была добра ко мне, ведь Путеки почти ничего ей за меня не платили. Деньги, оставленные отцом, словно бы испарились. [...]
Жизнь Бухала была бесконечной борьбой за выживание. Хозяева растили пшеницу, рожь и картофель, и ели мы вареную картошку и кашу-размазню, в которую изредка добавляли немного молока. Хлеб пани Бухала пекла сама – грубые ржаные лепешки. Рожь мололи вручную на примитивной мельнице, которая, вполне возможно, осталась от средних веков.
[...] Летом еды стало больше. У хозяев был небольшой фруктовый сад, а в лесах в изобилии росли грибы и ягоды. Мы объедались вишней и сливами. Я утолял голод незрелыми грушами – с печальными последствиями.
[...] От телки, навоза, человеческих экскрементов, наших немытых тел исходила ужасная вонь. Всерьез я там ни разу не болел, но вечно страдал от мозолей на ногах, я весь был искусан комарами, и мне здорово докучали вши, которых выводили керосином. Мылись мы в хлеву, куда я удалялся с тазом и кувшином, стараясь, чтобы меня никто не видел. В Польше обрезание делали только евреям.
[...] В школу я, естественно, не ходил, ведь документов у меня не было. Поэтому я больше других работал на ферме. Со временем у меня появились свои обязанности. В моем ведении находилась телка, которую я уводил на целый день пастись, по возможности – на чужих угодьях. Я узнал, где наилучшие пастбища, научился следить за погодой.
Когда пришло время собирать урожай, я помогал на обмолоте, ударяя по ржаным колосьям цепом. Помогал я и по дому – чистил картошку. Научился делать веревку из конопли, кормил цыплят и кроликов.
С приближением зимы пейзаж переменился. Появились яркие новые краски (в основном красные и золотые), незнакомые запахи. Однажды утром я проснулся и увидел иней на траве. А потом ночью выпал снег, и холмы оделись в белое.
[...] Однажды в снегу застряла первая же объявившаяся в Высоке машина. В ней сидели два немца. Деревенские жители смеялись над ними, но вытащить машину все же помогли. Бухала никогда не видели машин, Людвик даже поезда не видел. Я отправился с ним на далекую станцию Пшитковице. Я думал, что при виде прибывающего к платформе, окутанного клубами дыма поезда он потеряет дар речи. Он же лишь вежливо поблагодарил меня потом: ничто, кроме землетрясения, не смогло бы произвести на него впечатление. Он не знал, что такое электричество. Я рассказывал ему, как можно освещать разные комнаты в доме при помощи выключателя. Он не верил.
[...] Хоть я и играл с деревенскими ребятами, мы никогда по-настоящему не сближались. У нас были разные интересы. Однажды они бросили меня в пруд к уткам, чтобы научить плавать. Я выбрался, сделав вид, что чуть не утонул, а они только посмеялись.
Вскоре после этого я наткнулся на сундук, оставленный старшей сестрой пани Бухала, учительницей. В нем я обнаружил заплесневелые страницы. Это был зачитанный католический журнал «Солдаты безупречной королевы», который изобиловал историями о чудесах, кровавых проклятиях и божественной каре, посылаемой непослушным детям. Нашел я и «Песнь о Роланде». Будучи практически неграмотным, я все же продирался сквозь текст по словечку. И получилось, что первой книгой, которую я прочел, была французская эпическая поэма XII века, переведенная на мудреный старопольский язык.
[...] Немцы устроили первую перепись населения в этом районе. Когда дошла очередь до Высоки, пани Бухала отвела меня на ночь в другую деревню. Дом, в который я попал, был больше, чем у Бухала, но жила в нем всего одна женщина лет двадцати, крупная, с большим бюстом, с заплетенными в косы светлыми волосами. Ко мне она отнеслась с добротой, по-матерински, дала на ужин картошки, простокваши и даже кусочек колбасы. Кровать была только одна.
Когда пришло время спать, женщина надела ночную рубашку, и я понял, что мы будем спать вместе. Я ощущал ее тепло, ее пышное тело, ее приятный запах. Заснула она довольно быстро – или сделала вид – и обняла меня, как я обнимал своего медвежонка. Разница в росте между нами была примерно такая же. Я не осмелился ответить ей тем же.
[...] Я научился кататься на лыжах. Мучители, бросавшие меня в пруд, показали мне, как из досок и обручей от бочек сделать лыжи. Ветви орешника служили палками.
[...] Сведения о том, как развивались события на войне, у нас туманные. Всех, у кого находили радио, жестоко наказывали, так что мы питались только слухами. [...] В последнее лето, которое я провел у Бухала, я понял, что война приближается. Как-то я собирал плоды мирта. Постепенно жужжание пчел заглушил другой звук – глубокий, рокочущий, который нарастал, пока не поглотил собой все остальные. Подняв глаза, я увидел высоко в небе самолеты. Это могли быть только бомбардировщики союзников. Сердце мое радостно екнуло. Я лег на траву и наслаждался зрелищем. Потом к гулу добавились другие звуки – удары, которым предшествовали облачка дыма в небе. Бомбардировщик подбили. Я увидел, как в воздухе один за другим появились парашютисты. Один из них плыл по направлению ко мне, и я всем сердцем надеялся, что он приземлится рядом со мной. Но его отнесло за деревья, и он скрылся из вида.
Я все что угодно отдал бы, чтобы помочь летчикам. Мне очень хотелось найти их, укрыть в доме у Бухала, но мне не позволили даже пойти посмотреть на то место, где упал самолет.
[...] Теперь еды уже по-настоящему не хватало, и Бухала просто не могли меня больше кормить. К тому же немцы начали укреплять холмы поблизости от Высоки, используя на работах военнопленных. За одну ночь все вокруг наполнилось серыми шинелями. Пора было возвращаться в Краков.
ГЛАВА 4
Оккупация Польши закончилась для меня так же, как и началась, – в бомбоубежище. Но на сей раз атмосфера была совершенно другой.
В 1939 году в Варшаве царили панические настроения. В Кракове чувствовалось всеобщее ликование. Мы знали, что немцы проигрывают войну, потому что все чаще и чаще налеты стали проводиться в дневное время. Хотя подвал сотрясался от разрывов бомб и снарядов, настроение было приподнятое. Не считая горстки соседей, в подвале с нами в тот день оказались совершенно незнакомые люди, которых налет застал на улице.
[...] Мы до бесконечности оставались бы в подвале, если бы в дверь вдруг не забарабанили. Это напоминало прошлые немецкие обыски в домах. И кто-то заорал по-немецки: «Открывайте, свиньи!» Когда побелевший Путек подчинился, все увидели радостного пана Езека, привратника из соседнего дома, с бутылкой водки в руках. Он кричал: «Выходите же, дурачье, их больше нет! Все кончено, говорю вам!»
Чужие быстро разбежались, а мы перебрались из подвала в квартиру на четвертом этаже, которую Путеки освободили после ухода немцев. Там взрослые потчевали себя бренди и шампанским, оставшимся от прежних обитателей. «Что бы ни болтали про немцев, – заявил пан Езек, – но по крайней мере от евреев они нас избавили».
Кто-то вышел на улицу и привел русского солдата. Он совсем не походил на героические фигуры, которые я потом видел в советских фильмах. Это был перепуганный малый с полным ртом металлических зубов, курносый, некрасивый, в потрепанной шинели. От винтовки у него был только шомпол. Я сидел рядом с ним. Пани Путек подала ему целую тарелку жаркого из гуся. Он с жадностью набросился на еду, уговаривая меня последовать его примеру.
В первый и, наверное, единственный раз в польской истории русских в Польше приветствовали. В эти первые дни почти все польские семьи, как Путеки, делили последнюю еду с русскими солдатами.
Однако через несколько недель мы стали смотреть на них более критически. Их армия была невероятно бедной, изнасилования не были редким случаем. Они питали особую страсть к наручным часам и вообще ко всему, что можно было взять с собой.
Погода стояла холодная, грязный снег превратился в месиво, обувь и одежда постоянно была мокрой. Конвои Красной Армии вечно застревали, офицеры орали, шоферы ругались, моторы ревели, а поляки, разинув рты, смотрели на эту демонстрацию военной мощи. Не весь транспорт вез военное снаряжение. Я ясно помню грузовики ЗИМ, доверху забитые гардеробами, буфетами, комодами, коврами и зеркалами, и толстых, пользовавшихся дурной славой женщин-солдаток, которые, взгромоздившись на самый верх, охраняли добычу.
[...] Советские солдаты хорошо обращались с детьми, делились с ними своим пайком, а когда в Кракове после ухода немцев настал голод, устроили передвижные столовые, в которых кормили супом. Достать еду было практически невозможно. Так близок к голодной смерти я еще ни разу не был за все время войны.
Русские принесли с собой броскую пропаганду своей идеологии – не только плакаты с изображением Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, но и их огромные алебастровые бюсты. Они построили обелиски с красными звездами и надписями, воспевавшими героизм их солдат. Все было рассчитано будто на детей, и действительно производило на них впечатление. Еще не зная, что такое коммунизм, я уже стал его сторонником.
Я помчался смотреть первый в своей жизни советский фильм. После того как я столько лет слушал немецкий, русский язык показался мне непривычным, а сюжет непонятным: солдат героической Красной Армии оказался в тылу врага и посылал морзянкой сообщения в штаб.
Как только немцы эвакуировались из Кракова, все население принялось мародерствовать: хватали еду, одежду и – обязательно – оружие. Месяцы и даже годы после войны многие поляки ходили в немецких шинелях. Больше надеть было нечего.
Я стал мародером особого рода. В первую очередь меня интересовало все, что взрывалось. [...] Как раз напротив дома Путеков находился немецкий склад. Оттуда мы тащили винтовки, пистолеты, коробки боеприпасов. Из немецких осветительных снарядов получался великолепный фейерверк. У основания нужно было просверлить отверстие, засунуть туда запал, поджечь его и быстренько смотаться. Как-то раз только я поджег запал посреди пустой улицы, как неизвестно откуда на велосипеде выехал русский солдат и заметил снаряд. Он помедлил, соображая, с какой стороны его лучше объехать, но в конце концов с проклятьем свалился, когда снаряд взорвался. Я бросился наутек. Вскоре, однако, меня поймали и отвели в полицейский участок. При обыске у меня в кармане обнаружился взрыватель от гранаты. Я здорово влип. Я назвал полиции вымышленные адрес и фамилию, дрожа, как бы они не вздумали отвести меня туда для проверки. Но они не стали утруждаться. Меня отпустили.
Я был не единственным юным поклонником пиротехники в городе. На окраинном пустыре ребята подожгли запал, прикрепленный к нескольким ящикам кордита, и бросились в укрытие. Однако оно оказалось недостаточно далеко. При взрыве, который слышно было за многие мили, образовалась воронка в несколько футов глубиной, и все они погибли.
Мы отправились осмотреть место происшествия. Мужчина вез что-то на тачке. Сверху она была покрыта старым мешком. «Хочешь взглянуть на моего сына? – бесстрастно спросил он и приподнял краешек мешка. – Ноги не хватает, – добавил он. – Если найдешь, дай знать».
Потом, обследуя местность, мы наткнулись на часть детской ноги, заляпанной грязью.
Пыла у меня после этого поубавилось, но все же я вознамерился испробовать немецкую гранату, вытащил чеку и швырнул ее через стену. Шли минуты, но ничего не происходило. «Наверное, осечка», – решил я. Я еще немного помедлил и пошел проверить, почему граната не взорвалась. В этот момент раздался взрыв. Это окончательно излечило меня.
Метек в моих вылазках не участвовал. Путеки решили, что я плохо влияю на него. Соучастником моих преступлений был Крупа. В основном все мои находки были как-то связаны с пиротехникой, но обнаружил я еще и несколько немецких печатей. Мне от них никакого проку не было, а вот деятелей польского черного рынка они очень заинтересовали, и те заплатили за них на удивление много. Мое недоумение по поводу того, зачем они им нужны, продолжалось недолго.
После освобождения никакой узаконенной валюты не было, и в то время как раз выпускались первые банкноты: каждому полагалось по 500 злотых при предъявлении немецкого удостоверения личности kennkarte. Вместо квитанции на карточке ножницами вырезали орла «третьего рейха». Мои печати, должно быть, позволили подделать на черном рынке не одно удостоверение. Доход от сделки я передал пани Путек, чтобы она купила еды. Когда мы съели последних кроликов, которых раньше выращивали, нам пришлось есть припасенные для них хлебные крошки.
С одеждой дело обстояло почти так же плохо, как с едой. У меня в то время экипировка была удобной, но эксцентричной. Я нашел рабочий комбинезон. Брюки были слишком длинными, поэтому я подогнул их так, что получились носки, а концы все равно торчали из моих огромных ботинок. Хоть ногам в этой обуви было не слишком удобно, я гордился своим «военным» видом.
Немцы оставили мне кое-что на память. Как-то поздно вечером – наверно, уже после двенадцати – я встал в туалет. Когда я зажег свет в ванной, я услышал гул самолета. Правило светомаскировки все еще оставалось в силе. Я подумал, что надо бы опустить ставни, но окошко выходило на узкий дворик, да и подойти к нему я в тот момент не мог. Как раз когда я шел обратно в кровать, меня бросило прямо на стеклянную дверь ванной. Я приземлился в коридоре.
В воздухе стояла пыль. Я ее не видел – в квартире было темно, как в могиле, – но я чувствовал носом. Мы окликали друг друга в темноте, с радостью убеждаясь, что все целы. Потом на ощупь стали пробираться в бомбоубежище, опасаясь, что лестница разрушена. Только оказавшись в подвале, я заметил, что истекаю кровью. Левая рука была сильно порезана – осколком стекла вырвало кусок мяса. Утром на следующий день я несколько часов провел в коридоре местной поликлиники. По наивности я думал, что виноват в единственном налете немцев на Краков после их ухода. Всего было сброшено три бомбы: одна на бывший немецкий склад, одна на пустырь, где я упражнялся с гранатой, а одна на соседнее здание.
Сразу же после освобождения я наблюдал некоторые вещи, на которые смотрел не только с недоумением, но и со стыдом. На улицах оставались трупы немцев, и поляки оскверняли их, справляя на них нужду или засовывая пустые водочные бутылки между ног.
Бродя по пустому чердаку, я наткнулся на тайник с целой кучей резиновых фигурок, изображавших сказочных героев вроде Белоснежки. Недавно как раз вновь открылся самый известный в Кракове игрушечный магазин «Филоус», и я отнес хозяйке несколько образцов. «Сколько их у тебя и что ты за них хочешь?» – спросила она.
«Полно, – ответил я и указал на витрину, – а хочу я вот это». Так я получил свой первый эпидиаскоп. Это была простая картонная коробка с линзой и креплением для лампы. Я все занимался этой штукой. Никто, даже Метек, не понимал моего пристрастия к ней.
А тем временем его родители предоставили меня самому себе. И вот однажды, когда я уже начинал наслаждаться свободным житьем под именем Романа Вилка, я услышал возглас, которого давно страшился: «Ремо!» Это был мой дядя Стефан, который заметил меня на улице.
Двоим из трех дядек со стороны отца теперь предстояло сыграть важную и не очень приятную роль в моей жизни. Младший из них, Стефан, большую часть войны скрывался в комнате в Кракове. За ним смотрела Мария, на которой он женился в гетто и которой, благодаря своей арийской внешности, удалось раздобыть фальшивые документы. Средний брат Давид, муж Теофилы, дочери пекаря, уцелел во время депортации, став капо в концлагере. Старшему, Бернарду, которого я больше всех любил, не повезло. Вскоре мы узнали, что он погиб – его насмерть забил капо, размахивавший стулом.
Дядя Стефан настоял, чтобы от Путеков я переехал к нему. Я без особого восторга подчинился. Многое из того, что мне пришлось пережить за эти четыре года, я никому не мог поведать, а уж ему тем более Я снова превратился в одиннадцатилетнего мальчика, который должен был подчиняться семейной дисциплине.
Из-за того, что я не ходил в школу, на меня смотрели как на дефективного. Дядю Стефана поразило мое невежество, и он попытался записать меня в школу, но поверхностная проверка показала мою полную неосведомленность в вопросах польской литературы и истории, не говоря уж об алгебре и геометрии.
Наконец мы узнали, что немцы капитулировали. Сигнальные ракеты и трассирующие пули прорезали небо, когда русские и польские солдаты устроили салют. [...]
Возрождались или заново создавались всевозможные организации. Мне нужно было куда-то присоединиться, и я записался к бойскаутам. Заполняя бланк, я написал: «Вилк, Роман». Помедлил на пункте «религия», потом написал: «Католик». Дело было не только в том, что моя настоящая религия могла бы помешать моему членству. Я просто чувствовал себя именно Романом Вилком, католиком. [...]
Отношения с дядей Стефаном становились все хуже и хуже, так что в конце концов тетя Теофила и дядя Давид взяли меня к себе. Втроем с семилетней дочкой Ромой они жили в тесной квартире вместе с целым семейством Горовицев. [...] Дядя Давид вновь открыл свой магазинчик, где продавалась сантехника и слесарный инструмент. Дела шли хорошо, ведь после войны нужно было много строить, и меня взяли помогать ему за прилавком. Я сразу стал великолепным продавцом и наслаждался жизнью, пока дядя Давид не занялся побочной деятельностью. Он закупил пластмассовые обложки для удостоверений личности и послал меня торговать ими на улице. Мне не нравилось таскать их на подносе и унизительно было предлагать ненужный товар равнодушным прохожим. [...]
Когда взрослых не было дома, я возглавлял театральные представления, которые мы устраивали с остальными ребятами. Превратив опрокинутый гардероб в сцену, мы одевались во взрослую одежду. Еще мы подобрали бездомного щенка, который потом исчез. Дядя Давид вроде бы тоже помогал искать его, но одна из девочек сказала, что он утопил его в реке, потому что в квартире и так тесно.
[...] Возможно, меня стимулировал вид собственного обнаженного тела, когда я раздевался в ванне после многих лет, проведенных в домах, где о ванных даже не слыхали, но так или иначе я узнал, что такое мастурбация. Это немного просветило меня по поводу того, почему взрослые поднимают такой шум вокруг секса. Беда в том, что я счел это занятие собственным изобретением, так что удовольствие портило сознание глубокой вины. [...]
Однажды один из уцелевших заключенных Маутхаузена привез весточку от отца. Я даже не помнил его почерк, да и вообще это было так хорошо, что даже не верилось, и я не расставался с запиской. Воспользовавшись случаем, дядя Давид попробовал объяснить мне, что мама не вернется. Я выслушал его, но в душе не поверил.
А однажды вечером, придя домой из магазина, я услышал на кухне до странности знакомый голос. Это был мой отец. Он пил водку с дядей Давидом и выглядел даже моложе, чем мне помнилось. Я бросился к нему с воплями радости, и он посадил меня к себе на колени. Столько времени меня никто так не ласкал! Несмотря на переполнявшую меня радость, я почувствовал себя неловко – я был уже слишком большой, чтобы сидеть на коленях. Почему-то я не смог рассказать отцу о Путеках, Бухала и жизни в Высоке. Мне хотелось забыть все это, к тому же я слишком стеснялся, чтобы объяснить ему, что чувствовал, как скучал без него и матери.







