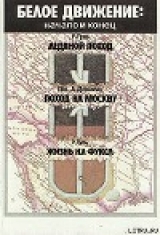
Текст книги "Жизнь на фукса"
Автор книги: Роман Гуль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Я гимназистка шастого классу,
Пью денатурку заместо квасу, все знали, что Жигулин веселится, хлеща с Червонцовым денатурат с плавающими перчинками.
– Алеша – ша! Вазьми палтоном ниже! – это отвечает ему высоким тенором военный чиновник Червонцев.
Посылки Антанты
Люди одинаковой профессии понимают друг друга взглядом глаз. Французские генералы, сидевшие в Берлине, прекрасно переглянулись с Клюкки фон Клюгенау. Он – начальник лагеря. А живущих в нем – Антанта берет на содержание. Она присылает оставшееся от войны обмундирование. Для каждого – недельную съестную посылку.
– Вы ж, мсье колонель, поддержите среди чинов дисциплину-они вскорости поедут бороться за Российское Учредительное собрание.
Разве не хороши съестные пакеты – с шоколадом, белыми галетами, жидкостью от клопов, вареньями, печеньями корнбифами, ревенными лепешками, плюм-пуддингами, порошком от блох, мылами и нежными письмами английских мисс к бравым бобби? Очень хороши!
А в голодной Германии они были силой, гипнотизирующей и покоряющей все. Кусочек английского мыла? Да знаете ли вы, что за него можно получить?
В ответ на протест клаустальского магистрата против разврата находящихся в лагере русских комендант лагеря отдал приказ. В приказе комендант писал о случаях, когда "наши немецкие женщины, о которых даже нельзя было этого думать,-отдавались иностранцам за кусок мыла и десяток галет".
Дураки сидели в магистрате. И глуп был комендант. Кусок мыла и десять галет в 1919 году равнялись самой невозможной мечте. А разве грех за осуществление мечты заплатить тем, чем можешь?
В Берлине в 1920 году женщина холодно отдалась за коробку фиников. И когда мужчина встал, она, забыв его, быстро убежала с коробкой, счастливая. Надо помнить, что бреду величия нанес серьезные раны не только Дарвин. Наши дни ежеминутно дают материал, не делающий человека слишком сложным животным.
Хлебороба Кривосопа захватили в Клаустале в постели с двумя женщинами. В лагерном бараке полиция вместе с мужем искала сбежавшую жену. И она была найдена в шкафу комнаты подпрапорщика Нескучайло
Сбылось несбыточное
Даже вартовый Пузенко из Кобеляк и тот был счастлив в горах Гарца, оставив в моей памяти подробную запись его романа.
В прачечном заведении Клаусталя жила поденщица Иоганна Шпрух. Было ей лет за сорок. Опасный возраст женской осени. Но так как Иоганна была на редкость коротконога, широка в костях и безобразна лицом, то стирала она белье и любви ни от кого не знала. Конечно, не то чтоб была она девицей. Но разве это любовь? Иоганну никто никогда не поцеловал. А любви ей хотелось так же, как королеве румынской и Саре Бернар. На помощь Иоганне пришла Украинская Народная Директория и Высшее Германское Командование в Киеве. Это они выслали вартового Пузенко из Кобеляк – в горы Гарца. И здесь грозой разразилась любовь.
Когда я был маленьким – я не любил читать. Я начинал, но, если книга меня не увлекала, я бросал ее под стол. И, ходя из комнаты в комнату, говорил родителям: "мне скучно – что же я буду делать?"
Не уважая книг, я не понимал, для чего у отца в кабинете стоит громадный шкаф, наполненный никчемностями. Отец мой был нотариус. Его юридическая библиотека повергала меня в тоску. И когда я проходил мимо нее, мне становилось особенно "скучно".
Однажды, подойдя к шкафу, я вытащил беленькую книжку, показавшуюся аппетитной. На книжке стояло: "Процесс Кудриных". Это мне понравилось. Я раскрыл. И прочел ее вприсест, потому что она меня напугала. Процесс Куприных был процессом скопцов. Мне стало необычайно страшно. Я чувствовал, что чего-то никак не могу понять. Теперь я знаю. Я не понимал, почему люди себя оскопляли – зачем? И это стояло передо мной – ужасом. Кудрины воплотились в воображении – безобразным, желтым, безволосым лицом.
Когда я впервые увидал вартового Пузенко – я вскрикнул про себя: "да это же процесс Кудриных!"
У Пузенко было желтое, безволосое, полуидиотское лицо. Глаза странно подмаргивали в стороны. Голос – тонкий, как у бабы. А тело – крепкое, на кривых ногах.
Отвратительней вартового Пузенко господу богу было трудно придумать. Но именно для него он и создал Иоганну Шпрух в Клаустале.
Их любовь была материалом хохота. За их свиданиями (на которые Пузенко хоть скупо, но носил гостинцы Антанты) – следили Пузенкины товарищи. В обмен на гостинцы Иоганна приносила Пузенке – выстиранные исподники и портянки. Все шло лирически. Горе было только в том, что говорить они не умели. Разговор двух душ – был нечленоразделен.
Прижав Иоганну в темноте у решетки лагеря, Пузенко силился ей что-то рассказать. Он набирал воздуху сколько мог. Тыкал себя в грудь и говорил с страшной натугой:
– Ых.
Потом тыкал в грудь Иоганну и, опять набирая воздуху, говорил ей:
– Ду.
Потом Пузенко фыркал, взвизгивая смехом, и неизвестно зачем заливал диалог кобелякскими матюками.
Так любили. Так страдали. И были счастливы. Товарищи приставали к Пузенке, что он пудрится пудрой из английской посылки, уходя на свидание. Пузенко кричал на них тонким голосом:
– Та идыте к бису – та я ж не кудрився! Не одна фрау Кноспе горько плакала на вокзале, провожая Жигулина, оставаясь вдовой. Еще горше плакала Иоганна Шпрух, в рыданиях понимая горе фрау Кноспе. И доказывая, что я совершенно напрасно вспоминал о процессе Куприных. Но Пузенко был нужен Англии. Пузенко был нужен Франции. Пузенко был нужен Российской Конституанте. И он уехал бесповоротно.
Поэма экстаза
Посылки Антанты сделали "Гостиницу Павлиньего озера" оазисом голодной пустыни. В гостинице шла мена, купля-продажа, спекуляции оптом и в розницу. Гостиница цвела. Денатурат сменялся коньяком сокровенных клаустальских погребов. И многие ощущали в себе прелестную коньячную свободу воли.
Да и что же человеку, повисшему на канате в воздухе, делать, как не постараться забыть на минуту, что он – в воздухе – на канате. Ведь идет дождь. Не завтра, так через месяц канат перегниет. А человек не птица, не парашют, не самолет.
Не пили только белые вороны. Кружок техников организовал курсы десятников. Матунько составил чудный украинский хор. И когда хор пел "Як умру, так поховайте" – у немцев захватывало дух, и на глазах навертывались слезы. Большинство – зажмурив глаза от канатной бездны, заливало их коньяком.
Крестовоздвиженский по-прежнему играл с полковником Кукушкиным. Теперь игра шла в астральный мир. В комнате полковника во время войны повесился французский лейтенант Морис Баярд, не выдержав плена.
Ночью у Кукушкина сидел Крестовоздвиженский. Блюдце бежало по разлинованному листу, говоря: "Святые отцы молятся о вас и России – молитесь обо мне и Франции. Морис Баярд". За блюдцем крутились столы, кровати, стулья. А поутру полковник Кукушкин находил под подушкой странные письма, которые, таинственно улыбаясь,– убегал читать в лес за озеро.
По фронтовой привычке пьющие открыли – шмен-де-фер.
И в этой комнате – большой, квадратной, хорошо освещенной – царствовала даже не демократия. А – разумная анархия.
За круглым столом, рядом с блестящим интендантским генералом Любимским в полной форме и с ленточками орденов,– сидел вартовой Пузенко с другом Юзвой. Сидел александрийский гусар смерти 27 ротмистр Кологривов. Капитан Саратов в костюме французского матроса. Вольноперы 28. Прапорщики. И тот самый артиллерист Калашников, который так стоически перенес взрыв в музее.
Банк метал генерал Любимский.
– В банке,-сто,-он сжимает колоду когтистыми пальцами.
– Ва-банк.
– Бита. В банке – двести,– не волнуясь, говорит генерал.
– Крою во вись,– дрожит Юзва.
– Та ж Юзва – державня варта! – заливается скопчески Пузенко.
– Ваше,– холодно кладет карты Любимский.
В комнате клубится английский табак. За окном начинает голубеть рассвет. Генерал Любимский с ненавистью смотрит на кургузые пальцы Юзвы – мечащие банк.
А в зале, где днем стоят обеденные столы, где устроена едена,– в углу прижался разбитый "бехштейн". За ним, со свечой – худенький брюнет в полутьме играет скрябинскую "Поэму экстаза". Его фамилия – неизвестна. Все называют его – паж. Он очень молод, нервен, красив. И любит только музыку. Но в "Гостинице Павлиньего озера" нет нот, кроме марша "Фридерикус рекс". А паж на память играет только "Поэму". И когда одни спят в коньяке – другие бьются в шмен-де-фере, паж ночь напролет играет "Поэму экстаза", и под пажескими пальцами "бехштейн" вспоминает лучшие времена.
Он звучит в эту лунную ночь прекрасно. По крайней мере, мне так кажется из барака. А может быть, это просто – бессонница.
На брокен по тропе Гете
За обедом рассказывали новости.
Ночью, поссорившись за картами, Саратов вызвал Калашникова стреляться из винтовок, сходясь на сто шагов по клаустальскому шоссе – заложив в магазин по обойме. Кто-то с большим трудом помирил их бутылкой спирта.
Другая новость: Клюкки фон Клюгенау выбирает позиции, потому что из Брауншвейга идут спартакисты.
На рассказавших я смотрю с недоумением. Вы думаете– они ненавидят спартакистов классовой ненавистью и будут биться с ними насмерть? Ничего подобного. Они пойдут биться неохотно – потому что едят же они посылки Антанты, приказал же идти Клюгенау.
Они неплохие солдаты. Но мне жаль, что у них плохая палка. Дайте им хорошую. Возьмите их в Красную Армию, прикажите им бесповоротно – они пойдут туда, куда скажет Ворошилов. И умрут вовсе не трусами.
Дурачок Клюкки с немецким комендантом действительно гуляют возле лагеря, выбирая позиции. Они даже смотрят в бинокль. И указывают на складки местности. Не понимая шутки, пущенной остряком.
Через день мы ушли в небольшое путешествие. Я, брат и Андрей Шуров шли мягким шоссе. Смотрели на прекрасные виды. Заходили в деревенские ресторанчики. Говорили о глупости Клюгенау. О том, как хороша горная цепь Ауф дем Аккер и до чего уютна деревушка Рифенсбек.
В ней, в старом гастхофе мы пили желудевое кофе и ели свои галеты, напряженно изъясняясь с старушкой в белой наколке. Она спрашивала, когда же вернется из Сибири ее пленный сын? Мы сказали, что скоро.
– Может быть, господа хотят сыграть на клавикордах? Клавикордам 200 лет. Я тыкаю в них "Стеньку Разина", но они не звенят песней Садовникова. Я думаю: "умирайте, милая старушка в белой наколке, ваши клавикорды не звенят, и вы не дождетесь сына из Сибири".
Мы переваливаем через Ауф дем Аккер. На другой день идем долинами Южного Гарца, перемежающимися с лесами, полями. Уже весна. Цветут подорожные каштаны. Душит дурман белой акации. Это лучше резкости Северного Гарца, от воздуха которого того и гляди лопнут легкие.
Идем мы не к немцам. Идем– к русским. В русский лагерь – настоящих, неслучайных эмигрантов. Там живет мой однополчанин по мировой войне, и я хочу с ним поговорить. Его зовут Анатолий Гридин. Он очень хороший, но нервный человек. Каким образом попал он в Германию – я не знаю.
И тем интереснее встретиться.
Когда мы вошли в здание лагеря, я спросил Анатолия Гридина, указывая на стоявшие в вестибюле палки:
– Анатолий, что это у вас за бамбуки?
– Это – кавалерия,– отвечал Гридин.
– Какая ж кавалерия – это бамбуковые палки?
– Нет – это для кавалеристов, по приказанию генерала Квицинского.
– Так это – лошади?! – вскричал я в восхищеньи.
– Нет – это пики,– сказал Гридин.
Генерал Квицинский умер в Швеции подмастерьем сапожника средней руки. Он не наворовал денег. Поэтому обойдем его молчанием. Хотя кавалерия бамбуковых палочек на полях Южного Гарца приводила в великое изумление туземцев.
В этом лагере была железная дисциплина. Если, например, рядовой эмигрант сидел без штанов. Он не просил штаны. А – подавал рапорт. Начальник накладывал резолюцию и посылал рапорт генералу Квицинскому. Эмигрант все еще ходил без штанов. Генерал не прикрывал наготу эмигранта. Он резолюцировал: "выяснить успехи данного чина в строевых занятиях". Начальник отвечал письменно: "успехи в занятиях нахожу недурными". И генерал Квицинский разрешал эмигранту надеть английские штаны.
Глупость лагеря стояла колом. Когда-то умный Гридин ничего не понимал из того, что я говорил ему. И я в грусти пошел на Брокен, по тропе Гете. Гридин же вскоре умер среди банд Юденича – от тифа.
Но и на Брокене было скучно. Стоит ресторан – большой-пребольшой. В ресторане за баром хозяин – толстый-претолстый. На весах-автомате можете в точности узнать свой вес. Вот вам и вершина Гарца, Фауст с Мефистофелем.
По тропе Гете мы пошли вниз с горы. Была ночь. Была темь. Где-то опять кричал филин. Через шесть часов мы устало подошли к "Гостинице Павлиньего озера", где паж играл "Поэму экстаза", Жигулин с Червонцовым изображали спиртовку, а генерал Любимский хладнокровно понтировал.
Кого мне было жаль
Чем чаще Клюкки ездил в Берлин, тем яснела явственней судьба клаустальцев. Русская военная миссия, в лице ген. Хольмсена, ген. Минута, полк. Сияльского и фон Лампе, столковывались, кому в первую очередь продавать товар. Англичане платили хорошо. И французы недурно. Бермонд 29 – меньше, зато дело под рукой. И военная миссия по-соломоновски поставила – всем продавать!
Первыми пошли партии в Нью-Маркет, в Англию. Путешествие было с комфортом. Вагон 1-го класса. Даром раздают коктайль. Всех пододели в. английскую форму. Это не голодная Германия – а державы-победительницы! Господин поручик туманно глядит в окно. Мимо него синей птицей летит Бельгия. За ней – Ла-Манш, Нью-Маркет. Туманный Лондон.
Королевский прием с великолепным пуддингом. Далее – третий звонок и: "Я берег покидал туманный Альбиона". Морская прогулка с английскими пулями за Российское Учредительное собрание.
Англичане в тылу "занимаются" лесом. Клюкки с Хольмсеном и Сияльским едят в Берлине бифштекс с яйцом. Уж казалось бы – ясно. И все же 500 человек едут в Нью-Маркет, сами о себе напевая:
Солдат – российский,
Мундир – английский,
Сапог – японский,
Правитель – омский.
Когда лист записей в армию принесли в нашу комнату, в графе "куда едете" мы написали: "остаемся в Германии".
– Что это значит? – спросил меня Клюкки.– До каких же это пор? А родина? Вы осмеливаетесь забыть родину и не повиноваться начальству? Вы говорите дерзости, и я донесу о вас в Берлин.
Под немецким небом мы оставались впятером. Мы рассуждали так: не иголки, не затеряемся. Откроется граница – вернемся домой. А "Гостиница Павлиньего озера" – скатертью дорога.
Но некоторых было мне жаль.
Жаль было одаренного, рыжего Бориса Апошнянского – лингвиста, студента, востоковеда. Он еще больше меня любил путешествия. Совершенно не обращая внимания на сопровождающие их приключения. Он ходил по Клаусталю с грязной, дымящейся трубкой. Любил пенье. Не имел музыкального слуха. И всегда пел две строки собственного экспромта на мотив вальса "На сопках Маньчжурии".
Белеют дома в украинском стиле барокко...
Или:
Дорога идет zum Kriegsgefangenenlager...* [* . . . . . к лагерю военнопленных.]
Кроме экспромтов Апошнянский знал еще армянский романс. И прекрасно рассказывал об Апошне. Политикой он не интересовался вовсе. К войне был не приспособлен. В Англию поехал потому, что "не знаю почему,– говорит,– с детства мечтаю об Англии". Я отговаривал его очень. Он понимал меня. Но интерес к Англии – был сильнее.
После того как он удовлетворил интерес, солдаты Юденича подняли его на штыки. В отступлении им было все равно, кого поднимать. А Апошнянский очень любил жизнь и очень хотел жить.
Сейчас вижу его – профессорского, грязного, без всякого слуха поющего армянский романс:
На одном берегу ишак стоит,
На другом берегу его мать плачит.
Он его любит – он его мать,
Он его хочет – обнимать.
Жаль было мне и друга Апошнянского – отца Воскресенского. Ходили они всегда вместе, и уехали вместе, и умерли вместе. Но были невероятно разные люди.
Назывался Воскресенский "отцом" потому, что был сыном сельского священника, происходил из коренного духовного рода. И сам всех всегда называл "отцами". Такая уж была поговорка. Был он семинарист. Все дяди его были монахами, священниками, диаконами. А один даже – архиепископом. И, умерши, этот архиепископ оставил ему – драгоценную митру.
В киевскую авантюру "отец" попал столь же случайно, как Шуров, Апошнянский и я. Был он очень труслив, скуп. И любил говорить о двух вещах: "о русских дамочках" (немок "отец" отрицал категорически) и о драгоценнейшей митре.
– Ты, слышь, отец, ты не знаешь, какая у меня в Киеве митра осталась.
– Какая?
– Ка-ка-я,– растягивал Воскресенский,– драгоценнейшая, говорю, митра. Какие у архиепископов-то бывают. Она, отец,– тысячи стоит.
– Брось врать-то – тысячи!
– А ты не "брось" – верно говорю. Приедем в Киев – покажу.
– Что ж ты ее, продавать, что ль, будешь?
– А что ж – конечно, продам. Как драгоценность продам. Ведь я же по светскому пути иду.
– Ты не зарься, отец, на митру,– бунит Апошнянский,– ее давно командарм носит.
– Командарм! Тысяча человек не разыщут! Она скрыта от взоров – в укромнейшем месте.
Не довелось отцу Воскресенскому отрыть свою митру. Вместе с Борисом Апошнянским убили его солдаты в Прибалтике, отступая от Петрограда.
Еще жаль мне было и братьев Шуровых. Братья любили друг друга. Андрей ехал со мной из музея. В прошлом – ссыльный, анархист. Теперь – большевик. В музей попал – с улицы. Из музея – в Германию.
Яков приехал добровольно. Был он гренадерский поручик. В Германии встретились случайно. Жили дружно. Но Яков уехал в Англию.
– Что же ты, Яков, едешь в Нью-Маркет?
– Еду.
– Ну и езжай к... матери!
Перед отъездом Яков пил с товарищами в ресторане, бил посуду, плакал, качал пьяной головой и все говорил:
– Я думаю, все-таки еще можно спасти Россию...
Чемоданы английской кожи
Письма офицеров из Нью-Маркета писались по штампу. Об Учредительном собрании слов не было. Но желтые чемоданы английской кожи – были обязательны. Почему они так пленяли воображение-тайна. Но с них все начиналось. Далее уже шли "коктайли, английское сукно, кэпстен, лондонские мисс, трубки, сода-виски", в которой Жигулин отрицал первую часть и пил вторую, за что англичане бравого русского бобби любили, так же как немцы.
Лагерь опустел, как кладбище. Опустел и Клаусталь, к удовольствию магистрата. Мы впятером ходили по нему. И судьбы не знали.
– Мейне геррен, я не могу вас больше кормить,– разводил руками комендант,почему вы не едете спасать вашу родину?
– Мы не любим Антанты, герр гауптман,-говорили мы.
Комендант расцветал.
– О, тогда я вас понимаю – вы хотите ехать в Балтику к генералу Бермонду-Авалову и к нашему знаменитому фон-дер-Гольцу?
– О да, мы знаем генерала фон-дер-Гольца. Он – умный. Он написал интересную книгу о военной психологии. И вероятно, поэтому произвел капельмейстера Бермонда в генералы. Но...– смеялись мы,– разве вы не находите, герр гауптман, что климат Гарца – приятней Балтики?
Вскоре немцы перевели нас в лагерь Нейштадт.
ОБЛОМКИ РАЗНЫХ ВЕЛИЧИН
In recto decus
В душных сумерках воздух пари от дурмана лупинуса, духа ржи и пшеницы. Я медленно иду на гору – к руинам средневекового замка князя Штольберга. Хочу его осмотреть.
Мох обвил ноздрястые каменные руины Гонштейна. Так называется замок. Обложил своим мягким ковром разбитые комнаты. Замку – 1000 лет. Я узнаю это: на выбитой железной доске стоит год основания– 1100 пост Христум натум. А под годом высечен средневековый девиз гордого князя Штольберга – "In recto decus". "В прямоте – красота".
Так думал тысячу лет назад феодал, смотря из каменных стен Гонштейна на раскинувшиеся угодья, ушедшие к синеющим горам Тюрингии.
В 1200 году замок разрушили восставшие крестьяне. Князь наказал рабов. Но Гонштейна не восстанавливал. Переехав в другое горное гнездо. Ибо принадлежал князю весь Гарц.
Древний старик сидит на мшистой приступке башни. Мне кажется, что ему тысяча лет и что он знал древнего феодала. Но он говорит о бездетности последнего Штольберга. И о том, что он застрелился на памяти старика.
– Отчего ж это он?
– Не везло ему в жизни,– шамкают старые щеки. С замковой горы не окинуть глазом цветной панорамы окрестности. Тюрингенские горы синеют вдали. Сейчас их плохо видно. С полей подымается туман, играя переливами опала.
Аромат лупинуса становится невыносим. И я ухожу – в Нейштадт.
Тихи нейштадтские вечера, как мертвые. За горой гаснет краем кровавого глаза солнце. Из-за другой ползет желтый рог луны. В сумерках идут с полей розовые ардены. Везут крепкие рыдваны. В широкополых шляпах и деревянных туфлях идут загорелые нейштадтцы. Когда они подойдут к белым домикам, тишина замкнет засовы и захватит деревню, разливаясь по ней широкой волной.
Русских в Нейштадте – 30 человек. Это остатки. Они ждут отправки в Англию. И сидят на пороге лагеря. Говорит капитан-пограничник:
– Ну, стало быть, налетаем это мы, ведем его, голубчика, тут же в хату, а там у нас мешочки такие с песком – и уж вы поверьте честному слову, ни один профессор не определит – разрыв, мол, сердца – и концы в воду.
Капитан крепко раскуривает английскую трубку и улыбается в ее огоньке.
– Надо знать пограничников, ха-ха-ха!-внезапно хохочет капитан. Смех его неопределенен. Смех – помешанного. Я понимаю – капитан нездоров. И он странен в нейштадтском вечере.
– Чего же, собственно, вы хотите и чего не хотите? – в этих же сумерках спрашивает нас генерал Тынов.
– Не хотим участвовать в гражданской войне.
– А вы представляете, что из этого выйдет? Вас никогда же не впустят в Россию. Иль вы думаете, когда мы придем в Москву, мы дадим амнистию? Ошибаетесь...
Бедный старичок! Он сидит в Константинополе чистильщиком сапог. И не верит, что когда-нибудь его впустят в Россию. У нашего времени – зубы молотильного барабана. Попадешь под них, сломает, выбросит – сдыхай.
Трудно чистить чужие сапоги. Генералу Тынову у проливов трудно чистить в особенности, ибо проливы хотел генерал присоединить к Российской империи.
Я у ген. Минута
Железные дороги Германии прекрасны. Германские поезда не ходят – летают. И какая красота, когда под стеклянный купол грандиозного вокзала в Лейпциге на десятки платформ вплывают шнельцуги.
Поезд 1919 года, в котором я ехал в Берлин, шел славянски мучительно. Дергал. Лязгал. Крякал. В вагоне ходили сквозняки. Германия была еще под блокадой.
В Берлине не было немецких офицеров. Ходили французские, приветствуя английских. И странно было мне идти по этому городу – в военную миссию, давать объяснения моему отказу ехать на фронт русской гражданской войны.
Но я люблю видеть разных людей. Люблю толковать с ними. И я шел даже с удовольствием. Хотя одет я был странно: в одеяле.
Конечно, не наподобие тогообразно закутанного римлянина.
Нет. Из краденого немецкого одеяла деревенский портной сшил мне шапочку без полей, курточку и короткие штаны (длинных не вышло). Обмотки кто-то подарил. И я выглядел весело и изящно.
Учреждение, в котором на деньги Антанты сидели русские генералы, помещалось на Унтер-ден-Линден, 20, в хорошем особняке. Когда я вошел в приемную – шла прекрасно поставленная сцена.
Чиновник, с моноклем и пробором меж реденьких черных волос, сидел в приемной. Он принимал. Перед ним гудели военнопленные с коричневыми нашивками на рукавах – знаком, чтоб не убегали.
– Ну что ж, мужички, на родину?
– Знамо – на родину.
– Куда ж вы – на юг, на север?
– Да кому куда, мы – рязанские.
Чиновник улыбается холодными складками лица:
– В Рязань, мужички, не могу. В Орел – тоже. Я вас в Одессу запишу.
– Какая же Одесса, когда мы – рязанские.
– Не могу, мужички. Может, в Архангельск, а там уж увидите?
– Да как же... Да что же... Я прошел в комнату генерала.
– Садитесь.
Сел. Передо мной – письменный стол. За столом – черная визитка. Это и есть генерал-майор Минута. Лица у визитки нет. Генеральское клише без признаков растительности. И два стеклышка на золотой скрепке.
– Чем вы можете объяснить нежелание ехать на защиту родины? Казалось бы странным. Я не хочу о вас плохо думать.
Я объяснил, что, во-первых, "убивать вообще" – не моя профессия, во-вторых – белых слишком хорошо знаю, в-третьих, знаю и то, что иметь свои убеждения роскошь, за которую надо дорого платить.
Стекла пенснэ похолодели. Грудь визитки раздулась. А спина откинулась и легла на спинку стула.
– На ваше заявление об отказе ехать на фронт я наложил резолюцию. С сего числа вы лишаетесь всякой поддержки русского Красного Креста, включая сюда и довольствие. Можете идти.
Это было логично. Я вышел в приемную. Тут все еще возбужденно гудели военнопленные. А чиновник улыбался, предлагая им юг и север.
Пусты улицы Берлина. Я иду по ним. Обдумываю – как мне быть?
Вскоре немцы перевели нас – в Гельмштедт.
Как шумят немецкие липы
Самым интересным в лагере Гельмштедт был заведующий капитулом орденов, камергер двора его императорского величества – Валериан Петрович Злобин. Аристократически согнутый. Редкая седая растительность. Выдающаяся нижняя челюсть. В прошлом В. П. Злобин был близок к царю. Он ходил с палочкой, небольшими шажками. По-старчески много говорил. И часто играл на дребезжащем беженском рояле.
Со всех сторон гельмштедтский беженский дом обступили старые липы. Липы шумели старым парком родового именья. И если б на кухне герра Гербста не кричали немецкие судомойки, можно было бы вообразить себя в русском парке.
Герр Гербст – хозяин беженского дома – очень толст. Низко кланяться он вообще не может, даже камергеру Злобину. Хотя герр Гербст и не старается. Потому что какой же в камергере толк, если он стоит в кухонной очереди за кружкой капустного супа, сваренного кухаркой герра Гербста. Герр Гербст крутой человек. Знает, на чем стоит мир. Он жене дает порцию картошки, а сам есть шницель.
Когда мимо него, трясясь, проходит заведующий капитулом орденов с согнувшейся к земле старушкой женой, герр Гербст гордо смотрит животом в небо.
С одной стороны беженского дома – лес сосновый. С другой – лиственный. Дом стоит на шоссе. В получасе ходьбы – городок Гельмштедт Брауншвейгской провинции. И когда надо что купить, беженцы идут туда.
Управляет беженским домом полковник Богуславский. Он раздает старое французское и английское обмундирование, кой-что из съестного, присланного Христианским союзом американских молодых людей. А если кто-нибудь подвернется подходящий по возрасту, того он направляет в армии на юг и на север.
Усы у полковника Богуславского прекрасно стоят вверх, как у Вильгельма. В голосе много металла. Роста он малого. Ходит без шпор. Но на беженских вечерах танцует мазурку в первой паре. И старушки дамы, глядя на полковника Богуславского, что-то вспоминают и, тихо улыбаясь, кивают в такт мазурке головами.
Чудесные в Гельмштедте липы. Шумящие. Развесистые.
Поэтому-то под ними и сидят беженцы.
Очень стар генерал Ольховский. Старше Злобина. Он высок, статен, типично военен. Он командовал военным округом. Ходил в большом свете. Но светск не был. Суждения его своеобразны и непохожи на суждения камергера Злобина. Он и походкой другой ходит. Не маленькими шажками, а шагом медленным и длинным, с руками на груди или за спиной.
Говорит Ольховский бодрым голосом и улыбается в седую бороду, когда с ним заговорят о России:
– Я, голубчик, не политик, я солдат. Россия какая ни будь – для меня Россия. Стар уж я, не увижу ее. Одного хочу, чтоб схоронили не здесь.
Внук Ольховского, юноша 19 лет, хочет уехать в Россию. Камергер же Злобин возмущается и, держа юношу за пуговицу, кричит о лохматых студентах, жидах, курсячках:
– Да поймите вы, молодой человек, что это все блеф! Вся эта революция жидовские деньги! А рабочий человек по самой сути своей – монархист! И никакие эти советы ему не нужны! Да-с! Представьте себе – во время работы вы к рабочему человеку с советами лезете, да он пошлет вас, куда Макар телят не гонял!
А немецкие столетние липы шумят! И несут листья по ветру длинными шлейфами. Октябрь. Осень 1919 года. С одной стороны беженского дома лес стоит багряно-красный, как пожар!
Барышни
Я любуюсь лесом, когда иду в Гельмштедт за картошкой. Немцы отвели нам в бараке комнату, но нас никто не кормит. Надо как-нибудь пробиваться. Без карточек картошку не продают. Я нашел в городе старушку, которая сжалилась однажды и, улыбнувшись в морщины, сказала афоризм, достойный Ницше: "Alle Menschen wollen leben – alle Menschen wollen Kartoffel essen" * [* "Все люди хотят жить – все люди хотят есть картофель".]
Печь в нашем бараке гудит, как автомобиль. В ней – сосновые поленья. И старушечий картофель, крутясь в котелке, готовит нам ужин.
А в соседней комнате полковник Величко кричит на француженку-жену:
– Я не могу есть без гарнира! Я не собака! Жена взвизгивает по-французски. И голос полковника переходит в приближающийся к жертве шепот:
– Не визжи – не на базаре мочеными яблоками торгуешь! По бараку бьет крупными каплями дождь, застилая толстой кисеей окна.
В другой комнате киевлянка Клавдия декламирует, заломив руки:
Я думала, что расцвели яблони,
А это выпал – первый снег...
– Вы опять, Петро, ждете, чтоб я готовила ужин? Можете не ждать, этого не случится,– это Клавдия, кончив декламировать, говорит мужу.
Клавдии 20 лет. У нее замечательные руки, похожие на лебединые шеи. У Клавдии мерцающие глаза истерички. Она умирает от тоски. И ей хочется "ударить стэком чью-нибудь орхидейно раскрывшуюся душу". Это оттого, что ее руки дрожат и ей нужен коньяк. А может быть, оттого, что год тому назад Клавдия была девочкой в матроске. А теперь в Нью-Маркете живет поручик, которого Клавдии хочется ударить не стэком, а ножом. Перед тем как люди срываются, они делают всего один шаг.
А наш поручик
От дамских ручек
В большом восторге,
Тили-ли бом!
Так поет Клавдия, когда выпьет. Она все перепутала. Она не знает теперь, где у нее правая рука, где левая, что вкусно и что нет.
– Коля, я хочу сказок! – хохочет Клавдия. Клавдия пьяна.
– Нет сказок, Клавдия.
– А я хочу! Я маленькая! У меня образок над кроватью и молитвенник на тумбочке!.. А под молитвенником?– Клавдия хохочет.-Поль де Кок!!! Это-Северянина. Вы знаете его? У него чудные стихи про яхты: "Мы вскочили в Стокгольме на крылатую яхту! на крылатую яхту из березы карельской!" – только наша яхта была совсем не крылатая, а противная, и мы садились вовсе не в Стокгольме, а в Севастополе.
У мужчин всякие раны зарастают собачьими рубцами. Женские раны не зарубцовываются. И ранить женщину – просто. Можно даже походя. Клавдия была ранена насмерть.
Когда герр Гербст звонит в колокол, значит, беженцы должны идти получать пищу к окну, ресторана. Из большого дома идут камергер Злобин, генерал Ольховский, светские старушки, дамы, дети, штатские люди, кавалеристы с розетками на сапогах, живущие на этапе в Англию, Клавдия под руку с Мощанской, упругенькая барышня Маша – компаньонка светской дамы, военнопленные солдаты, служащие уборщиками, вятский учитель Иван Романыч








