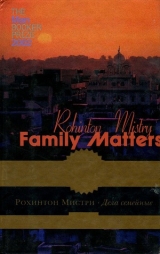
Текст книги "Дела семейные"
Автор книги: Рохинтон Мистри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Йезад понял, отчего заигрывания Вили так удручают его – кокетливые манеры никак не вязались с ее неряшливой внешностью. Не вдаваясь в подробности, он объяснил Вили, зачем пришел, но Вили утром видела «скорую» и слышала скандал в соседней квартире.
– Понимаю, Йезад-джи, – подмигнула она, – семейные свары способны из самого сильного мужчины сделать беспомощного котенка. Пошли посмотрим, что у меня найдется.
Она пошла вперед, сочувственно ахая по поводу трудной ситуации, в которой оказался Нариман. Трагическая жизнь, говорила она, припоминая гадкие подробности этой жизни. Осведомленность Вили не удивила Йезада: в общине парсов давнишний скандал получил широкую известность и обсуждался он в том же ключе удовлетворения и сочувствия, в котором сейчас высказалась и Вили.
Она остановилась перед старым комодом, полным всяческого хлама.
– Будьте как дома, мой милый, поройтесь в ящиках.
Заметив замешательство Йезада, Вили сама опустилась на колени, выдвигая ящик за ящиком.
– Между прочим, у меня на сегодня есть надежный лотерейный номер. Такой сильный сон, с такими ясными числами – давно такого не видела.
– Удачи тебе, Вили, надеюсь, сорвешь куш.
Безразличие Йезада не остановило Вили; драматически понизив голос, чтобы не ослабить мистическую силу сна, она почти набожно прошептала:
– Кошка мне приснилась. Кошка перед большим блюдцем молока.
– И вы с ней обсудили выигрышное число?
Она с жалостью посмотрела на него, продолжая выгребать барахло из ящиков.
– Смысл кошки и блюдца ясен без слов, Йезад-джи.
– Значит, телепатически общались?
Вили покачала головой.
– Кошка сидела прямо и смотрела на меня. Ее голова и туловище образовали отчетливую восьмерку.
А слева – блюдце молока. Круглое, как нуль. Значит, завтра выиграет восемьдесят.
Но Йезад вошел во вкус.
– Вили, а ты на каком языке видела сон? На английском или на гуджарати?
– Не знаю. А какая разница?
– Большая разница. Гуджаратская восьмерка, – он начертил цифру пальцем в воздухе, – совсем не похожа на кошку, сидящую прямо.
– Большой вы шутник, Йезад-джи, – засмеялась Вили, однако семя сомнения было заронено.
В комоде нашлись квадратные куски клеенки и даже кусок брезента четыре на шесть дюймов, слишком маленький – балкон не закроешь. И тут Йезад вытянул из нижнего ящика нечто кожистое, сложенное и упакованное в хозяйственную сумку.
– А это что?
– Старая скатерть. Для нашего семейного обеденного стола.
– Огромная, похоже.
– Она и есть огромная. Была. За столом с удобством размещалось шестнадцать человек.
Они взялись за скатерть – каждый со своего конца; слои слежавшейся клеенки разворачивались со звуком разрываемой ткани. Вместе с темно-зеленым рексином разворачивались и воспоминания Вили.
– Счастливые были времена, когда мы все садились за стол, покрытый этой клеенкой. Каждое воскресенье вся семья собиралась на дхансак.Папа-джи был прямо-таки фанатиком – в субботу можно было и кари с рисом подать, но чтобы в воскресенье на столе не было дхансака,так боже сохрани! Мама-джи и не пыталась. Все собирались к часу дня – дяди, тети, двоюродные братья и сестры, и такие начинались разговоры, будто мы месяцами не видимся.
Йезад думал о том, что уже поздновато, а балкон так пока и не закрыт, но у него не хватало духу прервать Вили. Ее лицо светилось счастьем.
– Папа-джи всегда сажал меня по правую руку, а моего брата Дали – по левую. По воскресеньям поверх рексиновой скатерти стелилась другая, из бельгийского кружева. Папа-джи не разрешал ставить на нее вазы или безделушки, он говорил, что преступно закрывать ненужными вещами произведение искусства. Как прекрасны были те дни, Йезад-джи. Одну минуточку, сейчас я вам покажу…
Она вернулась с фотографией в рамке: семейство из четырех человек чопорно позирует по одну сторону длинного обеденного стола. Мать, отец, двое воспитанных детей; чистенький, тщательно причесанный мальчик в коротких штанишках и рубашке с галстуком, маленькая девочка с бантами, в платьице из розового органди.
– Мой седьмой день рождения, пришелся на воскресенье. Особый день.
Она вздохнула:
– Почему, когда мы становимся взрослыми, счастливые дни вдруг остаются далеко позади?
У Йезада не нашлось ответа.
– И куда девался этот обеденный стол? – спросил он.
– Брат, когда женился, увез его на новую квартиру.
– Он тоже устраивает воскресные обеды в семейной традиции?
Вили скривила губы:
– Он погубил стол. Стол не проходил в дверь его квартиры. Брат позвал плотника переделать стол в секционный. Бог его знает, из каких джунглей привезли эту древесину, но за два года стол был съеден термитами.
Она провела рукой по скатерти и стала складывать ее. Йезад помогал, раздумывая о судьбе, которая превратила прелестную девочку в розовом органди, сидевшую по правую руку отца за воскресными обедами, в рехнувшуюся на сновидениях, помешанную на «Кубышке» женщину, от которой несет тухлятиной. Какая жестокая траектория пролегла от той точки до этой?
Вили не положила скатерть в сумку.
– По-моему, она достаточно большая, хватит, чтобы прикрыть весь балкон.
Йезад вздрогнул:
– Ты что, не хочешь сохранить такой важный сувенир?
– Сувенир-фувенир, не верю я во все это! Большая скатерть без большого стола, без гостей, чтобы сидели, смеялись, болтали – что толку в ней? Сделайте навес для балкона, а то как бы ребенок не простудился ночью.
– Спасибо тебе, Вили.
Она распихала барахло обратно по ящикам, со стуком задвигая один за другим.
– Знаете, Йезад-джи, вы ведь правы. Если сон приснился мне на гуджарати, так нужно применить другой метод: звучание слова. Значит, так: кошка будет «билари», – «бе» будет числом для билари. Ноль остается, и получается двадцать. Я и поставлю на двадцать. А вы, дорогой, ставьте и на двадцать, и на восемьдесят, так надежней. И выиграете достаточно, чтобы превратить балкон в настоящую паша,комнатку.
Зачем нам, сказал он, пускай балкон остается балконом, его только временно нужно закрыть.
– Не имеет значения, – сказала Вили, провожая его к двери, – все временно, Йезад-джи. Жизнь тоже штука временная.
Ну что за женщина, сказала Роксана, ей обязательно нужно продержать мужчину как можно дольше всеми этими своими «милый-дорогой». А узнав, что Вили еще и фотографию показывала, спросила, что это за новое извращение, ей что, лотереи мало?
– Семейная фотография, на которой Вили семь лет, – объяснил Йезад, и Роксане стало неловко, а потом и стыдно за взятую скатерть, особенно после того, как муж пересказал печальные воспоминания Вили.
– Она неплохой человек. Со странностями, конечно. Знаешь, она вызвалась приносить тебе продукты из лавки. Она туда каждое утро ходит.
На балконе он развернул рексин, проделал по краю дырки в нужных местах, чувствуя укол совести при прокалывании каждой дырки. Завтра купит металлические глазки в скобяной лавке Боры, укрепит отверстия и натянет ткань туго, как брезент. На эту ночь он прикрепил рексин веревочками к балконным перилам.
Теперь за дело взялся Мурад, готовясь к ночлегу под тентом. Он взял игрушечный бинокль, компас и оружие: нож для разрезания бумаги и водяной пистолет. Хотел захватить с собой свечу и спички для освещения укрытия в мрачной чащобе суматринских джунглей, но мама не разрешила.
– Мама права, – поддержал ее Йезад. – Не очень – то будет приятно, если ты спалишь «Приятную виллу».
– Ха-ха, очень смешно. Мама всегда воображает страшное.
– Кстати о воображении, чиф, что это за разговоры о депрессии? Плод воображения Джала и Куми? Не могу представить себе депрессию у такого философа, как вы.
– Депрессия – чушь, – ответил Нариман. – Я много думаю о прошлом, это правда. Но в моем возрасте прошлое занимает в мыслях больше места, чем сиюминутное. А процент будущего невелик.
– У тебя еще много лет для нас, папа.
– Любопытно, почему доктор Тарапоре решил, что это депрессия.
– Знахарь ошибся в диагнозе, наслушался болтовни Куми и Джала. Ему еще предстоит понять, что не все можно объяснить клинически. «У сердца есть свои резоны, о которых рассудок ничего не знает».
– Как замечательно, – откликнулась Роксана. – Шекспир?
– Паскаль.
Она повторила про себя: «У сердца есть свои резоны…»
Со своего топчана в разговоры взрослых внимательно вслушивался Джехангир, стараясь понять, что такое депрессия. То печальное чувство, которое приходит, когда несколько дней подряд льет дождь? Он с завистью смотрел, как Мурад устраивается на ночлег под навесом. И тут услышал, что дедушка робко просит утку.
– Сейчас принесу! – спрыгнул с топчана Джехангир.
Отец двумя яростными шагами пересек комнату и загородил ему путь.
– Что я тебе сказал насчет этой бутылки?
Джехангир застыл. Он испугался, что отец его ударит. Он сильней всего боялся отца, когда тот говорил пугающе спокойным голосом.
– Отвечай. Что я тебе сказал?
Он съежился:
– Чтоб я не трогал эти вещи.
– Почему же ты собрался сделать это?
– Я забыл, – еле слышно ответил он. – Я хотел помочь.
Гнев мгновенно исчез, и отцовская рука легла на его плечо.
– С этим не тебе помогать, Джехангла.
Отец легонько подтолкнул его к дивану. Джехангир смотрел, как мама достала бутылку для пи-пи. Она откинула простыню и засунула в нее дедушкину пипиську. Она была маленькая, не намного больше, чем у него. Зато яйца у дедушки были огромные. Как луковицы в шелухе, даже больше папиных, которые он много раз видел, когда, выходя из ванной, отец сбрасывал полотенце, чтобы одеться. Его собственные были похожи на шарики для игры. А у дедушки они такие большие и тяжелые, что ему, наверное, неудобно…
– Ложись, Джехангла, – сказал отец. – Не на все тебе надо смотреть. Спокойной ночи.
Потом мама принесла тазик, чтобы дедушка пополоскал рот на ночь. Дедушка сделал смешное движение челюстью, вынимая зубы. Они скользнули в стакан, на свое водное ложе, и Джехангир закрыл глаза.
* * *
Приблизив губы к уху Йезада, Роксана благодарила мужа за понимание.
Тот сказал, что лучше бы нанять айюиз больницы: если Роксана будет одна надрываться, так это добром не кончится.
– Заставим Джала и Куми заплатить айе. Скажи им, что это наше условие. Мы же приняли папу.
– После того, что они сделали, я ничего от них не приму. Видеть их не хочу эти три недели, пока папа не встанет на ноги.
Она заверила мужа, что справится, нужно только немного терпения и понимание. Рассказала, как пахло от папы, когда они его привезли.
– Всего-то и требовалось, что намочить салфетку, обтереть его и посыпать тальком. Но Джал и Куми даже не побеспокоились. И ты видишь щетину на бедном его лице – бритву они положили в его чемодан. Как будто он в состоянии самостоятельно побриться.
– Цирюльника позовем. Но учти – три недели. И никаких уверток от этих двух мерзавцев.
– О нет, я не допущу, чтобы они выжили папу из его собственного дома! Три недели – и все. Вот увидишь, я их призову к порядку.
Придвинувшись поближе, она обняла его и поцеловала в ухо, чуть прикусив мочку. Он вздохнул. Его пальцы потянулись к краешку ее ночной сорочки, подтягивая ткань к бедрам, которые она приподняла. Рука скользнула под мягкую ткань. Она шепнула: «Подожди немного, мальчики спят, а вот как папа…»
* * *
Нариман открыл глаза с желанием, чтобы его перестали преследовать огромные, скорбные глаза Люси. Повернув голову, он поискал знакомую оконную решетку, но вместо нее увидел топчан внука. Он не в «Шато фелисити». Этой ночью он должен лежать тихо, не давая воли воспоминаниям, чтобы не беспокоить Роксану с Йезадом и детей, спящих совсем рядом.
Одурманенный обезболивающим, он плыл на облаке, похожем на сон. В бормотании из соседней комнаты послышалось слово «айя»…и воспоминания сразу принялись мучить его. Люси нанялась работать айейв «Шато фелисити», сказала: «Хочу быть поближе к тебе. Работа не трудная, – заверила она его, – а так приятно жить и спать в одном доме с тобой».
Даже прежде чем она пошла в прислуги, сердечные муки изрезали морщинами ее лицо, обтянули его. Какой кошмар, думал он, что же она делает с собой и до какого абсурда доходит ее стремление отплатить ему, превратить его жизнь в ад – из-за того, что он отказался выходить к ней на улицу.
Она нанялась в семью Арджани с первого этажа. Им было известно, кто она такая, – они часто видели его и Люси вдвоем. Гестапо на первом этаже – была их с Люси шутка, когда они еще бывали вместе, потому что мистер и миссис Арджани постоянно торчали у окна, следя, кто приходит в дом или выходит из дома. Позднее супруги Арджани наблюдали за Люси, когда, как потерявшийся ребенок, она целыми вечерами простаивала перед домом, глядя вверх на его окно.
Но он понимал, зачем они взяли Люси нянькой к своим внукам: это был акт возмездия. Много лет назад, примерно в то время, когда он познакомился с Люси, отец Наримана подал в суд на мистера Арджани за пасквиль, наносящий ему моральный ущерб. Теперь сводились старые счеты. Это было ясно.
Какой же монументальной тратой времени и сил было судебное разбирательство, думал Нариман, вспоминая религиозную полемику, с которой началась вражда. Священнослужитель совершил церемонию навджоте для ребенка, мать которого была из парсов, а отец иноверец. Событие вызвало споры, полемику и перебранки между реформистами и ортодоксами – такого рода споры вспыхивали в общине парсов с периодичностью эпидемий гриппа.
Отец Наримана, известный как большой мастер писать письма в газеты, гневно осудил священника. Он писал, что для этого дастура, сбившегося с пути истинного, священная церемония инвеституры – вручения судры и кусти посвящаемому в парсы – имеет не большее значение, нежели повязывание обыкновеннейшего шнура, если судить по той лихости, с которой дастур проделывает ее с каждым и всяким. Что подобные ему ренегаты станут причиной погибели трехтысячелетней религии, что зороастрийство за всю свою славную историю выдержало множество ударов, но чего не смогли добиться арабские армии в 632 году нашей эры, то совершат такие священнослужители, как он, подрывающие чистоту этой единственной в своем роде и древней персидской общины, саму основу ее выживания. Возможно, что невежество есть благо, писал он, однако у священнослужителей, творящих бесчинства, невежество совершенно иного рода – и оно яд для общины парсов.
Хотя напыщенность отцовской риторики казалась Нариману смешной, смысл приводил его в отчаяние. А «Джамшидовачаша» завела специальную рубрику, где печатались материалы полемики. Каждое утро за завтраком отец раскрывал газету и, усевшись поудобней, наслаждался читательскими откликами «за» и «против», спровоцированными его письмом в редакцию. Его лицо сияло удовлетворением. Самые интересные места он зачитывал домочадцам вслух.
Отец неизменно находил способ соотнести полемику с Люси. Цитировал из газеты примеры, поясняющие, почему запретны браки с иноверцами. Выдержки из писем читателей выдавались за неопровержимые доводы в пользу запрещения связей между парсами и всеми прочими.
Нариман пробовал воспользоваться утренними дискуссиями. Уговаривал отца пригласить Люси на ланч или на чай, побеседовать с Люси, прежде чем выносить суждение о ней. Отец отказывался – было бы несправедливо, говорил он, подавать надежды бедной девушке. Иногда мать робко замечала, что нужно бы понять, что она за человек. На это отец отвечал, что она может быть прекрасным человеком, может быть любезной и очаровательной, как королева английская, но его сыну она не пара – она не зороастрийка. И точка.
До чего же наивно было с его стороны так долго надеяться, что отец изменит свою точку зрения или что пассивная позиция поможет избежать неприятностей, повысить их с Люси шансы. Он недооценивал запас отцовского упорства, меру его готовности жертвовать семейным счастьем сына во имя принципа.
И тут в газете появилось уничижительное письмо мистера Арджани, и утренним удовольствиям отца пришел неожиданный конец. Выступление соседа по дому выглядело как предательский удар из собственного лагеря. И хотя вначале отец хотел ограничиться одним-единственным письмом в газету и отойти в сторону, игнорируя ропот невежественной толпы, теперь он снова взялся за перо и произвел второй залп.
Он назвал мистера Арджани отличным примером ума, не отвечающего норме, размышления которого никчемны, поскольку не способны объять даже простейшие доктрины веры, уже не говоря о высшем смысле навджоте. Взгляды мистера Арджани, писал он, недостойны обсуждения.
Мистер Арджани с энтузиазмом ринулся в бой. Перепалка становилась все ядовитей, пока не завершилась тем письмом, которое и привело стороны в суд. В письме мистер Вакиль был назван оголтелым расистом, который в своем маниакальном стремлении к чистоте зороастрийской общины не остановился бы и перед физическим уничтожением людей, вступающих в межрелигиозные браки, равно как и их потомства.
Воскресная компания отца пришла к выводу, что настал час подавать в суд на Арджани с иском о восстановлении чести и достоинства. Было решено дать Арджани шанс взять обратно свои слова и извиниться. Тот отказался. Его защиту финансировала группа парсов-реформистов, и, хотя дело он проиграл, реформисты остались довольны широкой оглаской, которую в результате получили их воззрения.
Отец созвал гостей отпраздновать победу. Воскресная компания презентовала ему страницу из «Джамшидовой чаши» – в рамке и под стеклом – с полным текстом извинений Арджани и его признанием своей ошибки.
«Они ведут себя так, будто в крикет выиграли», – думал Нариман, наблюдая ликование. Постановление суда они рассматривали как подтверждение своих взглядов, а не формальное исполнение закона об ответственности за распространение клеветы. Рассмотрение дела в суде вызывало у Наримана смешанные чувства: ему бы не хотелось, чтобы отец проиграл, и в то же время он надеялся, что публичное разбирательство этих фанатических взглядов все же покажет отцу их истинную ценность.
Но искупления не произошло. И теперь, десять лет спустя, когда его родителей уже нет в живых, он вынужден наблюдать, как Люси становится орудием нелепой мести в руках семейства Арджани. Сам Арджани хвастался изощренностью возмездия – нанял в прислуги девушку сына покойного Марзбана Вакиля! Разве это не прекрасно – каждый может следить за драматическими перипетиями отношений между профессором Вакилем и Люси. Вершится поэтическое правосудие, говорил он, намного превосходящее все судебные вердикты.
Если бы Арджани хоть задумался над происходящим! Если бы до него дошло, что покойный отец, с его фанатическими взглядами, первый согласился бы с заклятым врагом, что Люси больше подходит роль прислуги, чем его невестки.
Но Люси зачем это сделала? Он спросил Люси, не из-за денег ли она пошла в прислуги? Он готов помочь ей, нет нужды так унижать себя, он подыщет ей хорошую работу…
Люси с улыбкой покачала головой:
– Разве тебе непонятно, почему я здесь? Ты на третьем этаже, я на первом, и меня это утешает.
Он предупредил ее, что это ничего не даст – они с тем же успехом могли бы жить в разных городах, потому что он сдержит слово и больше не будет видеться с ней.
– Ты попусту растрачиваешь жизнь, ты надрываешься за гроши!
– Я даже не замечаю работу, – опять улыбнулась Люси, – а дети очень милые, все трое. Ты же знаешь, что я люблю детей. Помнишь, какие мы строили планы, Нари? Мы хотели иметь шестерых и даже имена им придумали…
– Прошу тебя, Люси, не терзай меня! – Он зашагал прочь, кипя злостью.
Но каждое утро, уходя на работу, он видел Люси, которая вела в школу трех маленьких Арджани. И слышал, как мистер Арджани кричит ей в окно, чтобы она сама несла их школьные сумки: книги слишком тяжелы для детских плечиков.
– Я не хочу, чтобы мои внуки выросли горбатыми! – кричал он.
Нариман видел, как Люси тащит три сумки с книгами. Прошло совсем немного времени, и однажды Нариман забрал тяжелые сумки у Люси и с тех пор начал провожать ее с детьми до школы.
В полдень Люси полагалось отнести в школу горячий завтрак для детей. В зависимости от расписания лекций, Нариман старался прийти вовремя, чтобы помочь Люси с горячими завтраками, с корзинкой для посуды, с термосами для охлажденных напитков. Мистер Арджани хвалился, что заполучил двух слуг за те же деньги.
Нариман ни на минуту не забывал, что сверху за всем этим наблюдает жена. Его мучила совесть, он знал, что совершает чудовищную несправедливость по отношению к Ясмин. Возвращаясь с работы, он неизменно находил Джала и Куми рядом с матерью – дети всячески старались утешить ее. На него дети не смотрели. И больше не подходили пожелать ему спокойной ночи, когда отправлялись спать.
А Ясмин спрашивала, чем она заслужила такое наказание. Почему он издевается над ней? Зачем женился на ней, если ему так дорога Люси?
– Я проявляю чисто человеческую заботу о Люси – стараюсь помочь ей покончить с этим безумием.
– Ты уверял, что все покончено, еще когда она до ночи пялилась в наши окна. Почему теперь я должна тебе верить?
– Прошу тебя, пойми, если я с ней не буду разговаривать, как я уговорю ее положить конец этой тягостной ситуации?
– Не послушает она тебя. Ты что, не видишь, как она делает из тебя дурака? И внушает тебе чувство вины?
– Может, она и права, – сказал он и тут же пожалел о сказанном, потому что Ясмин потеряла терпение.
– Забудь обо мне. Мою жизнь ты уже искалечил. Подумай о себе, о том, какую репутацию это создает тебе в университете, и о том, как будут относиться люди к нашей маленькой Роксане. На нее падет позор отца.
– В моем поведении нет ничего позорного, – тихо сказал он. – Я считаю, что веду себя достойно с учетом обстоятельств.
– У тебя странные представления о достоинстве! Сначала ты женишься на мне, потом просто бросаешь. Теперь ты бегаешь за ней, как пес в запале. А о чем думает ее семья, почему допускает, чтобы она так унижала себя?
– Семья отказалась от нее, ты же знаешь.
Ясмин долго терпела униженность своего положения, но потом предъявила мужу ультиматум: она заберет Роксану и уйдет из дому, если он не перестанет выступать в качестве ассистента айи. У него есть неделя на размышление.
– Кому от этого будет лучше? – пытался он урезонить ее. – И ты, и наш ребенок – вы окажетесь в трудном положении.
– И у тебя хватает наглости пугать меня трудностями? А сейчас что я имею? Покой и счастье?
Всю неделю он упрашивал ее не осложнять и без того тяжелую ситуацию. Она отвечала, что он пожалеет, что на свет родился, если не прислушается к ее словам. Хватит с нее, теперь она встанет на защиту своих прав, пускай не как жена, но как мать.
– Ну и уходи, – решился он, и впервые в его голосе прозвучала истерическая нота. – Но Роксана нужна мне, и ты ее у меня не отнимешь…
Роксана и Йезад стояли у двери, вглядываясь в темноту комнаты. Роксана ясно слышала, что папа позвал ее по имени.
– Наверное, приснилось что-то, – прошептал Йезад.
Они немного подождали и вернулись в постель, решив ничего не говорить ему утром. К чему? Он будет глупо чувствовать себя. Лучше подбадривать его. Что бы его ни тревожило, пройдет само по себе.






