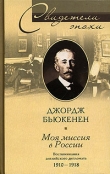Текст книги "Русская революция глазами современников. Мемуары победителей и побежденных. 1905-1918"
Автор книги: Роджер Петибридж
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Суханов и сам начал политическую карьеру в двадцать один год, как социалист-революционер, и в 1904 году в Москве был арестован за содействие в организации подпольной типографии. Как и Шульгина, его можно было считать интеллектуалом, но на него большое влияние оказывала стихия улицы, и он всегда был готов поддаться влиянию масс.
«В президиум Совета, естественно, были названы и немедленно, без возражений приняты думские депутаты Чхеидзе, Керенский и Скобелев. Кроме председателя и двух его товарищей были избраны четыре их секретаря – Гвоздев, Соколов, Гриневич и рабочий Панков, меньшевик. Если не ошибаюсь, Керенский прокричал несколько ничего не значащих фраз, долженствующих изображать гимн народной революции, и моментально исчез в правое крыло, чтобы больше не появляться в Совете.
Не помню и не знаю, куда девался на это время будущий постоянный председатель Совета Чхеидзе. Председательствовать остался Скобелев, который среди суматохи и всеобщего возбуждения совершенно не владел ни каким-либо общим планом действий, ни собранием, протекавшим шумно и довольно беспорядочно. Но это ни в какой мере не помешало Совету в первом же заседании сделать свое основное и необходимое революции дело – создать сплоченный идейный и организационный центр всей петербургской демократии, с огромным непререкаемым авторитетом и способностью к быстрым, решительным действиям.
Как водится, немедленно по избрании президиума с разных концов раздались требования «к порядку». Председатель, желая покончить с формальностями, ставит на утверждение уже действовавшую мандатную комиссию с Гвоздевым во главе. С какими-то предложениями «к порядку» и «к организации» Совета, поминутно ссылаясь на опыт 1905 года, выступил Хрусталев-Носарь. Он явно предлагал себя в руководители советской организации и политики и не только произвел на всех крайне неприятное впечатление, но и заставил думать о том, как отделаться от его услуг, пока через несколько дней он не исчез из Петербурга «играть роль» в других центрах.
Слова просил кто-то из продовольственников, но ничего не было удивительного в том, что деловой порядок дня был тут же сбит требованиями солдат предоставить им слово для докладов. Требование было поддержано с энтузиазмом. И сцена этих докладов была достойна энтузиазма.
Встав на табуретку, с винтовкой в руках, волнуясь и запинаясь, напрягая все силы, чтобы связно сказать несколько порученных фраз, с мыслями, направленными на самый процесс своего рассказа, в непривычной, полуфантастической обстановке, не думая, а быть может, не сознавая всего значения сообщаемых фактов, простым корявым языком, бесконечно усиливая впечатление отсутствием всяких подчеркиваний, один за другим рассказывали солдатские делегаты о том, что происходило в их частях. Рассказы были примитивны и почти дословно повторяли один другой. Зал слушал, как дети слушают чудесную, дух захватывающую и наизусть известную сказку, затаив дыхание, с вытянутыми шеями и невидящими глазами.
– Мы от Волынского… Павловского… Литовского… Кексгольмского… Саперного… Егерского… Финляндского… Гренадерского…
Имя каждого из славных полков, положивших начало революции, встречалось бурей оваций. Но не меньше волнения вызывало и название новых частей, вновь вливающихся в народно-революционную армию и несущих ей победу.
– Мы собрались… Нам велели сказать… Офицеры скрылись… Чтобы в Совет рабочих депутатов… велели сказать, что не хотим больше служить против народа, присоединяемся к братьям-рабочим, заодно, чтобы защищать народное дело… Положим за это жизнь. Общее наше собрание велело приветствовать… Да здравствует революция! – уже совсем упавшим голосом добавлял делегат под гром, гул и трепет собрания.
Страшные винтовки, ненавистные шинели, странные слова!.. Теоретически это уже известно, известно, известно с утра. Но на практике не поняты, не сознаны, не переварены события, где все «поставлено на голову»…
Было тут же предложено и принято при бурных аплодисментах слить воедино революционную армию и пролетариат столицы, создать единую организацию, называться отныне Советом рабочих и солдатских депутатов… Но многих и многих полков еще не было с нами. Были ли там колебание, или сознательный нейтралитет, или готовность к бою против «внутреннего врага»?
Положение еще было критическим. Была возможность кровавой схватки организованных, с командным составом, полков. Еще могли голыми руками взять революцию.
В связи с вопросом об охране города, естественно, возникло предложение о воззвании к населению от имени Совета.
Мы немедленно выходим из собрания и ищем места, где бы пристроиться, чтобы составить воззвание.
Мы не находили, куда деваться для нашей работы, и через переполненный вестибюль добрались до правого крыла, надеясь пристроиться в одном из кабинетов Государственной думы. Мимо нас по-прежнему проходили вереницы задержанных полицейских и других «политических» совершенно нового и невиданного сорта. Избранных направляли в министерский павильон, превращенный в «общую камеру» высших царских сановников. Мелкоту, заполнив ею два-три думских апартамента, помещали на хорах большого Белого зала, где они и находились в течение следующих дней.
В Екатерининской зале и в вестибюле солдаты с ружьями в руках стояли группами и кем-то для порядка расставленными, но легко разрываемыми цепями. Другие сидели на полу, поставив ружья в козла, и ужинали хлебом, селедкой и чаем. Третьи, наконец, уже спали, растянувшись на полу, как спят на вокзалах третьеклассные и теплушечные пассажиры…
Подходя к правому коридору, мы видели, что с улицы в вестибюль и в ближайшие комнаты направлялись, крича и расталкивая толпу, усталые солдаты, перенося какие-то тяжести, складывая часть поклажи тут же у входа. Это были в огромном количестве ящики со снарядами, с винтовками, с револьверами, а также ленты для пулеметов. Самые пулеметы, охраняемые часовыми, также виднелись там и сям.
В двух шагах от выходной двери была навалена куча мешков с мукой. Около них также стояли двое послушных часовых, таких же, каких ставило царское начальство, не обнаруживавших никакого признака понимания того, что происходит вокруг… Кому именно и почему именно они повинуются? – мелькнуло в голове…
– Вон она, появилась, крупчатка-то! – весело крикнул около меня солдат, основательно двинувший меня ящиком.
Ноги скользили по полу, где грязь смешивалась со снегом. Был беспорядок. В дверь с улицы немилосердно дуло. Пахло солдатскими сапогами и шинелями – знакомый запах «обыска», который оставляли городовые в квартирах царских «верноподданных».
Мы не замедлили растеряться. Кого-то оттиснула толпа. Остальные, пробираясь дальше, не находили себе места для работы – вплоть до самого кабинета товарища председателя Государственной думы. Этот кабинет был пуст или почти пуст. Мы расположились за письменным столом, на котором стоял телефон и были письменные принадлежности. Пока не все были в сборе, я хотел сбегать напротив, в помещение Военной комиссии, узнать о положении дел.
Но ничего добиться было явно невозможно. Комиссия уже перебралась, убегая от посторонних, в следующую комнату, куда я не смог попасть. Говорили, что комиссия пополнилась авторитетными стратегами, что работа идет на всех парах и что там Керенский, вдохновляющий эту работу. Но говорили и другое, скептически посмеивались, безнадежно махали рукой».
Той же ночью в другой части города литератор П. Сорокин, эсер, как и Суханов, сидел за столом, записывая свои впечатления от прошедшего дня. Сорокин дал куда более беспорядочную картину, чем Суханов или Шульгин, но именно так видели ход событий большинство из тех, кого затянул водоворот мартовских дней.
«… С утра чувствовал себя не очень хорошо, а занятия в университете были фактически прекращены, и я решил остаться дома и читать новую работу В. Парето.
Время от времени меня прерывал телефон, друзья спрашивали о новостях и в свою очередь сообщали свои…
В полдень телефонная связь была прервана, мне никто не мешал, и я возобновил свои занятия до трех часов, когда один из моих студентов ворвался с известиями, что два полка, вооруженные и с красными флагами, покинули свои казармы и идут к Думе, чтобы соединиться с рабочими.
– Это правда? – воскликнул я с недоверием.
– Я видел их сам.
Спешно покинув дом, мы быстро направились к Троицкому мосту…
…Продвигаясь осторожно вдоль Литейного, мы вышли к свежим пятнам крови и увидели на мостовой два трупа. С ужасом мы наблюдали, как человек, пытавшийся пересечь улицу, упал, смертельно раненный шальной пулей. Умело маневрируя, мы наконец достигли Таврического дворца, обнаружив вокруг здания большие толпы людей, солдат и рабочих. Никаких попыток войти в русский парламент не делалось, но везде были видны пушки и пулеметы.
– Революционеры приготовились защищать свою Думу, – сказал с одобрением мой приятель Кузьмин.
– Наоборот, – ответил я. – Сумасшедшая толпа вынуждает Думу втягиваться в революцию, которую Дума не хочет. Скоро вы узнаете реальную цель этой демонстрации.
Вестибюль Думы представлял разительный контраст царящему вне ее волнению. Здесь был комфорт, солидность, порядок. Лишь там и здесь в углах можно было видеть небольшие группы депутатов, обсуждавших ситуацию. В дверях я встретил социал-демократа Скобелева.
– Ура! Она пришла наконец, – приветствовал он нас с вытянутой рукой.
– У солдат есть продовольствие? – спросил я.
– Весьма немного. Ты можешь чем-нибудь помочь?
– Постараюсь что-нибудь сделать, – заверил я его.
По словам депутата Ржевского, Дума сейчас распущена, но назначен исполнительный комитет как временное Правительство.
– Означает ли это, что вы присоединились к революции? – спросил я.
– Нет… Однако я, возможно, да, – ответил он нервно.
То же замешательство и неопределенность я наблюдал в разговорах других депутатов. Капитаны, которые вели корабль государства в зубы урагана, не были уверены в своем курсе. «Плохой признак, – подумал я про себя, – хотя, может быть, я в отношении их несправедлив».
…Я вышел во двор Думы и объяснил группе солдат, что постараюсь достать для них продовольствие. Они нашли автомобиль с развевавшимся красным флагом, и мы поехали через толпу.
– Этого достаточно, чтобы повесить нас всех в случае подавления революции, – сказал я шутливо моим охранникам.
– Не беспокойся. Все будет хорошо, – ответили они.
Около Думы жил адвокат Грюзенберг. Его телефон работал, и я связался с друзьями, которые пообещали, что продовольствие для войск скоро будет подвезено.
Холл и коридоры Думы были заполнены народом. Здесь были солдаты с винтовками и пулеметами, но все еще господствовал порядок. Улица еще не ворвалась сюда.
– А, товарищ Сорокин, наконец-то революция! Наконец-то славный день наступил! – крикнул один из рабочих, мой студент; другие бывшие с ним радостно приблизились ко мне. На их лицах был свет надежды и экзальтации.
– Что вы здесь делаете, братцы? – спросил я.
– Нам сказали прийти сюда помочь организовать Совет рабочих депутатов, как в революцию 1905 года, – ответили они хором.
– А для чего необходим Совет?
– Защищать революцию и проблемы рабочих, контролировать правительство и провозглашать нашу диктатуру, – ответили они.
– Вы присоединитесь к нам, не так ли?
– Я не избран, спасибо, – сухо ответил я.
– Мы также не избраны, но это не имеет значения. В такое время нет необходимости в формальностях.
– Я не согласен с вами, – сказал я и добавил: – Возможно, что для защиты революции рабочий комитет будет необходимо сформировать, но с диктатурой будьте осторожны.
Войдя в комнату комитета, я обнаружил несколько социал-демократических депутатов и около дюжины рабочих – ядро будущего Совета. От них я получил настоятельное приглашение стать членом, но тогда я не чувствовал необходимости вступать в Совет и ушел от них на собрание писателей, которые организовывали официальный пресс-комитет революции…
«Кто избрал этих людей как представителей прессы?» – вновь спросил я себя. Вот они, самоназначенные цензоры, самонадеянная власть подавлять то, что с их точки зрения кажется нежелательным, готовящаяся удушить свободу слова и печати. Неожиданно мне вспомнились слова Флобера: «В каждом революционере таится жандарм». Но я сказал себе, что несправедливо обобщать, исходя из действия нескольких горячих голов… А тем временем залы и коридоры Думы все плотнее заполнялись толпами.
– Что дальше? – спросил я депутата, который проталкивался сквозь гущу людей.
– Родзянко пытается по телеграфу связаться с царем. Исполнительный комитет обсуждает организацию новых министерств, ответственных и перед царем, и перед Думой.
– Кто-нибудь вообще контролирует ход этой революции, управляет ею?
– Никто. Она развивается самостоятельно.
– А как быть с монархией и царем?
– Я абсолютно ничего не знаю.
– Плохи дела, если даже вы ничего не знаете о таких вещах, – с сарказмом заметил я.
Продовольствие было доставлено, и девушки-студентки начали кормить солдат, что вызвало внезапное затишье. Но я знал, что за стенами дворца дела идут хуже некуда. То и дело вспыхивали перестрелки. Люди были охвачены каким-то истерическим возбуждением, а полиция отступила, ее нигде не было видно. Я снова направился во двор Таврического дворца. К тому времени большинство народа было отравлено лихорадкой свободы. Раздавались взвинченные речи, крики и аплодисменты. Как я ни противился, но и меня охватило возбуждение, я тоже слушал и аплодировал и лишь к полуночи смог выбраться из дворца.
Поскольку ни трамваи, ни машины больше не ходили, я проделал пешком немалое расстояние от Думы до Петроградской стороны. То и дело до меня доносились звуки частой стрельбы, а порой перестрелка происходила так близко, что пешеходы останавливались и начинали искать укрытие. Группы людей жались к стенам, избегая шальных пуль. На Литейном бушевал сильный пожар, величественное здание Верховного суда было в огне.
– Кто это сделал? – раздался чей-то возглас. – Неужели новой России не понадобится здание суда?
Вопрос остался без ответа. Мы видели, что и другие административные здания тоже горят, среди них полицейские участки, и никто не предпринимал никаких усилий, чтобы потушить пламя. На лицах многих зрителей этого уничтожения читалось чувство глубокого удовлетворения. Когда они орали, смеялись и танцевали, в их поведении было что-то демоническое. Повсюду валялись груды обломков от российских двуглавых орлов, и эти эмблемы империи, которые срывали с правительственных зданий и магазинов, под восторженные крики толпы летели в костер. Старый режим исчезал в прахе и пепле, и никто не сожалел о нем. Никого вроде не беспокоило, что огонь может перекинуться и на частные дома.
– Так им и надо! – возбужденно сказал какой-то мужчина. – Лес рубят – щепки летят!
Дважды я проходил мимо групп солдат и уличных зевак, которые грабили винные лавки. Никто не пытался остановить их. Но чем дальше мы отходили от Думы, тем нормальнее становилась окружающая обстановка. Даже несколько полицейских стояли на своих постах. Слабее была стрельба. Но когда мы пересекали Неву, ружейная перестрелка разразилась с такой силой, что все распластались на льду, пока она не прекратилась. Пока мы добирались до противоположного берега, то видели лежащие на снегу трупы.
В два часа я добрался до дома и сел писать эти поспешные заметки. Рад я или сожалею? Трудно сказать, но определенно в моем сознании есть постоянные опасения. Сегодня ночью лишь часть города в руках революционеров, а что случится завтра? Как долго будет продолжаться этот беспорядок? Как много жизней погибнет? Ослабят или разрушат армию эти события? Возможно ли, что их результатом будет нашествие немцев в Россию? Но возможно, что мои предчувствия глупы. Так много веселых и патриотичных людей не могут быть не правы. Кто сказал: «Индивиды могут ошибаться, но целая нация – никогда»? Очень хорошо, да здравствует революция! Самодержавие должно было быть когда-нибудь ликвидировано. Поэтому долой сомнения и опасения.
Я посмотрел на мои книги и рукописи. Я полагаю, их придется отложить на время в сторону. Для занятий нет времени. Дело есть дело. До свидания, любимые друзья.
Стрельба началась снова…»
13, 14 и 15 марта и Временный комитет Думы, и Совет боролись за контроль над революцией. Комитет Думы пребывал в нерешительности, не зная, как строить новые отношения со старым хозяином, с царем. Совет действовал более решительно, привлекая на свою сторону солдат, рабочих и радикальную интеллигенцию, а Дума по-прежнему рассчитывала на поддержку среднего класса, офицеров и правительства Антанты. Шульгин пишет:
«13 марта
Наступил день второй, еще более кошмарный… «Революционный народ» опять заполнил Думу… Не протиснуться… Вопли ораторов, зверское «ура», отвратительная «Марсельеза»… И при этом еще бедствие – депутации… Неимоверное число людей от неисчислимого количества каких-то учреждений, организаций, обществ, союзов, я не знаю чего, желающих видеть Родзянко и в его лице приветствовать Государственную думу и новую власть. Все они говорили какие-то речи, склоняя «народ и свобода»… Родзянко отвечает, склоняя «родина и армия»… Одно не особенно клеится с другим, но кричат «ура» неистово. Однако кричат «ура» и речам левых… А левые склоняют другие слова: «темные силы реакции, царизм, старый режим, революция, демократия, власть народа, диктатура пролетариата, социалистическая республика, земля трудящимся» и опять – свобода, свобода, свобода – до одури, до рвоты… Всем кричат «ура».
День прошел, как проходит кошмар. Ни начала, ни конца, ни середины – все перемешалось в одном водовороте. Депутации каких-то полков; беспрерывный звон телефона; бесконечные вопросы, бесконечное недоумение – «что делать»; непрерывное посылание членов Думы в разные места; совещания между собой; разговоры Родзянко по прямому проводу; нарастающая борьба с исполкомом совдепа…
В конце концов, что мы смогли сделать? Трехсотлетняя власть вдруг обвалилась, и в ту же минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на головы тех нескольких человек, которые могли бы что-нибудь скомбинировать».
13-го числа Суханов проснулся в Таврическом дворце от звуков революции, которая ныне уже требовала отречения царя. Уже 11 марта огромные толпы кричали на улицах: «Долой немку!» (императрицу).
«Я проснулся или, быть может, очнулся от каких-то странных звуков. Я мгновенно ориентировался в обстановке, но не мог объяснить себе этих звуков.
Я встал и увидел: два солдата, подцепив штыками холст репинского портрета Николая II, мерно и дружно дергали его с двух сторон. Над председательским местом думского Белого зала через минуту осталась пустая рама, которая продолжала зиять в этом зале революции еще много месяцев… Странно! Мне совершенно не пришло в голову озаботиться судьбой этого портрета. И до сих пор я не знаю его судьбы. Я больше заинтересовался другим.
На верхних ступенях зала, на уровне ложи, в которой я находился, стояло несколько солдат. Они смотрели на работу товарищей, опираясь на винтовки, и тихо делали свои замечания. Я подошел к ним и жадно слушал… Еще сутки назад эти солдаты-массовики были безгласными рабами низвергнутого деспота, и сейчас еще от них зависел исход переворота… Что произошло за эти сутки в их головах? Какие слова идут на язык у этих черноземных людей при виде картины шельмования вчерашнего «обожаемого монарха»?
Впечатление, по-видимому, не было сильно: ни удивления, ни признаков интенсивной головной работы, ни тени энтузиазма, которым готов был воспламениться я сам… Замечания делались спокойно и деловито, в выражениях столь категорических, что не стоит их повторять.
Перелом совершился с какой-то чудесной легкостью. Не надо было лучших признаков окончательной гнили царизма и его невозвратной гибели».
Хаос на улицах соответствовал разладу в Совете и в Думе, которых застали врасплох сполохи разгорающейся революции. Суханов описывает, как 13 марта шла работа в исполкоме Совета:
«Заседание Исполнительного комитета открылось уже около 11 часов. У меня осталось такое впечатление, что его работа в первые дни была почти непрерывной во все часы суток. Но что это была за работа! Это были не заседания, а бешеная изнурительная скачка с препятствиями…
Порядок дня был установлен примерно так, как это было указано выше, в соответствии с неотложными нуждами момента. Но не могло быть и речи ни в это заседание, ни в ближайшие дни вообще о выполнении какой-либо программы работ.
Через каждые 5–10 минут занятия прерывались «внеочередными заявлениями», «экстренными сообщениями», «делами исключительной важности», «не терпящими ни малейшего отлагательства», «связанными с судьбой революции» и т. д. Все эти внеочередные дела и вопросы поднимались большею частью самими членами Исполнительного комитета, которые получали какие-нибудь сведения со стороны, либо были инспирированы людьми, осаждавшими Исполнительный комитет. Но сплошь и рядом в заседание врывались и сами просители, делегаты, курьеры всевозможных организаций, учреждений, общественных групп и просто близнаходящейся толпы.
В огромном большинстве случаев все эти экстренные дела не только не стоили перерыва работ, но не стоили вообще выеденного яйца. Я не помню, чем занимался в эти часы Исполнительный комитет. Помню только невообразимую кутерьму, напряжение, ощущение голода и досады от «исключительных сообщений». Никакие преграды не действовали.
Не было порядка и в самом заседании. Постоянного председателя не было. Чхеидзе, исполнявший потом председательские обязанности почти бессменно, в первые дни довольно мало работал в Исполнительном комитете. Его ежеминутно требовали или в думский комитет, или в заседания Совета, а больше всего «к народу», к толпе, непрерывно стоявшей и сменяющейся перед Таврическим дворцом. Он говорил почти не переставая, и в Екатерининской зале, и на улице то перед рабочими, то перед воинскими частями. Едва успевал он вернуться в заседание Исполнительного комитета и раздеться, как врывался делегат с категорическим требованием Чхеидзе, иногда подкрепляемым даже угрозами, что толпа ворвется. И усталый старик, сонный грузин, с покорным видом снова натягивал шубу, надевал шапку и исчезал из Исполнительного комитета.
Не было еще и постоянного секретаря, и не велось никаких протоколов. Если бы они велись и сохранились, то за эти часы они не содержали бы никаких «мероприятий» и «государственных актов». Они не отразили бы ничего, кроме хаоса и «внеочередных сообщений» о всевозможных опасностях и эксцессах, с которыми мы не имели средств бороться. Сообщали о грабежах, пожарах, погромах, приносили погромные черносотенные листки, увы, написанные от руки и весьма малограмотные… Мы делали распоряжения, не рассчитывая, что они будут исполнены, посылали охранительные отряды, не надеясь, что они действительно сформируются и сделают свое дело.
Не помню, кто председательствовал на этом заседании, был ли вообще председатель… На письменном столе бывшего председателя бывшей бюджетной комиссии откуда-то появились оловянные кружки с чаем, краюха черного хлеба, еще какая-то еда. Кто-то о нас позаботился. Но еды было мало, или просто приступать к ней было некогда. Ощущение голода осталось в памяти…
* * *
В соседней зале становилось шумно. Собирался Совет, причем в комнату № 12, конечно, просачивались всякие элементы, желавшие приобщиться к революции… Ни мандатная комиссия, расположившаяся в комнате № 11, ни часовые, ни добровольцы церберы не могли ничего поделать с толпой, ломившейся с улицы во дворец, и из Екатерининской залы все считали, что их место в Совете.
* * *
…Надо отметить и другую характерную черту. А именно мне, члену Исполнительного комитета, до сих пор совершенно неизвестно, чем занимался Совет в течение этого дня. И неизвестно потому, что я не интересовался этим ни в те часы, ни после. Не интересовался же я потому, что было очевидно: вся практическая центральная работа легла на плечи Исполнительного комитета. Совет же в этот момент в данной обстановке, при данном его количественном и качественном составе был явно неработоспособен, даже как парламент, и выполнял лишь моральные функции.
Исполнительный комитет должен был самостоятельно выполнить и всю текущую работу, и осуществить государственную программу. Провести через Совет эту программу было очевидной формальностью, во-первых, а во-вторых, эта формальность была нетрудной, и никто о ней не заботился. Такое сознание незаметно, но быстро проникло во всех членов Исполнительного комитета, и мы отдались своей работе, почти не обращая внимания на то, что делалось в соседнем зале. Кого-то отослали для «представительства» и руководства, кажется Соколова. Остальные же почти в полном составе выходили из-за занавески и из комнаты № 13 к толпе, к делегациям по разным текущим делам, от которых голова шла кругом, но не в заседание Совета. Через его залу проходили, но в ней не задерживались…
– А что в Совете? – спросил я, помню, кого-то вошедшего за занавеску.
Тот безнадежно махнул рукой:
– Митинг! Говорит кто хочет и о чем хочет…
Мне случилось несколько раз проходить через залу заседаний. Вначале картина напоминала вчерашнюю: депутаты сидели на стульях и скамьях, за столом, внутри «покоя» и по стенам; между сидящими в проходах и в концах залы стояли люди всякого звания, внося беспорядок и дезорганизуя собрание. Затем толпа стоящих настолько погустела, что пробраться через нее было трудно, и стоящие настолько заполнили все промежутки, что владельцы стульев также бросали их, и весь зал, кроме первых рядов, стоял беспорядочной толпой, вытягивая шеи… Через несколько часов стулья уже совсем исчезли из залы, чтобы не занимали места, и люди стояли, обливаясь потом, вплотную друг к другу; «президиум» же стоял на столе, причем на плечах председателя висела целая толпа взобравшихся на стол инициативных людей, мешая ему руководить собранием. На другой день или через день исчезли и столы, кроме председательского, и заседание окончательно приобрело вид митинга в манеже…
Говорили о том, чтобы перенести Совет в зал думских заседаний. Но там, на хорах, были арестованные охранники и «фараоны».
Когда на четвертый или на пятый день их перевели в более подходящие места или распустили по домам, то Совет уже так разросся, что Белый зал не мог вместить его в полном составе: там происходили лишь заседания солдатской и рабочей секций Совета».
Суханов с самого начала не скрывал своей заинтересованности в печати и уделил немалое внимание организации печатного издания Советов.
«Было необходимо обслужить одну важнейшую отрасль возникающего советского хозяйства – типографию. Еще накануне вечером В. Д. Бонч-Бруевич при помощи каких-то добровольческих сил занял типографию газеты «Копейки» на Лиговке, где и были выпущены «Известия». Это одна из лучших типографий в Петербурге, которую надо было удержать для Совета на эти дни. Бонч-Бруевич поставил там кое-какую охрану, собрал кое-каких рабочих. Но не было ни бюджета, необходимого для заработной платы, ни продовольствия, ни безопасности. Рабочие разбегались, и Совет в решающий момент мог оказаться без основного орудия воздействия на население.
В Исполнительный комитет Бонч-Бруевич сначала прислал записку, составленную в самых решительных выражениях, а затем явился и сам с требованием обеспечить типографию денежными средствами, продовольствием и вооруженной охраной. Меня отрядили устроить это дело с Бончем, и мои хождения по этому делу могли бы дать понятие об условиях работы в Исполнительном комитете в эти первые часы революции.
Бюджета и денежных средств не было никаких, но они должны были быть, и я дал Бонч-Бруевичу carte blanche[9]9
Свобода действий (фр.).
[Закрыть] по части условий с рабочими. Но надо было снабдить типографию провизией на сто человек рабочего персонала и охраны, с тем чтобы рабочие были при типографии неотлучно. Это было необходимо, по словам Бонч-Бруевича, утверждавшего, кроме того, что на «Копейку» готовится вооруженное нападение со стороны черной сотни.
Дело снабжения продуктами надо было передать в продовольственную комиссию. Но кого послать? А если найдется доброволец, то где ручательство, что он добьется цели, что его послушаются, что дело будет обеспечено?.. Не было бланков для требований, не было известно, к кому именно обратиться. Было сомнительно, известны ли имена членов Исполнительного комитета и убедительно ли будет самое его имя для тех, кто поставлен продовольственной комиссией фактическим выполнителем нарядов? Имеется ли, наконец, в наличности провизия и средства переправить ее?.. Во всяком случае, приходилось идти самому – оставить на неопределенное время заседание и, работая локтями что есть сил, продираться сквозь непролазные толпы по бесконечным коридорам, со сквозняками, с полом, покрытым скользкой жижей, к складам провианта, заготовленного во дворце продовольственной комиссией.
Больше всего мне отравляло сознание неправильно употребляемого и безвозвратно расходуемого времени. Но утешала мелькавшая мысль, что иначе и нельзя, что иначе и быть не могло…
После долгого мучительного странствования я добрался до помещений близ кухни, где осаждаемый толпой неизвестный человек удовлетворял требования на продукты по собственному усмотрению и разумению. После многих попыток привлечь его внимание, после бесконечных увещаний, просьб, которыми дергали «продовольственника» со всех сторон, среди окружавшего вавилонского столпотворения я добился выполнения моего наряда, но… за счет моих собственных транспортных средств. Я получил лишь «ордер» и заявление, сделанное уже раньше афинянами Ксерксу в ответ на его требование «земли и воды». Мне было заявлено: «Приди и возьми». Перед лицом нескольких пудов груза я явно рисковал оказаться в положении Ксеркса.
Еще по дороге, услышав в толпе случайный разговор, я остановил незнакомого мне, но любезного человека, говорившего о том, что в его распоряжении имеется автомобиль. Я сагитировал его, убедив его в крайней необходимости обслужить дело печати, и он обещал доставить в типографию продовольствие. Мы условились, что он будет ждать меня в определенном месте, куда я должен принести ему ордер через неопределенное время… Все это было почти безнадежно в атмосфере давки, неразберихи и всеобщей издерганности массой огромных впечатлений и мелких дел. Но это был единственно возможный способ работы.
Не знаю, блуждал я час или больше. Но как это ни странно, я все же нашел этого человека в условленном месте, вручил ему ордер, и он взялся выполнить дело, захватив с собой в автомобиль для охраны двух-трех вооруженных людей… Вопрос теперь был только в том, хватит ли у него терпения добиться, чего следует по ордеру, найдет ли он на месте свой автомобиль и не случится ли чего по дороге. Как это ни странно, но продовольствие было в конце концов доставлено в типографию…