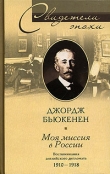Текст книги "Русская революция глазами современников. Мемуары победителей и побежденных. 1905-1918"
Автор книги: Роджер Петибридж
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 3
МАРТОВСКИЕ ДНИ
Революция 1917 года, которая, как мы видели, уже зрела некоторое время, наконец разразилась 8 марта, в тот день, когда Николай II снова покинул Петроград и направился на фронт. Вначале она была далеко не столь драматична, как восстание 1905 года или мятеж на «Потемкине». Она не была результатом прямого воздействия революционных лидеров; Ленин, например, продолжал находиться в эмиграции. Движение масс было спонтанным и неуправляемым. 8 марта, названного «женским днем», колонны бастующих двинулись по улицам Петрограда – они выкрикивали «Дайте нам хлеба!» и громили булочные. Беспорядки продолжались и на следующий день, и вместо того, чтобы разгонять толпы, как им было приказано, казаки неторопливо раздвигали лошадьми толпу и даже братались с забастовщиками.
Ниже следуют размышления Троцкого о важности этих событий. Он не мог раньше 17 мая прибыть в Россию, чтобы пришпорить революцию, чем частично и объясняется его суховатый теоретический подход к мартовским дням.
«…Февральскую революцию начали снизу, преодолевая противодействие собственных революционных организаций, причем инициативу самовольно взяла на себя наиболее угнетенная и придавленная часть пролетариата – работницы-текстильщицы, среди них, надо думать, немало солдатских жен. Последним толчком послужили возросшие хлебные очереди. Бастовало в этот день около 90 тысяч работниц и рабочих. Боевое настроение вылилось в демонстрации, митинги и схватки с полицией. Движение развернулось в Выборгском районе, с его крупными предприятиями, оттуда перекинулось на Петроградскую сторону. В остальных частях города, по свидетельству охранки, забастовок и демонстраций не было. В этот день на помощь полиции вызывались уже и воинские наряды, по-видимому немногочисленные, но столкновений с ними не происходило. Масса женщин, притом не только работниц, направилась к Городской думе с требованием хлеба. Это было то же, что от козла требовать молока. Появились в разных частях города красные знамена, и надписи на них свидетельствовали, что трудящиеся хотят хлеба, но не хотят ни самодержавия, ни войны. Женский день прошел успешно, с подъемом и без жертв. Но что он таил в себе, об этом и к вечеру не догадывался еще никто.
На другой день движение не только не падает, но вырастает вдвое: около половины промышленных рабочих Петрограда бастует 24 февраля. Рабочие являются с утра на заводы, не приступая к работе, открывают митинги, затем начинаются шествия к центру…
В течение всего дня толпы народа переливались из одной части города в другую, усиленно разгонялись полицией, задерживались и оттеснялись кавалерийскими и отчасти пехотными частями. Наряду с криком «долой полицию!» раздавалось все чаще «ура!» по адресу казаков. Это было знаменательно. К полиции толпа проявляла свирепую ненависть. Конных городовых гнали свистом, камнями, кусками льда. Совсем по-иному подходили рабочие к солдатам. Вокруг казарм, около часовых, патрулей и цепей стояли кучки рабочих и работниц и дружески переговаривались с ними. Это был новый этап, который вырос из стачки и из очной ставки рабочих с армией. Такой этап неизбежен в каждой революции. Но он всегда кажется новым и действительно ставится каждый раз по-новому: люди, которые читали и писали о нем, не узнают его в лицо…
Перелом в армии обнаружился прежде всего на примере казаков, исконных усмирителей и карателей. Это не означает, однако, что казаки были революционнее других. Наоборот, эти крепкие собственники, на собственных лошадях, дорожившие своими казацкими обычаями, презиравшие простых крестьян, недоверчивые к рабочим, заключали в себе много элементов консерватизма. Но именно поэтому перемены, вызванные войною, особенно ярко были заметны в них. А кроме того, ведь именно их дергали во все стороны, их посылали, их сталкивали лицом к лицу с народом, их нервировали и первыми подвергали испытанию. Им все это осточертело, они хотели домой и подмигивали: делайте, мол, если умеете, мы мешать не будем. Однако все это были лишь многозначительные симптомы. Армия еще армия, она связана дисциплиной, и основные нити в руках монархии. Рабочие массы безоружны. Руководители и не помышляют еще о решающей развязке…
25-го стачка развернулась еще шире. По правительственным данным, в ней участвовало в этот день 240 тысяч рабочих. Более отсталые слои подтягиваются к авангарду, бастует уже значительное число мелких предприятий, останавливается трамвай, не работают торговые заведения. В продолжение дня к стачке примкнули и учащиеся высших учебных заведений. Десятки тысяч человек стекаются к полудню к Казанскому собору и примыкающим к нему улицам. Делаются попытки устраивать уличные митинги, происходит ряд вооруженных столкновений с полицией. У памятника Александру III выступают ораторы. Конная полиция открывает стрельбу. Один оратор падает раненый. Выстрелами из толпы убит пристав, ранен полицмейстер и еще несколько полицейских. В жандармов бросают бутылки, петарды и ручные гранаты. Война научила этому искусству. Солдаты проявляют пассивность, а иногда и враждебность к полиции. В толпе возбужденно передают, что, когда полицейские начали стрельбу по толпе возле памятника Александру III, казаки дали залп по конным фараонам (такова кличка городовых), и те принуждены были ускакать. Это, видимо, не легенда, пущенная в оборот для поднятия собственного духа, так как эпизод, хоть и по-разному, подтверждается с разных сторон…
Постараемся яснее представить себе внутреннюю логику движения. Под флагом «женского дня» 23 февраля началось долго зревшее и долго сдерживавшееся восстание петроградских рабочих масс. Первой ступенью восстания была стачка. В течение трех дней она ширилась и стала практически всеобщей. Это одно придавало массе уверенность и несло ее вперед. Стачка, принимая все более наступательный характер, сочеталась с демонстрациями, которые сталкивали революционную массу с войсками. Это поднимало задачу в целом в более высокую плоскость, где вопрос разрешается вооруженной силой. Первые дни принесли ряд частных успехов, но более симптоматического, чем материального характера.
Революционное восстание, затянувшееся на несколько дней, может развиваться победоносно только в том случае, если оно повышается со ступени на ступень и отмечает новые и новые удачи. Остановка в развитии успехов опасна, длительное топтание на месте гибельно. Но даже и самих по себе успехов мало, надо, чтобы масса своевременно узнавала о них и успевала их оценить. Можно упустить победу и в такой момент, когда достаточно протянуть руку, чтобы взять ее. Это бывало в истории.
Три первых дня были днями непрерывного повышения и обострения борьбы. Но именно по этой причине движение достигло того уровня, когда симптоматические удачи становились уже недостаточными. Вся активная масса вышла на улицы. С полицией она справлялась успешно и без труда. Войска в последние два дня уже были втянуты в события: на второй день – только кавалерия, на третий – также и пехота. Они оттесняли и преграждали, иногда попустительствовали, но к огнестрельному оружию почти не прибегали. Сверху не торопились нарушать план, отчасти недооценивая то, что происходит, – ошибка зрения реакции симметрично дополняла ошибку руководителей революции, – отчасти не будучи уверены в войсках. Но как раз третий день, силою развития борьбы, как и силою царского приказа, сделал неизбежным для правительства пустить в ход войска уже по-настоящему. Рабочие поняли это, особенно передовой слой, тем более что накануне драгуны уже стреляли.
Вопрос вставал теперь в полном объеме перед обеими сторонами».
11 марта перед станцией, куда прибывал Николай, сгрудилась толпа, и роте Волынского полка было приказано открыть огонь. Солдаты стреляли поверх голов собравшихся. «Такое развитие событий неизбежно в каждой революции», – пишет Троцкий. Тем не менее нет точных теоретических формул, применимых к любому восстанию, что и доказали события того же дня, когда солдаты открыли огонь прямо по толпе, убив около шестидесяти человек.
Видимо, пик событий, который привел к роковому единению рабочих и солдат, пришелся на ночь с 11 на 12 марта. Васильев, директор департамента полиции, пригласил к обеду Протопопова, некомпетентного и презираемого министра внутренних дел. К полуночи Васильев предстал перед кабинетом министров с докладом о мерах, которые он предпринял для восстановления мира и порядка:
«Было три часа утра, когда я вернулся домой. Министры не скрывали от меня своей обеспокоенности и растерянности. Чувство лежащей на них тяжелой ответственности подавило и меня; мне передалась и их нервозность. Я так устал, что долго не мог уснуть.
В шесть утра меня разбудил резкий телефонный звонок. Градоначальник сообщил, что солдат гвардейского Волынского полка Кирпичников только что убил своего офицера капитана Лашкевича; убийца скрылся, настроение в полку тревожное. Эта новость потрясла меня; теперь я убедился, как глубоко анархия проникла в казармы. Убийство произошло в воинской части; поэтому я не мог действовать напрямую и связался по телефону с генералом Хабаровым. Бесполезно. Обнаружить губернатора не удалось, и по неопределенным ответам, которые мне давали, я не мог понять, куда он делся. Рядовой Кирпичников, который скрылся за границей, потом наивно признался – убежал потому, что не знал, какая судьба его ждет через час: то ли он будет национальным героем, то ли его повесят. Его слова обрисовывают ситуацию: никто в Петрограде не имел ни малейшего представления, какой оборот примут события.
В окно я видел, что на улицах царит необычное возбуждение. Сновали военные машины; издалека доносились звуки выстрелов. Опять зазвонил телефон, и снова градоначальник сообщил мне плохие новости: генерал Добровольский, командир гвардейской саперной части, убит своими подчиненными. События развивались стремительно: Волынский полк, который восстал после убийства капитана Лашкевича, выгнал из казарм своих офицеров. Мятежники объединились с Преображенским и Литовским гвардейскими полками, чьи казармы располагались неподалеку от них. Им удалось успешно захватить Арсенал на Литейном. По улицам носились солдаты, вооруженные винтовками и пулеметами. Ревущая толпа ворвалась в тюрьму предварительного заключения и открыла камеры; скоро то же самое произошло во всех тюрьмах города. Полицейские участки почти по всему городу были захвачены толпой. Полицейских, которые не успели переодеться в штатское платье, растерзали. Огонь довершил остальное. Большинство из этих событий имело место в районе Литейного проспекта. По телефону мне сообщили, что преступники, которых освободили мятежники, поджигают здания петроградских судебных присутствий, что означало невосполнимые потери и уничтожение архивов, которые потом было невозможно восстановить.
Больше не было никаких сомнений: ситуация обретает исключительно серьезный характер. Петроград вот уже несколько дней был в руках военных властей, которые оказались бессильны предотвратить убийства офицеров революционно настроенными солдатами и подавить мятеж. Последующие события это убедительно подтвердили. Восставшие части разоружили своих офицеров; любая попытка сопротивления означала смерть. Один саперный батальон, который остался верен присяге и всеми силами сопротивлялся мятежникам, был разгромлен. Восставшим удалось захватить офицерскую школу на Кирочной и разоружить ее обитателей. Число мятежников росло буквально на глазах. Толпа двинулась к центру города, не упуская по пути возможности пограбить.
Мост, соединяющий район Литейного с Выборгской стороной к северу от Невы, какое-то время удерживался полицейскими офицерами с пулеметами, но вскоре им пришлось уступить огромному численному преимуществу. Толпа ворвалась в казармы Московского гвардейского полка. Несколько подразделений с оружием в руках оказали сопротивление, но оно было быстро подавлено, и Московский полк присоединился к мятежу.
Я собирался отправиться в свою резиденцию и попытаться увидеться с Протопоповым, который обитал в главном здании. Когда я уже был на пороге, появился курьер и сообщил, что из-за плотной перестрелки добраться до Литейного проспекта практически невозможно. Полиция прилагает последние силы, чтобы помешать бунтовщикам перебраться через мост. Курьер умолял меня не рисковать жизнью понапрасну и подождать, пока положение дел не прояснится.
Единственное, что мне оставалось, – это поддерживать телефонную связь с департаментом полиции. Мой секретарь сказал, что они работают как обычно, хотя сильно нервничают. Поскольку у меня были серьезные основания опасаться, что мятежники могут пойти на штурм, я отдал приказ отослать всех сотрудников по домам. Мой приказ пришел как раз вовремя. Несколько погодя снова позвонил секретарь и сообщил, что в здание ворвалась разъяренная толпа. Я тут же дал указание сжечь книги с адресами личного состава и секретных агентов. Как я выяснил позже, «свободный народ» разграбил все кабинеты. Кое-кто из вожаков пытались, конечно же из своих личных интересов, найти отделы опознания преступников. Все записи, фотографии, альбомы с отпечатками пальцев обыкновенных преступников, воров, грабителей и убийц были выброшены во двор и торжественно сожжены. Кроме того, инсургенты взломали мой денежный ящик и присвоили примерно 25 000 рублей казенных денег. От департамента полиции толпа направилась к апартаментам Протопопова и разгромила их. Потом, судя по рассказам очевидцев, из квартиры министра выходили прилично одетые, закутанные с головой женщины, неся с собой ценные предметы. В течение последовавших часов я беспрерывно звонил по самым разным номерам. Власти в Москве хотели любой ценой выяснить, что происходит в Петрограде. Я ответил полковнику Мартынову, главе охранки, что разразился серьезный мятеж и я прилагаю все силы, чтобы держать его в курсе дела. Царил такой хаос, что ни одна из сторон, ни мятежники, ни военные власти, не подумали, что надо занять центральную телефонную станцию. Она продолжала нормально работать, сохраняя полный нейтралитет, что позволяло и представителям сил порядка, и революционным лидерам координировать свои действия. Тем не менее длилось это недолго: сотрудники станции стали оставлять свои рабочие места, чтобы как можно скорее добраться до дома, и добиться соединения становилось все труднее и труднее. В конце замолчала и прямая линия связи с Зимним дворцом. После этого я не смог созвониться и с охранным отделением.
Поэтому я удивился, услышав телефонный звонок от Протопопова, который нашел убежище в Мариинском дворце. В нескольких словах я дал ему общее представление о ситуации, добавив, что военные власти оказались совершенно бессильны и войска перешли на сторону мятежников.
Вскоре я в сопровождении жены и моего друга Гвоздева покинул свою квартиру. По правде говоря, я не знал, куда идти, хотя у меня был при себе заграничный паспорт на чужую фамилию. На мгновение я было подумал, не встретиться ли мне с братом, который жил в гостинице «Астория», но по размышлении решил этого не делать и, как потом выяснилось, был прав. Отель был почти полностью занят мятежниками. Затем я отправился к приятелю, инженеру А., который жил неподалеку от гостиницы. Нас тепло приняли, но о возможности поспать нельзя было даже и подумать. За окнами постоянно раздавался оглушительный грохот винтовочных выстрелов и пулеметных очередей. По улицам носились тяжелые грузовики, забитые вооруженными людьми. Мы провели очень беспокойную ночь».
Утром 12 марта Василия Витальевича Шульгина, депутата Думы, неожиданно разбудил другой депутат Думы Шингарев. Они вместе отправились на заседание Думы в Таврический дворец. Шульгин был образованным человеком, аристократом старой школы, не привыкшим к поведению толпы и неминуемому хаосу, в который угрожала превратиться его упорядоченная жизнь. Но в это утро он торопливо согласился с другими депутатами, что необходимо сформировать Временный комитет, который будет исполнять свои обязанности, пока царь не решит, какие действия необходимо предпринять в связи с революцией.
«Было девять утра… Неистово звонил телефон…
– Алло!
– Вы, Василий Витальевич?.. Говорит Шингарев… Надо ехать в Думу… Началось…
– Что такое?
– Началось… Получен Указ о роспуске Думы… В городе волнение… Надо спешить… Занимают мосты… мы можем не добраться… Мне прислали автомобиль. Приходите сейчас ко мне… Поедем вместе…
– Иду…
* * *
Это было утром 12 марта 1917 года. Уже несколько дней мы жили на вулкане… В Петрограде не стало хлеба – транспорт сильно разладился из-за необычайных снегов, морозов и, главное, конечно, из-за напряжения войны… Произошли уличные беспорядки… Но дело было, конечно, не в хлебе… Это была последняя капля… Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые сочувствовали бы власти… И даже не в этом… Дело было в том, что власть сама себе не сочувствовала…
Не было, в сущности, ни одного министра, который верил бы в себя и в то, что он делает…
Класс былых властителей сходил на нет… Никто из них не способен был стукнуть кулаком по столу… Последнее время министры совершенно перестали даже приходить в Думу…
* * *
Мы поехали… Шингарев говорил:
– Вот ответ… До последней минуты я все-таки надеялся – ну вдруг просветит Господь Бог – уступят… Так нет… Не осенило – распустили Думу… А ведь это был последний срок… И согласие с Думой, какая она ни есть, – последняя возможность… избежать революции…
– Вы думаете, началась революция?
– Похоже на то…
– Так ведь это конец?
– Может быть, и конец… а может быть, и начало…
– Нет, вот в это я не верю. Если началась революция, – это конец.
– Может быть… Если не верить в чудо… А вдруг будет чудо!.. Во всяком случае, Дума стояла между властью и революцией… Если нас по шапке, то придется стать лицом к лицу с улицей… А ведь… А ведь, в сущности, надо было продержаться еще два месяца…
– До наступления?
– Конечно. Если бы наступление было неудачно – все равно революции не избежать… Но при удаче…
– Да, при удаче – все бы забылось.
* * *
Мы выехали на Каменоостровский… Несмотря на ранний для Петрограда час, на улицах была масса народу… Откуда он взялся? Возникало такое впечатление, что фабрики забастовали… А может быть, и гимназии… а может быть, и университеты…
Толпа усиливалась по мере приближения к Неве… За памятником «Стерегущему», не помещаясь на широких тротуарах, она движущимся месивом запрудила проспект…
Автомобиль стал…
– Назад мотор! Проходу нет!
Шингарев высунулся в окошко:
– Послушайте. Мы депутаты Государственной думы. Пропустите нас – нам необходимо в Думу.
Студент подбежал к окошку:
– Вы, кажется, господин Шингарев?
– Да, да, я Шингарев… пропустите нас.
– Сейчас.
Он вскочил на подножку:
– Товарищи – пропустить! Это депутаты Государственной думы – товарищ Шингарев.
Бурлящее месиво раздвинулось – мы поехали… со студентом на подножке. Он кричал, что это едет «товарищ Шингарев», и нас пропускали. Иногда отвечали:
– Ура товарищу Шингареву!
Впрочем, ехать студенту было недолго. Автомобиль опять стал. Мы были уже у Троицкого моста. Поперек его стояла рота солдат.
– Вы им скажите, что вы в Думу, – сказал студент. И исчез… Вместо него у автомобиля появился офицер. Узнав, кто мы, он очень вежливо извинился, что задержал.
– Пропустить. Это депутаты Государственной думы…
Мы помчались по совершенно пустынному Троицкому мосту. Шингарев сказал:
– Дума еще стоит между «народом» и «властью». Ее признают оба… берега… пока… (На левом берегу, где тянулась Выборгская сторона, располагались заводы и рабочие кварталы, а на правом – магазины, банки, дворцы и Дума.)
На том берегу (правом) было пока спокойно… Мы мчались по набережной, но все это, давно знакомое, казалось жутким… Что будет?
На Шпалерной мы встретились с похоронной процессией… Хоронили депутата Государственной думы М. М. Алексеенко… Жалеть или завидовать?
* * *
Стали съезжаться… Делились вестями – что происходит… Рабочие собрались на Выборгской стороне… Их штаб – вокзал, по-видимому… Кажется, там идут какие-то выборы, летучие выборы, поднятием рук… Взбунтовался полк какой-то… Кажется, Волынский… Убили командира… Казаки отказались стрелять… братаются с народом… На Невском баррикады.
О министрах ничего не известно… Говорят, что убивают городовых… Их почему-то называют «фараонами»…
* * *
Стало известно, что огромная толпа народу – рабочих, солдат и «всяких» – идет в Государственную думу… Их тысяч тридцать.
В кабинете председателя Думы Родзянко было спешно созвано совещание. Господствовала нерешительность. Собравшиеся хотели знать, на чьей стороне Дума – то ли старого правительства, то ли на стороне народа. Их требования остались висеть в воздухе.
В эту минуту у дверей заволновались, затолпились, раздался какой-то повышенный разговор, потом расступились и в помещение вбежал офицер…
Он перебил заседание громким заскакивающим голосом:
– Господа депутаты, я прошу защиты!.. Я – начальник караула, вашего караула, охранявшего Государственную думу… Ворвались какие-то солдаты… Моего помощника тяжело ранили… Хотели убить меня… Я едва спасся… Что же это такое? – помогите…
Кажется, Родзянко ответил ему, что он в безопасности – может успокоиться…
В эту минуту заговорил Керенский:
– Происшедшее подтверждает, что медлить нельзя!.. Я постоянно получаю сведения, что войска волнуются!.. Они выйдут на улицу… Я сейчас еду по полкам… Необходимо, чтобы я знал, что я могу им сказать. Могу ли я сказать, что Государственная дума с ними, что она берет на себя ответственность, что она становится во главе движения?..
Не помню, получил ли ответ Керенский… Кажется, нет. Но его фигура вдруг выросла в «значительную» в эту минуту… Он говорил решительно, властно, как бы не растерявшись… Слова и жесты были резки, отчеканены, глаза горели…
– Он у них диктатор… – прошептал кто-то около меня.
Кажется, в эту минуту, а может быть, и раньше, я попросил слова… У меня было ощущение, что мы падаем в пропасть. Бессознательно я уже приготовился к смерти. И мне, очевидно, хотелось сказать всем нам эпитафию, сказать, что мы умираем такими, как жили:
– Когда говорят о тех, кто идет сюда, то надо прежде всего знать – кто они? Враги или друзья? Если они идут сюда, чтобы продолжать наше дело – дело Государственной думы, дело России, если они идут сюда, чтобы еще раз с новой силой провозгласить наш девиз: «Все для войны», то тогда они наши друзья, тогда мы с ними… Но если они идут с другими мыслями, то они друзья немцев… И нам нужно сказать им прямо и твердо: «Вы – враги, мы не только не с вами, мы против вас!»
Кажется, это заявление произвело некоторое впечатление, но не имело последствий… Керенский еще что-то говорил. Он стоял, готовый к отъезду, решительный, бросающий резкие слова, чуть презрительный…
Он рос… Рос на начавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время как мы не умели даже ходить.
* * *
А улица надвигалась и вдруг обрушилась…
Эта тридцатитысячная толпа, которой грозили с утра, оказалась не мифом, не выдумкой от страха…
И это случилось именно как обвал, как наводнение. Говорят (я не присутствовал при этом), что Керенский из первой толпы солдат, поползших на крыльцо Таврического дворца, попытался создать «первый революционный караул»:
– Граждане солдаты, великая честь выпадает на вашу долю – охранять Государственную думу… Объявляю вас первым революционным караулом…
Но этот «первый революционный караул» не продержался и первой минуты… Он сейчас же был смят толпой…»
Нам еще придется много услышать о Керенском, лидере фракции трудовиков, партии левого крыла в Государственной думе. Он был одним из двух левых думцев, избранных 12 марта во Временный комитет Думы. И с этого дня его звезда стала стремительно подниматься в столпотворении российской политики.
Керенский сам говорил о себе, что стал политическим заключенным мартовских дней. Скорее всего, именно Протопопов и подхлестнул мартовское восстание, пытаясь подавить его и призвать толпу к порядку. Во всяком случае, он, как креатура Распутина, был взят под арест. Шульгин описывает эту сцену:
«Вдруг я почувствовал, что из кабинета Волконского (вице-председателя) побежало особенное волнение, о причине которого мне сейчас же шепнули:
– Протопопов арестован!..
И в это же мгновение я увидел в зеркале, как резко распахнулась дверь в кабинете Волконского и ворвался Керенский. Он был бледен, глаза горели, рука поднята… Этой протянутой рукой он как бы резал толпу… Все его узнали и расступились в стороны, просто испугавшись его вида. И тогда в зеркале я увидел за Керенским солдат с винтовками, а между штыками тщедушную фигурку с совершенно безумным, страшно съежившимся лицом… Я с трудом узнал Протопопова.
– Не сметь прикасаться к этому человеку!
Это кричал Керенский, стремительно приближаясь, бледный, с невероятными глазами, одной поднятой рукой разрезая толпу, а другой, трагически опущенной, указывая на «этого человека».
Этот человек был «великий преступник против революции» – «бывший» министр внутренних дел.
– Не сметь прикасаться к этому человеку!
Казалось, он ведет его на казнь, на что-то ужасное. И толпа расступилась… Керенский пробежал мимо, как горящий факел революционного правосудия, а за ним влекли тщедушную фигурку в помятом пальто, окруженную штыками… Мрачное зрелище… Прорезав кабинет Родзянко, Керенский с этими же словами ворвался в Екатерининский зал, битком набитый солдатами, будущими большевиками и всяким сбродом…
Здесь начиналась реальная опасность для Протопопова. Здесь могли наброситься на эту тщедушную фигурку, вырвать ее у часовых, убить, растерзать – настроение было накалено против Протопопова до последней степени.
Но этого не случилось. Пораженная этим странным зрелищем – бледным Керенским, влекущим свою жертву, – толпа раздалась перед ними.
– Не сметь прикасаться к этому человеку!
И казалось, что «этот человек» вовсе уже и не человек…
И пропустили».
Сдержанный Шульгин с явным отвращением относился к мелодраматическому поведению Керенского.
«Я не знаю, по его ли приказанию или по принципу «самозарождения», но по всей столице побежали добровольные жандармы «арестовывать»… Во главе какой-нибудь студент, вместо офицера, и группа «винтовщиков» – солдат или рабочих, чаще тех и других… Они врывались в квартиры, хватали «прислужников старого режима» и волокли их в Думу.
Одним из первых был доставлен Щегловитов, председатель Государственного совета, бывший министр юстиции, тот министр, при котором был процесс Бейлиса. Тут в первый раз Керенский развернулся.
Керенский остановился против бывшего сановника с видом вдохновенным:
– Иван Григорьевич Щегловитов – вы арестованы!
Властные грозные слова… «Лик его ужасен».
– Иван Григорьевич Щегловитов… ваша жизнь в безопасности… Знайте: Государственная дума не проливает крови.
Какое великодушие!.. «Он прекрасен».
В этом сказался весь Керенский: актер до мозга костей, но человек с искренним отвращением к крови в крови. «Без пролития крови» – так говорили отцы-инквизиторы, сжигая свои жертвы…
Так и Керенский: сжигая Россию на костре «свободы», провозглашал:
– Дума не проливает крови…
Но как бы там ни было, лозунг был дан. Лозунг был дан, и дан в форме декоративно-драматической, повлиявшей на умы и сердца.
Скольким это спасло тогда жизнь…
* * *
Было уже поздно… Мне ужасно захотелось есть. И притом надо было посмотреть, что делается… Я стал пробиваться к буфету. Все было забито народом. Я толкался среди этой бессмысленной толпы… наконец поток вынес меня в длинный коридор, который через весь корпус Думы ведет к ресторану… Вдруг кто-то, стоявший рядом со мной, сказал что-то. Я посмотрел на него. Это был солдат.
– У вас тут нет? В Государственной думе?
Сначала я подумал, что он, наверное, просит папирос… но вдруг понял, что это другое.
– Чего нет? Что вы хотите?
– Да офицеров…
– Каких офицеров?
– Да каких-нибудь… Чтоб были подходящие.
Я удивился – «чтобы были подходящие». А он продолжал, чуть оживившись:
– Потому как я нашим ребятам говорил: не будет так ладно, чтобы совсем без офицеров… Они, конечно, серчают на наших… Действительно, бывает… Ну а как же так совсем без них? Нельзя так… Для порядка надо бы, чтоб тебе был офицер… Может, у вас в Государственной думе найдутся какие – подходящие?
* * *
На всю жизнь остались у меня в памяти слова этого солдата. Они искали в Думе «подходящих» офицеров. Не нашли… И не могли найти… У Думы «своего офицерства» не было… Ах, если бы оно было!.. Если бы оно было, хотя бы настолько подготовленных, насколько была мобилизована «противоположная сторона»…
* * *
До поздней ночи продолжалось все то же самое. Митинг в Думе и хлещущая толпа через все залы, прибывающие части с «Марсельезой». Звонки телефонов. Десятки, сотни растерянных людей, требовавших ответа, что делать… Кучки вооруженных, приводивших арестованных… К этому надо прибавить писание «воззваний» от комитета Государственной думы и отчаянные вопли Родзянко по прямому проводу в Ставку с требованием немедленно на что-то решиться, что-то сделать, действовать.
Увы! Как потом стало известно, в этот день государыня Александра Федоровна телеграфировала государю, что «уступки необходимы».
Эта телеграмма опоздала на полтора года. Этот совет должен был быть подан осенью 1915 года. «Уступками» надо было расплатиться тогда – за великое отступление «без снарядов». Уплатить по этому счету и предлагало большинство Четвертой Государственной думы. Но тогда уплатить за потерю двадцати губерний отказались… Теперь же… Теперь же, кажется, было поздно… Цена «уступкам» стремительно падала… Какими уступками можно было бы удовлетворить это взбунтовавшееся море?
Той же ночью, если я правильно помню, Дума вроде сделала попытку вооружиться. Учреждена была, кажется, должность коменданта Государственной думы… Выбившись из сил, мы дремали в креслах… Просыпаясь время от времени, я думал о том, что можно сделать… Где выход, где выход?..»
Вечером того же дня, 12 марта, несколько человек собрались в другой части Таврического дворца, чтобы в соответствии с опытом 1905 года организовать Совет рабочих депутатов. В его состав были включены почти все левые элементы, в том числе социал-революционеры, меньшевики и большевики. И только позже различные группы стали действовать в соответствии со своими программами. Сначала левые думцы типа Керенского могли присутствовать в обоих лагерях, в Думе и в Советах, и посему мы видим, как они лихорадочно носятся взад и вперед по Таврическому дворцу, с митинга на митинг. Н. Суханов описал свои впечатления от первого митинга Советов, который состоялся в 9 часов утра 12 марта. Примерно 50 рабочих и двадцать солдат, собранных телефонными звонками и курьерами, представляли Петроград.