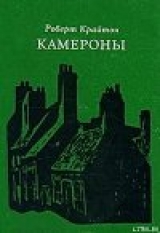
Текст книги "Камероны"
Автор книги: Роберт Крайтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
5
Он услышал три долгих гудка сирены сегодня опять не будет работы – и обрадованно повернулся на бок, а когда наконец проснулся, то почувствовал, что впервые на своей памяти находится один у себя дома. То, что он лежал в постели, когда солнце высоко стояло в небе, а в доме царила тишина, показалось ему такой роскошью, словно он что-то крал от жизни. «Краденые сладости – самые вкусные», – подумал Гиллон (вот этого Маркс никогда не понимал) и решил, что пора ему взяться за ту книжку, которую мистер Селкёрк в последний раз дал ему.
Книга называлась «Страдалец-человек» Уинвуда Рида: Селкёрку хотелось, чтобы Гиллон постиг душевное состояние «другой стороны», тех, кого именуют «они», правителей, Полностью Обеспеченных.
Гиллону трудно давалась книга. Говорилось в ней о том, что человечество страдало, чтобы мир достиг нынешнего уровня процветания, а потому будет лишь справедливо, чтобы человечество продолжало и дальше страдать, обеспечивая лучшую участь тем, кто придет после нас: ведь страдали же ради нас наши предки. Мистер Селкёрк испещрил поля книги комментариями, как правило в одно слово; Гиллон слышал такие слова в шахте, но никогда еще не видел на бумаге.
Отказывай себе во всем сегодня, чтобы лучше жилось завтра. – в этом была вся суть. Надо Мэгги повесить это над кроватью, подумал Гиллон и вспомнил о «дискуссии», которая была у них в доме накануне.
– Ну да, конечно, все это прекрасно, но у меня всего одна жизнь! – кричал Роб-Рой. И Гиллон вдруг подумал, что у него в семье слишком много кричат. Совсем от рук отбились. – Меня не будет завтра, и я не не смогу заново начать жизнь. Мне надо брать от нее то, что я могу, сегодня.
Да. брать. Брать. Только об этом ты и думаешь, – сказала Мэгги. – В этом вся беда у вас, социалистов. Вы все хотите получить сейчас. Ничего не видите дальше очередной кружки пива.
«Роб-Рой слишком много пьет», – подумал Гиллон. Тут она была права.
«Кто пьет, чуток перебирая, перебирает через край», – говаривал его отец.
Гиллон снова взялся за книгу и продолжал читать, пока не почувствовал, что кто-то появился в доме или стоит у порога. Тогда он отложил книгу и стал прислушиваться.
– Ну как ты можешь потратить целое утро на то, чтобы гонять мяч?! – раздался голос Мэгги.
– Должен же человек когда-нибудь развлечься. – Это был голос Эндрью.
– Глупости. Дети не нуждаются в развлечениях.
Такие словесные перепалки случались у них не впервые.
Поразило Гиллона то, с какой легкостью происходил этот обмен любезностями. Эндрью был единственным, кто мог так говорить с матерью, потому что они понимали друг друга, и это взаимопонимание существовало между ними всегда. Гиллон услышал звук мяча, подскакивающего на мостовой.
– Родители обязаны выбивать из детей баловство и внушать им чувство ответственности.
– Ерунда все это. Если только работать и никогда не поиграть – от этого и скиснуть можно.
– Оно конечно, да только киснут-то одни богатые.
А она приперла его к стенке. Гиллон слышал, как рассмеялся Эндрью, что случалось не часто. Он обнаружил, что ему неприятна эта духовная близость между матерью и сыном, и сам устыдился своих чувств. Ему казалось, что он выше этого. Ведь если он хороший отец, то должен только приветствовать такие отношения между ними. Наверно, Эндрью показал сейчас матери какой-то прием в футболе.
– Видимо, немало ты потратил времени, чтобы научиться так гонять мяч.
– Немало.
– А ты уже прочитал весь Справочник мастера? – неожиданно перейдя на серьезный тон, спросила она.
– Нет еще, – сказал Эндрью, – потому что это очень трудно.
– Тупица, – сказала мать. – Если Арчи Джапп может быть мастером, то и ты можешь.
– Но его ведь назначили, ему не пришлось сдавать экзамены на диплом.
– Ну, а ты сдашь. Знаешь, что говорил твой дедушка Том: «Чего ты хочешь – играть или денежки получать? То и другое зараз нельзя».
– Я такого правила не знаю. Мне б хотелось платить людям, чтоб они работали на меня, а я бы мог играть.
Гиллон знал, что именно это ей и хотелось услышать от него. Она жарила пирожки и крикнула Эндрью, чтоб он шел в дом: она даст ему пирожок.
– Да нет, – сказал Эндрью. – Я не голоден. – Им никогда не давали горячих пирожков, разве что в особо торжественных случаях, потому что только дай – тут же набросятся и все съедят.
– Иди в дом! – приказала она.
Эндрью быстро съел пирожок: он чувствовал себя немного виноватым оттого, что ел один. А Гиллон лежал, затаив дыхание: нельзя было сейчас выдавать свое присутствие – слишком долго он молчал. Мэгги смазала пирожок маслом – неслыханное дело в тяжелые времена – и на масло еще капнула медом. А потом сверх того дала Эндрью кружку молока. Он одним глотком опустошил ее и побежал к двери.
– Смотри остальным не рассказывай, – крикнула она ему вслед.
– Угу.
– Да!
– Да.
Дверь за Эндрью захлопнулась. Они остались одни. Гиллон не знал, что делать, с каким лицом выйти к ней. Вместе с тем ему не хотелось, чтобы она сама обнаружила его в чистой половине дома, точно он там прятался. Он пригладил волосы – ему хотелось выглядеть как можно презентабельнее, – подошел к двери и остановился на пороге, дожидаясь, когда она увидит его. Вот она его увидела и вздрогнула, на лице ее появилось удивление, рот приоткрылся, округлившись, словно она произносила «о», но она тут же овладела собой.
– А я-то думала, что ты давно ушел, – сказала она.
– Куда?
– Не знаю. Туда, куда ты всегда ходишь. В свою распрекрасную читальню к распрекрасному мистеру Селкёку.
Это было так похоже на нее – взять инициативу в свои руки и перейти в наступление, – что, несмотря на весь свой гнев, Гиллон невольно улыбнулся.
– Но раз уж ты дома, может, хоть сходишь и принесешь воды.
– Угу, сейчас принесу.
Он взял ведра и коромысло и пошел по улице к колодцу. Пусть побудет одна и выпустит пар, подумал Гиллон, ей это полезно, а ему полезно поразмыслить, какую цену она должна за это заплатить. У колодца, дожидаясь своей очереди среди женщин и детишек, которые, как правило, таскали воду в Питманго, он засмотрелся на дочку Гиллеспи, стоявшую впереди него. Ему понравилась ее осанка, прямая спина, обратил он внимание и на ее волосы. Красивые у нее были волосы, возбуждавшие желание. Раньше он никогда не считал ее красивой или желанной и только сейчас увидел ее красоту, испорченную, как всякая красота в Питманго, – в данном случае испорченную ведром для воды, болтавшимся у нее за спиной. Сколько красоты и молодости пропадает зазря в этом месте, подумал Гиллон. Он пошел назад по улице, выплескивая воду из ведер, потому что был слишком высокий и не умел балансировать коромыслом.
– Я бы съел пирожок на завтрак, – сказал он.
Мэгги подала ему горячий пирожок.
– С маслом и с медом.
Тут она все поняла.
– И с молоком.
Она не сразу сказала, что молока больше нет.
– Больше нет?
– Нет.
– Ни капли? Это очень плохо.
Гиллону казалось, что он жует опилки, но он все-таки доел пирожок. Он чувствовал себя странно от того, что они были совсем одни в доме.
– Почему ты так причесываешься?
– Это принято в Питманго. Все здесь так волосы носят.
– Распусти их. Пусть лежат по плечам.
– Тогда мне придется снять сетку.
– Так сними ее. Ужасное слово – «сетка». Красивые волосы, засунутые в сетку.
Она вытащила из волос шпильки, сняла толстую вязаную сетку, и темные ее волосы упали до самой талии. Он уже почти забыл, что она может так выглядеть. Она повернулась к нему и увидела его лицо.
– Ну, вот. Чего ты еще от меня хочешь?
– Пойти с тобой на Горную пустошь.
Она явно не хотела выполнять его просьбу, но хоть надулась, а возражать не стала, и это возбудило его.
– Так ты пойдешь? – Это уже было зря. Спрашивать не следовало.
– Да, пойду.
Потому что, как он прекрасно знал, она чувствовала себя виноватой и теперь считала нужным за это платить. Она совершила преступление, на взгляд Камеронов, самое серьезное после отказа внести свою лепту в кубышку: она завела любимчика в семье.
– Не могу я так выйти на люди, – сказала Мэгги. – Сначала спрячу волосы в сетку.
– А на пустоши снова их распустишь.
– Да, распущу. – Она знала то, в чем не отдавал себе отчета Гиллон: что он никогда не простит ей, если она не заплатит за свою вину. Но теперь ей уже и самой хотелось с ним пойти.
Они шли по улице, и все смотрели на них. Чтоб муж и жена просто вот так прогуливались – прогуливались по улице. – такое не часто случалось видеть.
– Надо было тебе надеть свою шляпу, – сказала Мэгги.
Почти все ребятишки резвились на Спортивном поле, а женщины хлопотали в доме, мужчины же сидели по двое – по трое на крыльце и отдыхали, подставив лицо солнцу. Это был редкий, удивительный для конца марта день, теплый, ясный и почти безветренный, и они сидели в вязаных исподних рубашках, впивая в себя солнце, и сильные руки их из-за поистине рыбьей белизны казались такими никудышными, хотя то тут, то там огромный синяк или глубокий рубец – след раны от несчастного случая – обрисовывал мускул, подчеркивая его на этой белизне. Иные углекопы кивали Гиллону, другие острили, подзадоривали – все те же старые шуточки насчет того, какой он высокий и тощий (точно ворон, ястреб, аист) да какая у него шляпа (даже если в данный момент ее и не было у него на голове), насчет того, что он пришлый (чужак, как они это называли), и еще насчет гор – стародавние шуточки про Нагорье и тех, кто оттуда.
– И как только им не надоест говорить все одно и то же? – заметила Мэгги.
– Пока еще не надоело, – сказал Гиллон.
В конце Шахтерского ряда – там, где начинается Тропа углекопов, – один из рабочих сошел с крыльца и поманил к себе Гиллона.
– Я подумал, надо бы тебе знать, что ты попал в черный список Брозкока, – сказал он, когда Гиллон отошел от Мэгги. – Только не говори, что это я тебе сказал.
– А что это такое?
– Ну, список, кто у него на подозрении. Дерьмовая штука. Там у него всякие агитаторы, смутьяны.
– А откуда, черт возьми, ты-то узнал? И с чего он записал меня туда?
– Вот что, дружище, ты меня не спрашивай, откуда я узнал. Ты в описке. Ты и этот твой сынок.
– Роб-Рой?
– Угу, он самый.
Гиллон разозлился на углекопа и расстроился от того, что услышал, но он понимал, что человек хотел ему добра, и поблагодарил его.
– Я, конечно, не думал, что ты этому обрадуешься, – сказал углекоп.
Гиллон с Мэгги пошли дальше – свернули на тропу и затем вышли на Спортивное поле.
– О чем это он говорил с тобой? – спросила Мэгги.
– О чем? Да просто так, рабочие наши дела.
Она почувствовала, что он лжет, но решила не допытываться. По полю бежал мальчишка, зажав рукой нос и рот, меж пальцев у него струилась кровь, и Гиллон остановил его. Оказалось, у него шла кровь из носа и шатался зуб, но в остальном все было в порядке.
– Что случилось?
– Да этот чертов Камерон, – сказал парнишка. Он не заметил Мэгги. – Всех калечит – направо и налево.
– Но это-то был честный удар? Он ударил честно, по правилам?
– Угу, по всем правилам, – сказал парнишка и побежал домой.
А Мэгги с Гиллоном остановились и стали смотреть, как играют в регби. Собственно, играл Сэм. Он господствовал на поле – был в каждой свалке, чуть ли не в каждом прорыве, казалось, каждый мяч забивал он. Если кто-то не слишком быстро поднимался на ноги или не поднимался вообще, виноват в этом, как правило, был Сэм. Причем ничего преднамеренного тут не было – просто такой уж он был, этот Сэм. Костяк он унаследовал от Драмов – крепкий, будто из старого дуба, а быстроту движений и изящество – от Гиллона. И налетал неожиданно, как ураган. Гиллон вспомнил, что однажды он голыми руками поймал в ручье форель, схватил ее и выбросил из воды, как мог бы сделать медведь.
Джемми тоже играл, но в обороне, – крепкий, смуглый, приземистый, он налетал на нападающих, пригнувшись к земле, метя головой в низ живота, бил изо всей силы, восполняя хладнокровием пробелы в технике. Эндрью, как сразу заметил Гиллон, стоял среди зрителей. Он не обладал такой выносливостью, как братья.
– Только силы зря тратят! – сказала Мэгги.
– Говорят, Сэм мог бы уже сейчас играть за «Кауденбитеких удальцов». Один парень от них специально приезжал сюда, чтоб посмотреть, как он играет.
– Подумать только! – Она была полна сарказма.
– Но это же профессиональная команда, Мэгги.
– Вот как?
– Два фунта в неделю, а то и три.
– За что? За то, чтоб бегать по полю?
– И они могут работать, если это не слишком их утомляет. Сэм был бы самым молодым игроком во всей Шотландии.
Она обернулась и посмотрела на игру. Теперь регби уже не казалось ей пустой тратой сил.
– Где же этот человек? – спросила она с неподдельным интересом, и Гиллон чуть не расхохотался.
– Он вернется. Профессионалом можно стать только после шестнадцати лет.
Они пошли дальше, сквозь Верхний поселок – по Монкриффской аллее и Тошманговской террасе, мимо коттеджей, чьи обитатели (мастера, десятники, взрывники, стоящие на ступеньку выше обычного углекопа) сидели на крыльце своих домов, совсем как те работяги, что живут внизу.
– Что-то тут надо придумывать, – сказала Мэгги. – Этакая зряшная растрата времени и человеческих сил.
Гиллон понимал, что ею движет не забота об обществе в целом, а прежде всего забота о Камеронах: еще один день потерян навсегда, еще один день без заработка – и семидневного жалованья как не бывало, и никакие силы на свете не вернут этих дней, – а все это деньги, украденные у копилки, точно кто-то запустил в нее руку и вытащил пригоршню серебра.
Если бы заранее знать, что шахты будут закрыты, можно было бы что-то придумать, чем-то занять день – на это она и сетовала, об этом все время думала. Должен же быть какой-то способ это узнать, наверняка есть причина, которая все объясняет, но постичь ее Мэгги не могла. Были углекопы, которые считали, что шахты закрывают, как только наполнят углем все имеющиеся бадьи; другие утверждали, что это зависит от того, насколько выросли угольные отвалы, от спроса на уголь, но ни одно из этих предположений не выдерживало испытания жизнью. Случалось, шахты закрывали, когда на угольном дворе стояли пустые бадьи; случалось, их закрывали и людей отсылали но домам, хотя в книгах значились заказы на сотни тонн добротного крепкого угля.
– Почему они вам ничего не говорят, Гиллон, почему никогда не говорят заранее?
Ему не хотелось поддерживать с ней этот разговор. Пусть хоть сегодня ее мысли будут с ним.
– Я ведь уже много раз говорил тебе, – сказал Гиллон. – Они хотят, чтобы рабочие зависели от них. Им нравится держать нас на коротком поводке.
Итак, мужчины вставали поздно и бродили по дому. Чего ж тут удивительного, что углекопы так лихо справлялись с домашними делами: вытачивали и мастерили мебель, подстригали волосы, ремонтировали сапоги, изгороди, чинили любую поломку в цветниках, в огородах. У них для этого было столько свободных дней!..
Они шли через сад Белой Горлицы, и Мэгги взяла Гиллона под руку. Он возликовал, но сдержался: она должна понять, что этого недостаточно. Ему хотелось дойти до перевала на Горной пустоши, посмотреть оттуда на весеннюю голубизну залива, а потом овладеть ею – такая уж у него была мечта, – но он решил, что это затея слишком опасная, слишком долго идти, а тем временем многое может произойти между ними. На яблонях и грушах уже набухли почки, и, когда они вышли на пустошь, Гиллон, к радости своей, обнаружил, что там никого нет.
– Вот теперь снимай свой чепец.
Она выполнила его просьбу, покорная, смиренная, и это еще больше возбудило его; волосы ее рассыпались по спине, накрыв жакетку, и легкий ветерок на пустоши приподнял их и снова опустил, словно то была волна.
– Кто скажет, что ты мать семерых детей?! – воскликнул Гиллон. – Ты и представить себе не можешь, какая ты молодая. Совсем не по годам выглядишь.
– А ты не по годам ведешь себя.
Они шли по пустоши, забираясь все выше. Ему хотелось обладать ею – хотелось не меньше, чем в тот день, когда они впервые шли по этой самой пустоши к Питманго и он вдруг увидел в стороне маленькую темную рощицу. Ему хотелось сказать ей много разного, но все, что ни приходило в голову, он отвергал. Он боялся разрушать атмосферу, вроде бы возникшую между ними. Мэгги остановилась в маленькой впадине, защищенной от ветра, – чаше, залитой солнцем и уже выстланной молодым папоротником и первыми побегами весенней травы и мха, – сняла жакетку и расстегнула первую, затем вторую пуговку льняной сорочки. Несмотря на солнце, холодный ветер гулял по пустоши, а здесь, в укрытии, было тепло. Мэгги вспомнился карман в песчаных дюнах, где она грелась в тот день, когда встретила Гиллона.
– Ах ты, мой суженый в шотландской юбочке, – сказала Мэгги. – Я сразу поняла это, как только увидела тебя тогда в воде.
Он слышал и не слышал ее. Он твердил: «Угу, угу», тихо, ласково, в глубине души создавая, что излишне спешит, и тем не менее возясь с ее пуговицами, и вот наконец он получил то, чего так хотел, а она лежала на спине и смотрела, как ястребы то взмывают ввысь, то парят над самой пустошью в поисках кротов и мышей.
Когда он выдохся, она не отпихнула его, как обычно, а дала передохнуть, и, почувствовав, что можно продлить удовольствие, он эгоистично, яростно вновь овладел ею.
– Тихонько, Гиллон, – шепнула она, – времени у нас сколько хочешь, Гиллон, сколько хочешь, – и отдалась ему безоглядно, потому что в этом была ее расплата (а Мэгги всегда платила долги) и еще потому, что твердо решила – это будет в последний раз, значит, лучше уж насладиться как следует. И Гиллон никогда еще не знал такого счастья и удовлетворения. Поднявшись наконец на ноги, он почувствовал такое головокружение, что тут же снова повалился на землю, и Мэгги дала ему вздремнуть несколько минут рядом с ней на солнце.
Когда он проснулся, она стояла среди травы в своем белоснежном нижнем белье – облегающей полотняной сорочке без рукавов и коротких панталонах. Белое белье подчеркивало смуглость ее кожи, и он мог оценить, каким крепким было ее тело. Большинство женщин в Питманго, несмотря на тяжелую работу, разбухали, точно сырая опара, а другие высыхали, точно палки, и к сорока годам обычно умирали или же годны были лишь на свалку. Мэгги стояла с юбкой в руках.
– Ну что ж, ты свое сделал, Гиллон Камерон. Теперь сидеть нам тут до темноты. В мои-то годы стать «зеленой юбкой»!..
Он не знал, что это значит. Так называют тех, сообщила она ему, кто возвращается с пустоши, сияя невинной улыбкой и зелеными пятнами на заду. Половина девушек, дочек углекопов в Питманго, именно так становятся женщинами. Гиллон поднялся на ноги. Он чувствовал себя усталым, но это была приятная усталость. Одевшись, он закружил по пустоши, точно искал выпавшие из кармана монеты.
– А вот этого ты не знаешь.
Он искал камешки и, когда набрал столько, сколько требовалось, сложил из них аккуратный маленький холмик, своего рода пирамиду, – сложил быстро и умело: ведь ему часто приходилось подпирать камнями свод в отсеке, где он работал. Завершив сооружение, он отступил и встал рядом с Мэгги.
– О, господи, это еще что такое?
– Трист-стэйн – Камень любви, – сказал Гиллон. Он почувствовал, что любит ее, что многое прощено и забыто и они словно начинают все заново. – У нас в Нагорье есть старинный обычай. Когда мужчина и женщина были особенно счастливы вместе, мужчина оставляет об этом памятник, понимаешь: накрывает камнями кусочек Шотландии, чтобы земля эта всегда принадлежала им.
Мэгги растрогалась.
– А я-то думала, что ты понятия не имеешь о таких вещах. Ох, и наврал же ты мне в Стратнейрне!
И тут она удивила его. Встала на цыпочки и поцеловала в губы, а потом побежала вверх, к перевалу. Он кинулся следом, но угнаться за ней не мог. Он бежал все медленнее и медленнее и, наконец, согнувшись, пошел шагом. Он понимал, в чем дело: угольная пыль забила ему легкие. И он не мог набрать в них достаточно воздуха. По сравнению с Мэгги он был настоящий старик.
– Перестарался, Гиллон Камерон! – крикнула она ему сверху, а у него не было сил даже улыбнуться ей: он чувствовал себя таким старым, и ему стало так себя жаль. Она ждала его на перевале. – Что с тобой?
– Сам не знаю, старею, наверное.
– Ты никогда еще так не отличался, – сказала она, И Гиллон усмехнулся. Они редко шутили на эту тему.
Тут вдруг внизу, у них под ногами, открылось море – огромное и пустынное, как вересковые поля. Гиллону всегда казалось удивительным то, что море совсем рядом, – никто и не вспоминал о море в Питманго, и все, что связано с ним, словно бы происходило в другом мире; и сейчас душа Гиллона взыграла при виде того, как оно блестит внизу. На всем морском просторе не видно было ни единого суденышка. Гиллон с Мэгги сели на шелковистую весеннюю траву и стали смотреть вниз на гавань Сент-Эндрюс, где питманговский уголь грузили на суда. В порту было пусто, хотя он до отказа был забит углем. Горы угля лежали на причале и на всех погрузочных площадках за ним; на деревянных рельсах ведущих к причалу, стояли двухтонные вагонетки, полные угля.
– По-моему, у меня «черное легкое», – сказал Гиллон.
– Ох, Гиллон, у всякого, кто работает на шахте, пыль забивается в легкие, но это еще вовсе не значит, что у него «черное легкое». Когда такое случается, человек не может даже во лестнице подняться, Гиллон.
– Угу, пожалуй. – Он лег на землю с той стороны перевала, которую озаряло солнце, и стал смотреть в небо. На нем появились облака – «пухляки», как их тут называли, – что было рановато для марта месяца.
– Хорошо… – сказал Гиллон. – Мне этого очень не хватало. Приятно ведь время от времени вот так провести день.
– Только не рабочий день.
– День-два-три, Мэгги, что в этом страшного?
– А ты подсчитай в шиллингах, потом мне скажешь. – Она произнесла это не резко, без ехидства, просто как разумная женщина.
Гиллон вдруг сел. Она хорошо заплатила, она выполнила условия договора, но он считал, что она еще кое-что ему должна.
– Чем же это так важно? Почему ты никогда ничего не скажешь? Сколько еще времени будем мы класть деньги в копилку, не зная ради чего? Надоело мне это, Мэгги, и детям тоже надоело. Понимаешь, настанет время, когда они больше ни одного пенни не опустят в твою кубышку, и ты ничего не сможешь поделать.
Трудно ей было, больше того: почти невозможно ей было говорить об этом. Она так давно сжилась со своей мечтой, что уже не могла ею поделиться. Рассказать о ней значило как бы загрязнить ее, и семья не касалась больного вопроса, откладывая разговор буквально с одного года на другой. Все дело было в силе желания. Ее желание получить то, чего она желала, было сильнее их желания противостоять ей, и потому они уступали.
– Мы же собирались использовать шахту, чтобы навсегда освободиться от работы под землей, и все же – черт возьми, да посмотри ты правде в глаза, Мэг, – все же вот уже двадцать лет, как я углекоп, половину жизни я углекоп, а ведь я моряк в душе, а теперь – я не шучу – у меня к тому же «черное легкое». Уж наверняка у нас в кубышке достаточно отложено, чтоб нам выбраться отсюда.
Она вытягивала травинки и несколько раз пыталась что-то сказать: рот ее открывался, дергался и снова закрывался, губы сжимались так решительно, будто она вообще никогда больше их не откроет.
– Чтоб выбраться отсюда – да, только не по-настоящему.
– Не по-настоящему?
– Ага, не по-настоящему. А мы, Гиллон, когда уедем отсюда, – и на лице ее снова появилось то самое выражение (он знал, что оно появится, еще прежде, чем взглянул на нее), – то уедем не как мелкая сошка. Мы не станем торговать сластями, Гиллон, этим мы могли бы заняться и сейчас. Мы не откроем извозчичий двор или зеленную лавку, которая приносила бы нам десять шиллингов в день, – это не для нас. Мы могли бы и сейчас жить так, чтобы руки у нас к концу дня были чистые, стать чем-то вроде этих несчастных, вечно шмыгающих носом продавцов из Обираловки, разлениться, растолстеть и быть бедными, точно церковная мышь.
Она поднялась, как всегда, когда заговаривала на эту тему, и Гиллон залюбовался ею, а она, сама того не сознавая, была удивительно хороша – она стояла на перевале в траве, доходившей ей до пояса, позади расстилалось бескрайнее небо, ветер играл ее густыми каштановыми волосами, грудь вздымалась и опускалась от волнения. И его снова потянуло к ней.
– Мы создадим себе положение, Гиллон, откроем, Гиллон, дело, настоящее дело, где у каждого будет свое место и каждый сможет зарабатывать себе на жизнь, на хорошую жизнь, Гиллон, и дело это будет расти – из одного вырастет другое, из другого – третье, и дальше, и дальше, если, конечно, мы будем трудиться, трудиться как следует. – Она вдруг снова опустилась в траву, словно порыв прошел. – А мы будем трудиться, будем.
Он выждал немного, потом спросил:
– Об этом и идет переписка с Кауденбитом?
Она немного помолчала, потому что это была ее тайна и она ревниво оберегала ее.
– Да.
Он не стал настаивать: он терпимо относился к таким вещам. У каждого человека должно быть что-то свое, сокровенное, даже если это и не очень приятно другому. У него, к примеру, таким было чтение.
Они не заметили, как в залив вошел корабль; только что залив был пуст, и вдруг в нем появился корабль, словно некая таинственная рука поставила его там. Это была старая четырехмачтовая шхуна, некогда горделивое судно (Гиллон хорошо его знал), ныне превращенное в угольщик; оно сидело высоко в воде и еле продвигалось в направлении Сент-Эндрюса, хоть и было пустым.
– Какое оно красивое, – сказала Мэгги. И Гиллон сказал: «Да», хотя судно было вовсе не красивое – на него грустно было смотреть. Люди, по-настоящему не знающие моря, всегда так говорят, когда видят море и парусник на нем, – такое впечатление, точно иначе и сказать нельзя.
Они встали и пошли вниз под гору, где не так чувствовался ветер, чтобы посмотреть, как корабль войдет в гавань, и вдруг, к своему удивлению, увидели людей, спускавшихся гуськом по дороге к докам с лопатами и корзинами для угля через плечо, – оборванную армию смуглых, низкорослых, покрытых угольной пылью людей.
– Это углекопы из Западного Манго идут грузить уголь.
– Откуда тебе известно?
– Ниоткуда не известно, я просто знаю – и все.
Примитивный кран поднимал вагонетки с углем и опрокидывал их в передний трюм, но большую часть угля грузили углекопы – они бросали его на металлический лоток, который одним концом уходил в недра судна. Над пристанью стояли облака угольной пыли, и даже море вокруг шхуны стало черным.
– А ты еще говоришь, что у меня не может быть «черного легкого», – заметил Гиллон, но Мэгги не слышала его. Она помчалась вниз по пустоши, словно влекомая некой силой, и Гиллон поспешно зашагал вниз по склону следом за ней.
– Что с тобой?
– Вот он – ответ, – сказала она.
Она была сейчас так далека от него, настолько увлечена открывшейся ее взору картиной, что он не стал допытываться. Она повернулась к нему и ухватила его за лацканы куртки.
– Послушай, Гиллон. Иной раз ты рубишь уголь, а вагонеток, чтоб вывозить его, свободных нет. – Гиллон кивнул. – А иной раз шахту закрывают, хотя вокруг полно вагонеток. – Он снова кивнул. – А иной раз ты рубишь уголь, хотя на шахтном дворе он лежит навалом – целая гора в милю высотой, и в то же время шахту закрывают, когда гора эта в два раза ниже. – Она торжествовала. – Так ведь все это потому, что ответ-то – он здесь. То, что происходит в шахте, не имеет никакого значения. Когда здесь, на причалах, полно угля, а нет кораблей, чтоб вывезти его, шахты закрывают. Когда же причалы пустеют, снова начинают добывать уголь, пока не забьют им весь порт, а тогда шахты закрывают до прихода корабля. Если же придет три или четыре корабля сразу, тогда уголь добывают круглые сутки, начинаются сверхурочные, дополнительные смены, работают даже по воскресеньям, хоть это и против закона.
– Угу.
– Собака зарыта здесь.
А ведь Мэгги была права – Гиллон сразу это понял: только так и можно объяснить то, что происходило в Питманго. Мэгги указала вниз, на Сент-Эндрюс.
– Завтра шахты начнут работать.
– Угу, ты права.
Они пошли назад, вверх, к перевалу. Гиллон устал и шел, еле передвигая ноги, но Мэгги была необычайно возбуждена.
Преодолев высокий подъем, на перевале они оглянулись и увидели на горизонте второе судно, шедшее из Норвегии или из Дании, куда лорд Файф продавал уголь. От этого Мэгги пришла в большее возбуждение.
– Вот теперь мы увидим, сколько времени будут работать шахты, чтобы нагрузить два корабля.
Какая же она умница! Теперь у них появится хоть приблизительное мерило.
– И знаешь, что еще кое-что объясняет, – заметила Мэгги. – Хозяева ничего не говорят вам, потому что сами ничего не знают. Пока корабль не вошел в гавань, они не могут быть уверены, что он вообще придет: ведь нет никакой возможности узнать об этом заранее.
И это тоже звучало вполне логично. Ну, как может угольщик, вышедший из Норвегии, точно предугадать, когда он придет в Фёрт-оф-Форт или в графство Файф. И даже если знать, когда судно пустилось в плавание, – поднимись сильный лобовой ветер, и оно не один день прокачается на волнах. – А вот мы теперь будем знать, – сказала Мэгги. – Будем знать, во всяком случае столько же, сколько они.
Он не стал расспрашивать ее, каким образом. Рано или поздно все станет ясно. Он очень устал и завидовал сейчас ее энергии. Они перевалили через крестовину, и взглядам их открылся Питманго, уродливая черная клякса среди окружающего зеленого мира. Гиллону страшно не хотелось спускаться туда. Мэгги выглядела так молодо, была так распалена, что, несмотря на усталость, его неодолимо потянуло к ней.
Энергия рождает энергию, читал он где-то, и аппетит рождает аппетит. Если ты себе в чем-то отказываешь, это еще не рождает чувства голода – голод возникает не сразу, – это рождает умение приспосабливаться, привычку обходиться без чего-то. И такая, как сейчас, Мэгги возбуждала в нем желание. Они как раз проходили мимо каменной пирамиды, на которую завтра или послезавтра с удивлением будут смотреть пастухи, и он подумал, что хорошо бы снова овладеть ею, ибо у него было предчувствие, что такая возможность не скоро представится. Но он видел, что Мэгги давно уже забыла те минуты и сейчас любая попытка с его стороны была бы воспринята, как грубое посягательство.
Тем не менее она взяла его за руку.
– Гиллон?! – Она сжала ему пальцы. – Это нас вывезет. Даст нам преимущество перед всеми другими. Позволит шагать впереди.
Он же мечтал лишь о том, чтобы снова лечь с ней на молодой свежий папоротник.
– Когда все будут сидеть без дела, у Камеронов работы будет хоть отбавляй. Когда у всех ни гроша не останется, Камероны будут откладывать серебро в копилку.








