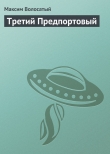Текст книги "Будет скафандр – будут и путешествия"
Автор книги: Роберт Энсон Хайнлайн
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Глава 9
Мне снилось, что я дома; но от этих звуков проснулся рывком:
– Материня!
– Доброе утро, сынок. Очень рада, что тебе лучше.
– Я себя чувствую просто чудесно. Прекрасно выспался и… – Уставившись на нее во все глаза, я выпалил: – Но ведь вы же умерли! – Это вырвалось само собой.
Ответ ее звучал ласково, с оттенком мягкой шутки, как обычно поправляют детей, проявивших естественную детскую бестактность:
– Нет, милый, я просто замерзла. Я не такая хрупкая, как тебе, судя по всему, кажется.
Моргнув от удивления, я снова впился в нее глазами:
– Так это был не сон?
– Нет, это был не сон.
– Я думал, что вернулся домой, и… – попытавшись сесть, я сумел лишь поднять голову. – Но ведь я дома! – Мы были в моей комнате! Слева стенной шкаф для одежды, за спиной Материни – дверь в холл, справа мой письменный стол, заставленный книжками, и вымпел нашей школы над ним; окно, в которое стучит ветками старый вяз, и листья его, пронизанные солнечным светом, шевелит ветерок.
И моя любимая логарифмическая линейка лежала там, где я ее оставил. В голове пошло кругом, но я во всем разобрался. Все произошло наяву, а глупый конец – полет на Вегу – примерещился во сне от кодеина.
– Вы привезли меня домой?
– Мы привезли тебя домой. В твой второй дом. Ко мне. – Кровать подо мной заходила ходуном. Я хотел вцепиться в нее, но руки не двигались. Материня продолжала: – Ты нуждался в своем гнезде, и мы тебе его приготовили.
– Я ничего не могу понять, Материня.
– Мы знаем, что в своем гнезде птица легче выздоравливает. И постарались воссоздать твое.
В том, что она пропела, не было, конечно, ни «птицы», ни «гнезда», но даже в полном издании словаря Вебстера вы вряд ли найдете более подходящие эквиваленты.
Чтобы успокоиться, я сделал глубокий вздох. Я все понял – ведь что-что, а объяснять она умела. Я был не у себя дома, не в своей комнате, – это просто очень похожая имитация. Но я все еще не пришел в себя.
Присмотревшись повнимательней, я удивился, как мог так ошибиться.
Свет падал в окно не с той стороны, как обычно. На потолке не было заплаты, которая появилась с тех пор, как я мастерил себе на чердаке тайное убежище и пробил молотком штукатурку. Книги стояли слишком ровно и казались слишком чистыми, как конфетная коробка. Я не узнавал переплеты.
Общий эффект был потрясающе удачен, но детали не удались.
– Мне нравится эта комната, – пропела Материня, – она похожа на тебя, Кип.
– Материня, – спросил я слабым голосом, – как вам это удалось?
– Мы расспросили тебя. И Крошка помогла.
Но ведь Крошка никогда не видела моей комнаты, подумал я, но потом сообразил, что она видела достаточно американских домов, чтобы выступать в роли консультанта по их оформлению.
– Крошка здесь?
– Она скоро придет.
Раз и Материня, и Крошка были со мной, дела обстояли явно неплохо. Вот только…
– Материня, я не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Положив мне на лоб свою маленькую теплую лапку, Материня склонилась надо мной так, что я ничего не видел, кроме ее глаз.
– Ты очень сильно пострадал. Но сейчас ты выздоравливаешь. Не волнуйся.
Если Материня говорит «не волнуйся», то волноваться не о чем. Тем более, что делать стойку на руках у меня настроения не было. Мне вполне хватало того, что я мог смотреть в ее глаза. В этих глазах можно было утонуть, можно было нырнуть в них и плавать.
– Хорошо, Материня. – Тут я вспомнил кое-что еще. – Скажите… вы ведь замерзли?
– Да.
– Но… Но ведь вода, замерзая, разрывает живые клетки. Во всяком случае, так принято считать.
– Мое тело никогда не даст этому случиться, – ответила она, поджав губы.
– Вот как… – Я подумал немного. – Только меня в жидкий воздух не суйте! Я для этого не создан.
Опять в ее песне послышался снисходительный юморок.
– Мы постараемся тебе не повредить, – она выпрямилась. – Я чувствую Крошку.
Раздался стук, – еще одно несоответствие, он не был похож на стук в легкую внутреннюю дверь, – и послышался голос Крошки:
– Можно войти? – Ждать ответа она не стала (сомневаюсь, чтобы это вообще входило в ее привычки), а вошла прямо вслед за вопросом.
Помещение, которое я увидел в открывшуюся дверь, выглядело как верхний холл в нашем доме. Здорово они поработали!
– Входи, милая!
– Конечно, можно, Крошка! Ты ведь уже вошла!
– Не ехидничай.
– Чья бы корова мычала… Привет, малыш!
– И тебе привет.
Материня скользнула в сторону.
– Долго не задерживайся, Крошка. Его нельзя утомлять.
– Не буду, Материня.
– До свиданья, мои дорогие.
– Когда в моей палате приемные часы? – спросил я.
– Когда она разрешит.
Крошка стояла, уперев кулаки в бедра, и разглядывала меня. Впервые за все время нашего знакомства она была отмыта дочиста: щеки еще розовые от щетки, пышные волосы – может, она и впрямь будет хорошенькой лет через десять. Одета она была как обычно, но одежда выглядела свежей, все пуговицы на месте и дыры искусно заделаны.
– Так-так, – сказала она, вздохнув. – Похоже, что тебя еще можно будет не выбрасывать на свалку.
– Я-то в кондиции. А ты как?
Крошка сморщила носик:
– Слабый укус мороза. Ерунда. А вот ты разваливался на части.
– Ну да?
– Не могу подробно описать твое состояние, потому что для этого придется употреблять слова, которые мама сочла бы «неженственными».
– А к этому мы очень непривычные.
– Не язви. Все равно не умеешь.
– А ты не позволишь попрактиковаться на тебе?
Крошка собралась уже было ответить в свойственной ей манере, но, запнувшись вдруг на полуслове, улыбнулась и подошла поближе. На один неловкий момент мне даже показалось, что она хочет меня поцеловать. Но она только расправила простыни и сказала серьезно:
– Да нет, умеешь, и еще как. Ты можешь язвить, быть противным, жестким, и ты можешь ругать меня и как угодно наказывать, и я даже не пикну. Да что там, я готова спорить, что ты сможешь даже поспорить с Материней.
Поспорить с Материней? Я не мог даже представить себе, что у меня может возникнуть подобное желание.
– Какая ты стала благонравная, – улыбнулся я, – нимб прямо так и светится.
– Если бы не ты, мне и вправду пришлось бы обзаводиться нимбом. Или, что более вероятно, узнать, что недостойна его.
– Да? А я помню, что кто-то росточком с тебя нес меня по туннелю почти как куль с углем.
– Это неважно, – увильнула она от ответа, – важно то, что ты установил маяк.
– Что ж, останемся каждый при своем мнении. Однако там было холодно. – Я решил сменить тему, потому что нам обоим стало неловко. Ее слова о маяке кое-что мне напомнили. – Крошка, а куда мы попали?
– То есть как – «куда»? Мы в доме Материни, – оглянувшись, она добавила: – О, я совсем забыла, Кип, это вовсе не твоя…
– Знаю, знаю, – отвечал я нетерпеливо, – это имитация. Сразу видно.
– Сразу? – расстроилась Крошка. – А мы так старались.
– Да нет, получилось просто здорово. Не представляю даже, как вы сумели добиться такого сходства.
– У тебя очень хорошая память, Кип. Ты фиксируешь подробности, как фотоаппарат.
И наверное, эти подробности сочились из меня, как из дырявого мешка, добавил я про себя. Хотел бы я знать, что я еще наболтал в присутствии Крошки. Я даже спросить ее об этом постеснялся – должна же быть у мужчины своя личная жизнь.
– И тем не менее – это имитация, – продолжал я вслух. – И я знаю, что мы в доме Материни, но не знаю, где этот дом.
– Но ведь я говорила тебе, – вытаращила глаза Крошка. – Может, ты не расслышал? Ты был очень сонный.
– Да нет, расслышал, – сказал я с усилием. – Кое-что. Но не понял. Мне показалось, будто ты сказала, что мы летим на Вегу.
– Думаю, что в наших каталогах это место называется «Вега-пять». Но они здесь зовут его… – Крошка запрокинула голову и воспроизвела звук, напомнивший мне тему вороны из «Золотого Петушка». – Но это я не могла тогда произнести. Поэтому сказала тебе «Вега», что было ближе всего к истине.
Я снова попытался сесть, и снова не смог.
– Вот это да! Стоит перед тобой человек и сообщает, что мы на Веге! То есть, я хочу сказать, на одной из ее планет!
– Но ведь ты не предлагал мне сесть!
Я пропустил мимо ушей этот «крошкизм», потому что смотрел на «солнечный свет», льющийся в окно.
– Это свет Веги?
– Нет, это искусственный свет. Настоящий яркий свет Веги выглядит призрачным. Вега ведь в самом верху диаграммы Герцшпрунга-Рессела[12]12
Диаграмма Герцшпрунга-Рессела выражает связь между светимостью и температурой звезд. На этой диаграмме близкие по физическим свойствам звезды занимают отдельные области: сверхгиганты, гиганты, субгиганты, звезды главной последовательности: субкарлики, карлики и белые карлики.
[Закрыть], если ты помнишь.
– Да? – Спектрального класса Веги я никогда не знал. Как-то не думал, что он может мне пригодиться.
– Да. Будь очень осторожен, Кип, когда начнешь ходить. За десять секунд можно схватить больше загара, чем за всю зиму в Ки Уэсте[13]13
Ки Уэст – модный курорт на островах Флорида-Кис (Флорида, США).
[Закрыть], а десяти минут достаточно, чтобы зажариться насмерть.
Сдается мне, что у меня есть особый дар попадать в трудные климатические условия. Интересно, к какому спектральному классу относится Вега? Класс «A»? Или «B»? Наверное, «B». Из классификации я помнил только, что она большая и яркая, больше Солнца, и очень красиво смотрится в созвездии Лиры[14]14
Вега (Альфа Лиры) – звезда спектрального класса B, нулевой звездной величины, одна из самых ярких звезд Северного полушария неба. Вега, Денеб и Альтаир образуют так называемый большой летний треугольник и хорошо видны летом.
[Закрыть]. Но как, во имя Эйнштейна, мы попали сюда?
– Ты случайно не знаешь. Крошка, как далеко от нас Вега? То есть, как далеко от нас Солнце, я хотел сказать.
– Знаю, конечно, – фыркнула она презрительно. – В двадцати семи световых годах.
Ничего себе!
– Крошка, возьми-ка мою логарифмическую линейку. Ты умеешь ею пользоваться? А то меня руки не слушаются.
– Зачем тебе линейка?
– Хочу вычислить расстояние в милях.
– Я тебе без линейки вычислю.
– С линейкой и быстрее, и точнее. Слушай, если ты не умеешь ею пользоваться, то скажи, не стесняйся. Я в твоем возрасте тоже не умел. Я тебя научу.
– Вот еще! – возмутилась Крошка. – Конечно, умею! Что я, дурочка, по-твоему? Просто я и так считать могу. – Губы ее беззвучно зашевелились: – 159 000 000 000 000 миль.
Я припомнил, сколько миль в световом году, и наскоро прикинул цифру в голове… Да, слишком много ночей, слишком много долгих-долгих миль…
– Похоже, ты права, – сказал я.
– Конечно, права, – ответила Крошка. – Я всегда права!
– Вот это да! Ходячая энциклопедия с косичками!
Крошка всхлипнула:
– Я же не виновата, что я гений.
Это заявление открывало широкие возможности, и я уже собирался ткнуть ее носом кое-куда, но вовремя заметил, как она расстроилась.
Я вспомнил слова отца: «Некоторые люди пытаются доказать, что „среднее“ лучше, чем „самое лучшее“. Им доставляет удовольствие подрезать крылья другим, потому что они бескрылы сами; они презирают интеллект, потому что напрочь его лишены». Тьфу!
– Извини, Крошка, – попросил я смиренно. – Конечно, ты в этом не виновата. Так же, как я не виноват в том, что я не гений, или в том, что я большой, а ты маленькая.
Она повеселела.
– Пожалуй, я снова начала выпендриваться. – Она покрутила пуговицу. – Или просто решила, что ты меня понимаешь… Как папа.
– Ты мне льстишь. Сомневаюсь, чтобы я был способен тебя понимать, но теперь, по крайней мере, буду стараться.
Она все крутила пуговицу.
– Ты ведь и сам очень умный, Кип. Но ведь ты не можешь этого не знать?
– Будь я умный, попал бы я сюда? – усмехнулся я. – Слушай, Крошка, ты не против, если мы все же проверим цифру на линейке? Из чистого любопытства.
Еще бы – за двадцать семь световых лет и Солнца не увидишь. Звезда-то, прямо скажем, довольно заурядная.
– Видишь ли, Кип, от нее не очень-то много прока, от этой линейки.
– Что? Да это лучшая линейка, которую вообще можно купить…
– Кип, прошу тебя! Это же не линейка, это просто часть стола.
– Вот как? – Я был обескуражен. – Извини, совсем забыл. Слушай, а этот холл за дверью, он, наверное, простирается не очень далеко?
– Оформили только ту часть, которую видно с твоей кровати при открытой двери. Но, будь у нас достаточно времени, мы и линейку бы сделали. Они в логарифмах разбираются, и еще как!
«Достаточно времени». Вот что меня беспокоило.
– Крошка, но как долго мы летели сюда?
Двадцать семь световых лет, надо же! Даже со скоростью света… Что ж, путешествие по законам Эйнштейна может показаться быстрым мне, но не Сентервиллю. Отец к тому времени может уже умереть! Отец ведь старше мамы, старше настолько, что годится мне в дедушки.
И еще двадцать семь лет на обратный путь… Ему уже будет за сто лет; даже мама может уже умереть к тому времени.
– Сколько времени летели сюда? – переспросила Крошка. – Да нисколько.
– Нет, нет, я понимаю, что так кажется. Ты не стала старше, а у меня не прошло еще обморожение. Но ведь на путь сюда ушло по меньшей мере двадцать семь лет, верно?
– О чем ты говоришь, Кип?
– Об уравнениях относительности, ты ведь слышала о них?
– А, вот оно что! Слышала, конечно. Но здесь они не подходят. В данном случае, путешествие не занимает никакого времени совсем. Ну, конечно, потребовалось минут пятнадцать, чтобы выйти из атмосферы Плутона, да столько же, чтобы пройти атмосферу и приземлиться здесь. А так, – фьить! – И все. Нуль!
– Но со скоростью света…
– Да нет, Кип. – Крошка нахмурилась, затем лицо ее озарила улыбка. – А сколько прошло времени с момента, как ты установил маяк, до того, как они нас спасли?
– Что? – До меня дошло вдруг значение ее слов. Папа не умер! Мама даже поседеть не успела! – Что-то около часа!
– Немногим больше. Но они прилетели бы и раньше, если бы не пришлось готовить к вылету корабль… Тогда они нашли бы тебя в туннеле, а не я. Сигнал маяка они получили в то же мгновение, как ты его включил. Полчаса ушло на подготовку корабля, что очень рассердило Материню. Вот уж никогда не подумала бы, что она способна сердиться. Положено, видишь ли, чтобы дежурный корабль всегда был готов к мгновенному старту по ее вызову.
– Каждый раз, когда она хочет?
– Материня может в любое время реквизировать любой корабль – она очень важная особа. А потом полчаса маневрирования в атмосфере – и все дела. Все происходит в реальном времени, и никаких парадоксов.
Я напряженно пытался переварить это. Двадцать семь световых лет они покрывают за час, да еще получают выговор за опоздание при этом. Этак соседи по кладбищу дадут доктору Эйнштейну прозвище «Вертушка-Альберт».
– Но как? Каким образом?
– Ты знаком с геометрией, Кип? С неэвклидовой, конечно.
– Как тебе сказать… Пытался разобраться в открытых и закрытых изогнутых поверхностях и читал популярные книги доктора Белла. Но чтобы знать…
– По крайней мере ты не отмахнешься сразу, если услышишь, что прямая линия вовсе не обязательно является кратчайшим расстоянием между двумя точками. – Руки ее задвигались, как будто выжимали грейпфрут. – Потому что это неверно; видишь ли, Кип, все пространство соприкасается. Его можно сложить в ведро, запихнуть в наперсток, если найти правильные совмещения.
Очень туманно я представил себе Вселенную, втиснутую в кофейную чашку: плотно сбитые ядра и электроны – по-настоящему плотно, а не как в тонком математическом призраке, который, как считают, представляет собой даже ядро урана. Нечто вроде «первородного атома», к которому прибегают некоторые космогонисты, пытаясь объяснить расширяющуюся Вселенную. Что же, может, она такая и есть – одновременно сжатая и расширяющаяся.
Как парадокс «волночастицы» – волна не может быть частицей, а частица не может быть волной, тем не менее все на свете является и тем, и другим. Тот, кто верит в «волночастицы», поверит во что угодно, а тот, кто не верит, вообще может по этому поводу не беспокоиться и не верить ни во что, даже в собственное существование, потому что из волночастиц мы и состоим.
– Сколько измерений? – еле спросил я.
– А сколько по-твоему?
– По-моему? Двадцать, наверное. По четыре на каждое из первых четырех, чтобы по углам просторнее было.
– Двадцать – это даже не начало. Я сама не знаю, Кип; и геометрии я не знаю тоже, мне только казалось, что я ее знаю. Поэтому я пристала к ним, как репей.
– К Материне?
– О, что ты! Она ее тоже не знает. Так, только в той мере, чтобы вводить и выводить корабль из складок пространства.
– Всего-то? – хмыкнул я.
Надо было мне глубоко изучить искусство маникюра и ни в жизнь не поддаваться на уловки отца заставить меня получить образование. Ведь этому конца нет: чем больше познаешь, тем больше приходится познавать.
– Скажи-ка, Крошка, ведь ты знала, куда маяк посылал сигналы, правда?
– Кто, я? – Она приняла невинный вид. – Как тебе сказать… В общем-то, да.
– И ты знала, что мы полетим на Вегу?
– Ну… Если бы сработал маяк, если бы нам удалось послать сигнал вовремя…
– А теперь вопрос «на засыпку». Почему ты ничего не сказала об этом мне?
– Видишь ли… – Крошка всерьез решила разделаться с пуговицей. – Я не знала, насколько хорошо ты знаком с математикой… И ты ведь мог встать в мужскую разумную позу, решить, что ты взрослый и все знаешь лучше меня, и все такое. Ты ведь мне не поверил бы?
– Может, и не поверил бы. Но если у тебя еще раз появится желание что-нибудь от меня утаить «ради моего собственного блага», не соизволишь ли ты допустить, что я отнюдь не закоснел в своем невежестве? Я знаю, что я – не гений, но я постараюсь проявить достаточно широкомыслия и, может, даже сумею на что-нибудь сгодиться, если буду знать, что у тебя на уме. И перестань вертеть пуговицу.
Крошка поспешно ее отпустила.
– Хорошо, Кип, я запомню.
– Спасибо. Мне сильно досталось?
Она промолчала.
– Сильно, значит. А их корабли могут мгновенно покрыть любое расстояние. Почему ты не попросила их доставить меня домой и быстро отправить в больницу?
Крошка замялась. Затем спросила:
– Как ты себя чувствуешь сейчас?
– Прекрасно. Только ощущаю, что мне давали наркоз или что-то в этом роде.
– «Что-то в этом роде», – повторила она. – Но тебе кажется, что ты поправляешься?
– «Поправляешься»! Я уже поправился!
– Нет. Но поправишься. – Она пристально посмотрела на меня. – Сказать тебе все по правде, Кип?
– Валяй, говори.
– Если бы тебя доставили на Землю, в самую лучшую больницу, которая у нас есть, ты был бы сейчас инвалидом, ясно? Безруким и безногим. А здесь ты скоро будешь абсолютно здоров. Тебе не ампутировали ни одного пальца.
Хорошо, что в какой-то мере Материня подготовила меня. Я спросил только:
– Это действительно так?
– Да. И то, и другое. Ты будешь абсолютно здоров. – Лицо ее вдруг задрожало. – Ты был в таком ужасном состоянии! Я видела.
– Так плохо?
– Ужасно! Меня потом кошмары мучали.
– Не надо было им позволять тебе смотреть.
– Она не могла запретить. Я – ближайшая родственница.
– То есть как? Ты что, выдала себя за мою сестру?
– Но я ведь действительно твоя ближайшая родственница.
Я хотел было обозвать ее нахалкой, но вовремя прикусил язык. На расстоянии 160 триллионов миль мы с ней были единственными землянами. Так что Крошка оказалась права. Как всегда.
– И поэтому им пришлось дать мое разрешение, – продолжала она.
– Разрешение на что? Что они со мной сделали?
– Сначала погрузили в жидкий гелий. И весь последний месяц, пока ты оставался там, использовали меня как подопытного кролика. Потом три дня назад – наших дня – тебя разморозили и начали над тобой работать. С тех пор ты хорошо поправляешься.
– И в каком же я сейчас состоянии?
– Как сказать. Регенерируешь… Это ведь не кровать, Кип. Только выглядит так.
– Что же это тогда?
– В нашем языке нет эквивалента, а их ноты я не могу воспроизвести – тональность слишком высока. Но все пространство, начиная отсюда, – она похлопала рукой по кровати, – и до комнаты внизу, занято оборудованием, которое тебя лечит. Ты опутан проводами, как эстрада клуба электронной музыки.
– Интересно бы взглянуть.
– Боюсь, что нельзя. Да, Кип, ты же не знаешь! Им пришлось срезать с тебя скафандр по кускам.
Это расстроило меня куда больше, чем рассказ о том, в каком я был плачевном состоянии.
– Что? Они разрезали Оскара? То есть, я имею в виду мой скафандр?
– Я знаю, что ты имеешь в виду. В бреду ты все время говорил с Оскаром и сам себе отвечал за него. Иногда я думаю, что ты – шизоид, Кип.
– Ты запуталась в терминах, коротышка. Скорее уж у меня раздвоение личности. Да ладно, ты ведь сама параноик.
– Подумаешь, я давно уже знаю. Но я очень хорошо скомпенсированный параноик. Хочешь увидеть Оскара? Материня так и знала, что ты о нем спросишь, когда проснешься.
Она открыла стенной шкаф.
– То есть как? Ты же сказала, что его разрезали!
– А потом починили. Стал как новый, даже лучше прежнего.
– Тебе пора уходить, милая! Не забывай, о чем мы договорились, – зазвучала песенка Материни.
– Ухожу, Материня, ухожу! Пока, Кип. Я скоро вернусь и буду к тебе забегать все время.
– Спасибо. Не закрывай шкаф, я хочу видеть Оскара.
* * *
Крошка действительно заходила, но отнюдь не «все время».
Но я особенно и не обижался. Вокруг было столько интересного и «познавательного», куда она могла сунуть свой вездесущий нос, столько необычного и нового, что она была занята как щенок, грызущий новые хозяйские тапочки.
Но я не скучал. Я поправлялся, а это работа такая, что нужно отдавать ей все свое время, и совсем не скучная, если у человека хорошее настроение. Как у меня.
Материню я видел не часто. Я начал понимать, что у нее полно своей работы, хотя она всегда приходила не позже, чем через час, когда я просил позвать ее, и никогда не спешила уходить.
Она не была ни моим врачом, ни сиделкой. Вместо нее мною занимался целый полк ветеринаров, не упускавших ни одного сердцебиения.
Они никогда не входили ко мне, если я сам их не звал (достаточно было позвать шепотом), но вскоре я понял, что моя комната начинена микрофонами и датчиками, как корабль в испытательном полете, а моя «кровать» представляла собой медицинскую установку, по сравнению с которой наши «искусственные сердца», «искусственные легкие» и «искусственные почки» выглядят так же, как игрушечный автомобильчик рядом со сверхзвуковым самолетом.
Самого оборудования я так и не увидел (постель меняли только тогда, когда я спал), но отчетливо представлял себе его функции. Оно заставляло мое тело чинить само себя – не заращивать раны шрамами, а воспроизводить утерянные органы.
Умением делать это обладают любой лобстер и любая морская звезда – порубите ее на части, и получите несколько новехоньких звезд.
Таким умением должно обладать любое живое существо, поскольку его генотип заложен в каждой клетке. Но мы потеряли его несколько миллионов лет назад. Всем известно, что наука пытается его восстановить; по этому поводу публикуют много статей: в «Конспекте для чтения» – оптимистических, в «Научном ежемесячнике» – мало обнадеживающих, и совсем бестолковых в изданиях, «научные редакторы» которых получили, видимо, образование из фильмов ужасов. Но все же ученые над этим работают. И когда-нибудь наступит такое время, когда от несчастных случаев будут умирать только те, кого не успеют вовремя доставить в больницу.
Мне выпал редкий шанс изучить эту проблему, но я не смог.
Я пытался. Я не испытывал никакого беспокойства по поводу того, что они со мной делают (ведь Материня сказала, чтобы я не беспокоился); тем не менее я, подобно Крошке, хочу знать, что происходит.
Но возьмите дикаря из таких глубоких джунглей, что там даже не знакомы с торговлей в кредит. Предположите, что у него показатель умственного потенциала где-то за 190 и ненасытная любознательность, как у Крошки. Пустите его в лаборатории атомного исследовательского центра в Брукхевене. Многому он там сумеет научиться, как ему ни помогай?
Он разберется, конечно, какие коридоры куда ведут и узнает, что красный трилистник означает «опасность». И все. И не потому, что он не способен – мы ведь говорим о суперинтеллекте, – просто ему нужно лет двадцать учебы, прежде чем он начнет задавать правильные вопросы и получать на них правильные ответы. Я задавал вопросы, всегда получал ответы и делал из них выводы. Но приводить их нет смысла – они путаны и противоречивы, как выводы, которые дикарь мог бы сделать о конструкции и работе оборудования атомных лабораторий. Как говорится в радиотехнике – при достижении определенного уровня шумов передача информации не является больше возможной. Вот я и дошел до такого уровня.
По большей части это действительно был «шум» в прямом смысле слова. Задам я вопрос, а кто-нибудь из терапевтов начнет объяснять. Поначалу ответ кажется понятным, но когда начинается сама суть, я не слышу ничего, кроме неразборчивого чирикания. Даже когда в роли переводчика выступала Материня, те объяснения, для восприятия которых у меня не было базы, звучали бодрым канареечным щебетанием.
Держитесь-ка за стулья покрепче: я собираюсь объяснить кое-что, чего не понимаю сам – как мы с Крошкой общались с Материней, хотя ее ротик не мог выговаривать английские слова, а мы не могли воспроизводить ее пение.
Веганцы (я называю их «веганцами», хотя с таким же успехом можно назвать нас «солнцеанами», но настоящее их название звучит, как шум ветра в каминной трубе. У Материни тоже есть свое настоящее имя, но я ведь не колоратурное сопрано. Крошка выучилась произносить его, когда хотела умаслить Материню, только ей это никак не помогало). Так вот, веганцы обладают изумительным даром понимания, умением поставить себя на место собеседника. Вряд ли это телепатия – умей они читать мысли, я вряд ли попадал бы все время впросак со своими вопросами. Можете назвать это свойство чтением чувств.
Но оно у них было развито по-разному; мы, например, все умеем водить машины, но лишь немногие обладают данными автогонщиков. Вот Материня…
Я когда-то читал об актрисе, которая так владела итальянским, что ее понимали даже те, кто итальянского не знал. Ее звали Дуче. То есть «дуче» – это диктатор. Ну, что-то в этом роде[15]15
Имеется в виду Элеонора Дузе (1858-1924), итальянская актриса, с огромным успехом выступавшая во многих странах, в том числе и в России. Она играла в пьесах Г. Д'Аннунцио, М. Метерлинка, А. Дюма-сына и др.
[Закрыть]. Должно быть она обладала тем же даром, что и Материня.
Первые слова, которые я усвоил с Материней, были «привет», «пока», «спасибо» и все такое. Употребляя их, она всегда умела объясниться. Ну, как человек может объясниться с чужим щенком.
Позже я начал воспринимать ее речь именно как речь. А она усваивала значения английских слов еще быстрее – помимо способностей, она ведь целыми днями беседовала с Крошкой, когда они были в плену. Но если легко понять «здравствуй» и «хорошо бы поесть», то изложить такие понятия, как, скажем, «гетеродин» и «аминокислоты» намного сложнее, даже если в языках обоих собеседников есть соответствующие реалии. А когда в языке одного из них нужных реалий нет, беседа обрывается. Вот потому-то мне и трудно было беседовать со своими ветеринарами – я не понял бы их, даже говори они по-английски.
Колебательный контур, посылающий радиосигнал, производит лишь мертвую тишину, если только сигнал не поступает на другой контур, настроенный на те же колебания, чтобы воспринимать их. А я не был включен на нужную частоту.
Тем не менее, я хорошо понимал их, если разговор не залезал в интеллектуальные дебри.
Существа они были очень милые, охотно болтали и смеялись, и вое друг к другу хорошо относились. Я с трудом различал их всех, за исключением Материни. (Я узнал, что, в свою очередь, единственное различие, которое они видели между Крошкой и мной, заключалось в том, что я был болен, а она здорова). Но они друг друга различали без труда, и их разговоры были так переполнены музыкальными именами, что казалось, будто слушаешь «Петю и волка» или оперу Вагнера. У них был даже специальный лейтмотив для меня. Речь их звучала жизнерадостно и весело, как звуки яркого летнего рассвета.
Теперь, если я услышу канарейку, я буду знать, о чем она поет, даже если она сама этого не знает.
Многое я узнавал от Крошки – ведь больничная койка не лучшее место для знакомства с планетой. Вега-пять была планетой с притяжением земного типа, с кислородной атмосферой, с циклом жизни, построенным на воде. Для землян она не годилась – не только из-за полуденного «солнца», которое может убить человека силой ультрафиолетовых лучей, но и из-за того, что атмосфера содержала смертоносное для нас количество озона; немного озона это хорошо, бодрит и освежает, но глотните чуть больше нормы – и… В общем, это все равно, что глотнуть синильной кислоты. Моя комната кондиционировалась, веганцы могли в ней свободно дышать, но находили воздух безвкусным.
Многое я узнал и как побочное следствие просьбы, с которой ко мне обратилась Материня: она хотела, чтобы я надиктовал ей подробный рассказ о том, как влип во всю эту историю. Когда я закончил, она попросила меня надиктовать все, что я знал о Земле, ее истории, о том, как земляне трудятся и уживаются вместе. Надо сказать, я по сей день диктую ответы на эти вопросы – потому что, как выяснилось, не так уж много знаю. Взять хотя бы Древний Вавилон – какое он оказал влияние на раннюю цивилизацию Египта? Я имел об этом самые туманные представления. Возможно, Крошка справилась с этой задачей лучше, поскольку, как мой отец, она навсегда запоминает все, что когда-либо слышала или читала. Но им, наверно, оказалось не под силу заставить ее долго сидеть на месте, а я к своему все равно был прикован. Материня интересовалась этой информацией по тем же причинам, которые заставляют нас изучать австралийских аборигенов, а также хотела иметь записи нашего языка. Была у нее и еще одна причина.
Дело мне выпало нелегкое, но ко мне прикрепили веганца, чтобы он помогал, когда у меня было желание работать, и который всегда был готов работу прекратить, если я уставал. Я прозвал его «профессор Джозефус Яйцеголовый». Слово «профессор» более-менее подходит в данном случае, а имя его все равно буквами не запишешь. Для краткости я называл его «Джо», а он, обращаясь ко мне, высвистывал мотивчик, который по-ихнему означал «Клиффорд Рассел, обмороженное чудовище». Джо обладал почти таким же развитым даром понимания, как Материня. Но как объяснить такие понятия, как «тарифы» и «короли» существу, в истории которого никогда не было ни того, ни другого? Английские слова казались бессмысленным шумом.
Однако Джо изучал истории многих планет и народов и демонстрировал мне различные сценки на цветных стереоэкранах, пока мы не определяли вместе, о чем идет речь.
Мы продвигались вперед; я надиктовывал текст в серебристый шар, висящий подле рта, а Джо, свернувшись как кот в клубочек, лежал на специальном возвышении, поднятом на уровень моей кровати, и диктовал в свой микрофон комментарии.
Его микрофон был устроен так, что голос я слышал только тогда, когда он обращался ко мне.
Когда случалась заминка, Джо прекращал диктовать и показывал мне различные изображения, пытаясь выяснить, о чем зашла речь. Изображения, казалось, появлялись прямо из воздуха и так, чтобы мне было удобно: стоило мне повернуть голову, и они перемещались вслед за ней. Цветное стереотелевидение с абсолютно реальным достоверным изображением. Что ж, дайте нам еще двадцать лет, и мы добьемся такого же результата.
Настоящее впечатление на меня произвела организация, которая за этим стояла. Я стал расспрашивать о ней Джо. Он пропел что-то в свой микрофон, и мы совершили быстрое турне по их «библиотеке Конгресса». Мой отец считает, что библиотечная наука лежит в основе всех наук, так же, как ключом ко всем наукам является математика, и что выживем мы или погибнем зависит от того, как хорошо справятся со своим делом библиотекари. Мне библиотечная профессия романтичной не кажется. Но, может, папа высказал не очень очевидную истину.