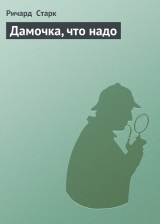
Текст книги "Дамочка, что надо"
Автор книги: Ричард Старк
Жанр:
Крутой детектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Глава 2
Генерал Луис Позос развалился на своей кровати между двумя женщинами, которые чертовски ему надоели. К тому же он знал, что нынче утром никуда не годен как мужчина, и это еще больше бесило его, поскольку половое бессилие всегда повергало его в страх, а страх переходил в отвращение, которое, как ему казалось, вызывали в нем эти томные, теплые, мягкие, пахнущие мускусом тела двух женщин. Они вызывали в нем отвращение, а он лежал между ними навзничь, и их тела льнули к его бокам. Он облизал языком свои густые черные усы, приподнял голову и плюнул в лицо женщине, лежавшей справа.
Но это ее не разбудило. Белая ленточка слюны потянулась вниз по щеке, вдоль носа, по покрытой пушком коже между носом и верхней губой и, наконец, лениво упала на серую и мягкую простыню.
Он снова откинулся на подушку, уже усталый. Усталый, скучающий, раздраженный и злой. В каюте было слишком жарко, тела, прижимавшиеся к нему, были слишком горячими. У него ныла голова, болел живот. Саднил левый глаз. Он толком не отдохнул. Он испытывал половое бессилие.
Генерал поднял руки, соединил локти над грудью и резко, яростно развел их, ударив обеих отвратительных женщин по тяжелым налитым грудям, отчего они наконец проснулись.
Пробудившись, обе сели на постели в легком недоумении. Та, что была слева от генерала, затараторила по-испански, а та, что справа, залаяла по-голландски. Во внезапном приливе еще большего раздражения, изнеможения, ярости и невыносимого омерзения генерал Позос начал дубасить по кровати кулаками, коленями, пятками и локтями; он брыкался, дрался, лягался и пихался, пока не сбросил обеих женщин с кровати на палубу.
Это рассмешило его. Генерал тотчас снова откинулся на подушки, разинул рот и заржал каким-то странным гнусавым тревожным хохотом, похожим на сухой кашель. Можно было подумать, что это смеется канюк-падальщик. Генерал лежал навзничь, держась за живот, и ржал, а две женщины поднялись с палубы и стояли, огорченные и опечаленные, потирая ушибленные места. Они переглянулись, потом посмотрели на генерала, затем на палубу. Обе были унижены, и им хотелось одеться, но ни одна не смела сделать это, пока генерал не даст понять, что они ему больше не нужны.
Когда приступ смеха прошел, генерал вдруг почувствовал, что теперь он в добром расположении духа. Он принялся лениво чесать свои телеса, как истинный гедонист, потом попросил женщин подать ему халат. Голландка принесла его, и генерал поднялся с постели.
Он был невысокого роста, но широк в кости. При любом образе жизни генерал все равно был бы похож на бочонок, а поскольку жизнь свою он проводил в праздности, увеселениях и плотских утехах, его коротенькое туловище с годами покрылось многочисленными слоями жира, поэтому недавно один политический противник, а их у генерала были тысячи, обозвал его “волосатым пляжным мячом”. Лицо отражало его дикий норов, а руки генерала были гораздо мягче и мясистее, чем руки любого его знакомого.
Когда он встал с постели и надел халат, две женщины поняли, что можно начинать поиски собственной одежды. Они одевались под добродушную ласковую болтовню генерала, вещавшего, что сегодня они сойдут на берег в Акапулько, одном красивом мексиканском городке, где живут богатые и счастливые люди и где он с ними распрощается. Да, это печально, но никуда не денешься: он больше не нуждается в их услугах. Кто-нибудь из обслуги яхты позаботится о них, обеспечит их деньгами и документами и с радостью ответит на любые их вопросы, если таковые возникнут. Ну, а ему, генералу, очень грустно расставаться с двумя такими обворожительными юными дамами, но это судьба, а раз так – прощайте.
То есть до новых встреч.
Обе достаточно долго общались с генералом и знали, что он болтает без умолку, а когда дает понять, что разговор окончен, лучше сразу же уйти. Они как можно короче попрощались и покинули каюту. Честно говоря, обе испытали облегчение, узнав, что их отношениям с генералом пришел конец, поскольку им была известна сплетня, основанная, как оказалось, на действительном событии, о том, что однажды генерал в припадке жуткого омерзения выбросил одну женщину за борт прямо посреди Тихого океана. Естественно, тотчас были налажены поиски, но несчастную молодую женщину так и не нашли. Поскольку официально ее не было на борту, а путешествовала она к тому же под вымышленным именем, происшествие это не получило никакой огласки, но слухи подобны сорнякам, появляющимся в самых лучших огородах, и генеральский огород не был исключением.
Когда женщины ушли, генерал позвонил своим камердинерам, двум худощавым, молчаливым, запуганным молодым военнослужащим армии Герреро, жалованье, подготовка и довольствие которых были обеспечены военной помощью Соединенных Штатов. Они быстро, но с величайшей осторожностью одели своего генерала и молча удалились. Генерал был в мундире, который проносит до обеда, а потом облачится в менее формальный гражданский костюм. Сегодня мундир был темно-синий, с золотой оторочкой, с отделанными золотой бахромой эполетами, золоченой портупеей, декоративной саблей в золоченых ножнах; он с огромным удовлетворением оглядел себя в зеркало. Красивый мундир – это было так приятно, поэтому в гардеробе генерала их насчитывалось более полусотни, и все разные. Этот, темно-синий, был одним из самых любимых.
Облачившись в мундир и оглядев себя в зеркало, генерал в приподнятом настроении вышел из своих царственных покоев и, перейдя через коридор, отправился в кают-компанию. Он любил созерцать море, особенно с борта корабля, но смотреть на него до завтрака генералу было противно.
Кроме молодого Харрисона, читавшего книгу за одним из столиков, в кают-компании никого не было. Вот ведь книгочей, вот ведь молчун. Генерал Позос не раз спрашивал себя, что же этот молодой человек из Пенсильвании думает о нем на самом деле, в глубине души. Внешне он никак не выказывал своего отношения, и это было непривычно, ведь генерал мгновенно определял по лицам и глазам других людей, как они относятся к нему. В гамме их чувств чаще всего преобладали страх, презрение или зависть. Но на лице и в глазах молодого Харрисона не отражалось ровным счетом ничего.
Генерал напыщенно прошествовал через залу, ножны сабли лязгнули о металлическую спинку стула. Он уселся за столик вместе с молодым человеком.
– Доброе утро, Боб, – сказал он на своем тяжеловесном кондовом английском, которым так гордился. – Славный денек, – добавил генерал, увидев снопы солнечного света, струившегося сквозь иллюминаторы.
Харрисон оторвался от книги, улыбнулся широкой неопределенной улыбкой, что вообще было ему свойственно, и вежливо закрыл книгу, даже не отметив место, где читал.
– Доброе утро, генерал, – отозвался он. – Да, денек и впрямь славный, пожалуй, лучший с начала плавания.
Он бегло говорил по-испански, но знал, что генерал предпочитает общаться с ним по-английски, поэтому решил оказать ему услугу.
По сути дела, их отношения сводились к бесконечной череде услуг, которые Боб оказывал генералу. Даже попустительствовал ему. Генерал смог припомнить только один случай, когда Харрисон не пошел на уступку, спокойно, невозмутимо, но твердо и наотрез отказав ему. Речь зашла о военной форме. Генералу хотелось, чтобы все его окружение щеголяло в мундирах, хотя, разумеется, и более простого покроя, чем у него. Никто ему в этом не перечил, как и ни в чем другом, до тех пор, пока семь лет назад он не принял в свой штат молодого Харрисона. Да и Харрисон был не прочь позволить снять с себя мерку, чтобы сшить мундир, но в конце концов мерку так и не сняли. Всякий раз, когда генерал заикался об этом, Харрисон приводил бесконечный ряд доводов, разумных и взвешенных, в пользу постоянного ношения обычного делового костюма. Боб никогда не уклонялся от этой темы и, бывало, настолько углублялся в рассуждения, говоря в присущей ему спокойной, неторопливой манере, что в конце концов генералу самому делалось невмоготу, и тогда Харрисон бросал эти разговоры, стоило Позосу только дать ему понять, что он хотел бы обсудить какой-нибудь другой предмет. Эти споры были так утомительны, так злили, и спасу от них не было. Короче, со временем вопрос о мундире Харрисона стал затрагиваться все реже, а потом и вовсе канул в забвение. Боб так и не разжился мундиром и не облачился в него, а на памяти генерала это был единственный случай, когда кто-либо с успехом противостоял его самодурству.
Сейчас на Харрисоне был серый льняной приталенный костюм, белая дакроновая сорочка и светло-серый галстук. Он был статным юношей, чуть выше шести футов, с квадратным, открытым, дружелюбным и честным, типично американским лицом, таким, как у полковника Джона Гленна, а то и еще типичнее. Короткие волосы, простая короткая стрижка. Иногда, читая, Боб надевал очки в роговой оправе, а ногти у него всегда были тщательно вычищены.
Разглядывая его, генерал думал; что сейчас, спустя семь лет, он знал Харрисона ничуть не лучше, чем в самом начале их знакомства, и размышлял над непреложной истиной, сводившейся к тому, что он доверял Харрисону и полагался на него гораздо больше, чем на любого другого члена своего окружения, больше, чем на любого другого человека вообще. А эти мысли причиняли неудобства и грозили толкнуть его на чреватые опасностью предложения. Он шумно прокашлялся, изгоняя всякий сор из головы, и сказал:
– Я полагаю, ты будешь рад встрече с отцом, не так ли?
Харрисон улыбнулся.
– Да уж наверное, сэр.
Не поймешь, то ли он и впрямь так думает, то ли говорит просто из вежливости: Харрисон во всем был вежлив, покладист, но совершенно бесстрастен. “Что он обо мне думает?” – мысленно спросил себя генерал и отвел глаза, когда к нему подошел первый официант с половинкой грейпфрута, с которого начинался каждый генеральский завтрак.
Во время еды их вялый разговор сводился к обсуждению морской прогулки, предстоящей встречи с Харрисоном-старшим и приема доктора Эдгара Фицджералда в постоянный штат генерала. Харрисон выпил еще кофе – то ли потому, что действительно хотел, то ли желая угодить генералу, разделив его общество за трапезой.
Завтрак генерала заканчивался кофе, горячим, крепким и черным. Официант, который его подавал, был новенький, молодой, перепуганный. Яхту слегка качнуло, на миг он потерял равновесие, и полная чашка кофе опрокинулась генералу на колени.
Генерал действовал без промедления. Охваченный ужасом и болью, он отскочил от стола, схватил правой рукой вилку и вонзил в живот окаменевшему от страха стюарду, который застыл на месте, побледнев и вытаращив глаза. Зубцы вилки были слишком коротки и тупы, чтобы нанести серьезное увечье, но следы на коже они все-таки оставили. Вилка упала на палубу, стюард отступил на шаг, и на его кителе появились четыре красных пятнышка, которые тотчас начали расплываться и расти.
“Что он обо мне думает?” – спросил себя генерал, бросив взгляд на Харрисона в надежде застать его врасплох, пока тот еще не пришел в себя после случившегося и этой вспышки ярости.
Харрисон уже вскочил, на лице – участливое и озабоченное выражение. Он протянул генералу свою салфетку.
Глава 3
Хуан Позос сидел у иллюминатора, положив на колени свежий номер журнала “Тайм”, и смотрел на темную зелень гор далеко внизу. Кроны самых высоких деревьев были озарены утренним светом, но в долинах по-прежнему стояла глубокая ночь.
Пассажир, дремавший на сиденье рядом с Хуаном, пробормотал что-то нечленораздельное, заерзал и снова угомонился. Хуан печально улыбнулся, глядя на него и завидуя его безмятежности. Способность спать в самолетах он считал одной из примет зрелости, которой сам еще не достиг. На этот раз он летел ночью из Ньюарка до Нового Орлеана, а оттуда до Мехико-Сити и, наконец, до Акапулько. Глаза его уже жгло огнем от недосыпания, но они все равно никак не желали закрываться.
Ну, да теперь и смысла не было спать: менее чем через час они пойдут на посадку. А как все удивятся, увидев его! Хуан улыбнулся в радостном предвкушении, представив себе выражение, которое вскоре появится на лице дядюшки Люка. Удивление и восторг. “Как тебе это удалось, молодой бездельник?” – “Отпросился на пятницу”. – “Надеюсь, ничего важного не пропустил?” Эти последние слова будут произнесены с деланной укоризной, которая не обманула бы и слепого. “О-о, всего лишь два-три зачета”, – скажет Хуан, смеясь, и дядюшка Люк засмеется вместе с ним, обнимет его за плечи и заявит:
“Ну, приехал, и ладно”.
Хуан улыбнулся, предвкушая все это. “О-о, всего лишь два-три зачета, – мысленно повторил он. – О-о, всего лишь два-три зачета”. Эта сцена была для него такой же реальной, как горы внизу, как черная лента дороги, которую он мельком видел время от времени. Стекло какой-то машины пустило солнечный зайчик.
Единственную сложность для него представлял генерал. Если он будет пьян, или спутается с женщинами, или станет корчить из себя знаменитость в каком-нибудь “Хилтоне”, это еще полбеды, и выходные могут пройти довольно приятно. Но порой, пусть и очень редко, генерал вдруг вспоминал о своем отцовстве и делался сентиментальным, лобызал Хуана в щеку, бил своих шлюх по морде, дабы похвастать произошедшими в нем нравственными переменами, и заявлял, что Хуан должен уехать из Штатов, вернуться в Герреро, домой, и стать настоящим сыном. Тогда генерал обычно кричал: “Я куплю тебе лошадей!” Как будто появление лошадей для игры в поло может вдруг превратить Герреро в дом.
Хуан знал, где его дом. Он только что оттуда уехал. Вот о чем он хотел потолковать с дядюшкой Люком.
Собственной персоной он появится в Герреро еще только один раз в жизни по случаю похорон генерала. Он не желал генералу зла – он был безразличен к судьбе отца, но знал, что при обычном порядке вещей в мире отец сходит в могилу раньше сына. Его присутствие потребуется на похоронах, а потом ему, возможно, предстоит соблюсти какую-то формальность, отказавшись унаследовать пост отца. Вероятно, будет лучше всего, если рядом с ним тогда окажется дядюшка Люк при условии, разумеется, что он доживет до тех времен. Уж он-то поможет Хуану выбрать кандидатуру на пост президента Герреро. Ведь ему предстоит решить, как направить его несчастную родину по пути справедливого правления, после чего он сможет посвятить себя личной жизни и забыть Герреро навсегда.
Это тоже будет приятно дядюшке Люку. Хуан знал, что дядюшка Люк не радуется по поводу предстоящего Хуану окончания колледжа. И он знал, что причиной тому – убежденность дядюшки Люка в том, что он намерен вернуться в Герреро, получив этот сраный диплом бакалавра. Из-за этого и летел сейчас Хуан повидать дядюшку Люка. Ему хотелось не только остаться в Штатах, но и продолжить учебу в аспирантуре.
Он уже разработал четкий план. Он возьмет в долг у дядюшки Люка. Хуан уже понял, что генерал, возможно, откажется оплачивать его образование после получения степени бакалавра. И позаботится о том, чтобы это был настоящий заем, а не откровенная подачка. Ему уже исполнился двадцать один год, он сам хотел быть себе хозяином.
Он продумал все исключительно тщательно. Месяцами он строил планы на будущее: действительно ли ему хочется стать адвокатом, или же он избирает это поприще, чтобы угодить дядюшке Люку, пойдя по его стопам? В одном он был твердо уверен: он и впрямь хочет заниматься правоведением.
Американским правом. Законодательством штата Пенсильвания.
Вряд ли, конечно, человека вроде Хуана Позоса когда-нибудь выдвинут в губернаторы штата Пенсильвания, но все-таки это не совсем уж немыслимо. Хуан даже подумывал, а не сменить ли ему имя на более приемлемое в приютившей его стране, возможно, даже взять фамилию Харрисон или имя Люк. Однако у него была слишком уж латиноамериканская наружность: оливковая кожа, блестящие волосы, смазливая физиономия. Да и вообще некрасиво поворачиваться спиной к своим истинным предкам. Пусть он эмигрант, пусть у него другая родина, но Хуан Позос не отступник.
По сути дела, он уже настолько утратил связи с родиной, что воспринимал испанский язык как иностранный. Во время последнего перелета, из Мехико-Сити в Акапулько, на борту самолета компании “Аэронавес-де-Мексика”, когда стюардесса обратилась к нему по-испански, он сначала не понял ее, а потом буркнул что-то по-английски. Затем, когда она тоже ответила по-английски, он с запозданием переключился на корявый испанский, чем поставил себя в неловкое положение, из которого человеку двадцати одного года от роду не так-то легко выпутаться.
Такого рода происшествия заставляли его особенно остро чувствовать странность собственного положения. Большую часть жизни он провел в Штатах, но по-прежнему был гражданином Герреро. Он думал о себе как об американце, и непринужденнее всего говорил по-английски, но его имя, фамилия и внешность были латиноамериканскими окончательно и бесповоротно. Самым важным человеком в его жизни был дядюшка Люк, даже не кровный родственник, а настоящий отец, которого Хуана с детства учили называть “генералом”, приобретал значение, только когда дело касалось денег, но даже и этому скоро придет конец.
Порой Хуану казалось, что, будь на его месте более тонкий человек, он стал бы настоящим невротиком, ушел в себя, и жизнь его пошла бы наперекосяк. Но сам он слишком любил жизнь, чтобы тревожиться из-за такой чепухи, раздумывая, кто он такой. Он с радостью учился в университете Пенсильвании, ему нравилось жить под крылышком дяди Люка, и ничто в обозримом будущем не могло повергнуть его в хандру, тревогу или смятение.
За иллюминатором под крылом самолета лежало синее-синее море. Хуан не забыл прихватить с собой белые плавки и, глядя на воду, снова невольно заулыбался.
Подошла стюардесса, разбудила пассажира, спавшего рядом с Хуаном, и сказала ему по-испански, что они приближаются к Акапулько и пора пристегнуть ремень. Посмотрев на Хуана, она на мгновение заколебалась, потом по-английски велела ему сделать то же самое. При этом стюардесса улыбнулась, давая Хуану понять, что не считает его позером, корчащим из себя гринго.
Хуан защелкнул ремень. “О-о, всего лишь два-три зачета”, – промелькнула в голове шутливая фраза, реплика из прекрасно отрепетированной сцены.
Самолет описал широкий круг, благодаря чему Хуан смог насладиться бесконечной чередой красивых видов Акапулько, зелеными горами, синим морем, голубым небом, белым полумесяцем города.
“О-о, всего лишь два-три зачета”.
Глава 4
Губернатор Харрисон любил разъезжать на пляжном багги, переделанном “джипе” под полосатой жестяной крышей. С виду, казалось бы, такое неказистое, несерьезное, детское средство передвижения, а между тем машина была крепкой, мощной и надежной в эксплуатации. Самое лучшее средство, чтобы развеяться, забыть о своих бедах, почувствовать, как тает груз забот и тревог, снова проникнуться кипучим волнением юности.
Когда он в очередной раз успокоил Эдгара – а это была нудная, мучительная, кропотливая и нескончаемая работа, губернатор ощутил потребность в исцелении, в безмятежной расслабленности, а потому спустился с холма, забрался в свой полосатый, как карамель, багги и забылся под рев мотора. Сначала в восточную, холмистую часть города, потом вниз, к Эль-Маркесу, в некотором роде еще более изысканному и дорогому курорту, чем сам Акапулько. Эль-Маркес с его причудливым пляжем, с длинными ленивыми волнами, набегающими на песок цвета остывшей золы, с немногочисленными уединенными отелями старой постройки и редкими, обнесенными оградами частными земельными владениями был городком, в который политиканы и главы государств наведывались чаще, чем в Акапулько. Дуайт Эйзенхауэр, уже став президентом Соединенных Штатов, однажды отдыхал в Эль-Маркесе. Но генерал Позос в силу особенностей его натуры и темперамента неизменно предпочитал более людный и менее изысканный Акапулько.
Вести пляжный багги одно удовольствие, только вот ехать было некуда. Сегодня губернатор даже не укатил за пределы пляжа, а развернулся на дорожной развязке у базы ВМС и поехал обратно через холм, миновав отель “Сан-Маркое” и забравшись в центр Акапулько, за Орнос – пляж, где было принято купаться только после полудня. Дальше находились только утренний пляж Калета и тупик.
Тут он вылез из багги, оставил в машине туфли и носки и немного побродил по песку в толпе отдыхающих. Мальчишки норовили продать ему соломенные шляпы и циновки, яркие мексиканские шали и деревянные куклы, сандалии и содовую со льдом. Любители выпить могли купить джин в выдолбленных кокосовых орехах с соломинками. Но губернатору ничего не хотелось.
С пляжа была видна яхта генерала Позоса, стоявшая на рейде в гавани. Катер еще не отошел от яхты и, вероятно, не отойдет раньше полудня.
Губернатор Харрисон удивился своему нежеланию снова встречаться с генералом Позосом. Он презирал этого человека, терпеть его не мог, испытывал к нему глубокую неприязнь. Так было всегда, но если прежде эти чувства сменяли друг друга в его сознании, не поддавались никакому определению, то теперь, когда замысел претворялся в жизнь, когда решение было принято, Харрисону казалось, что он не имеет права даже думать плохо о генерале Позосе, словно тот уже был покойником. Ведь думать дурно о мертвых грешно.
Да еще Боб. Как же давно он не видел Боба? Месяцев семь или восемь. Когда сын достигает зрелости, он отдаляется от отца. Думая о Бобе – по сути дела, впервые за много лет, – губернатор вдруг с удивлением осознал, что он уже и не знает, какой человек его сын. Когда же это случилось? Когда оборвалась его связь с мальчиком?
Боже мой, да уже много лет назад! Когда сыну не было еще и двадцати, губернатор целиком и полностью посвятил себя политике. Потом Боб уехал учиться в колледж, а последние семь лет работал у Позоса.
И Хуан Позос занял его место.
Стоя на горячем песке, чувствуя, как песчинки забиваются между пальцами и прилипают к босым ступням, губернатор смотрел на белую блестящую яхту в гавани, криво улыбался и думал: “Мы обменялись сыновьями. Как раз тогда, когда он волею судеб стал моим врагом, которому уготована смерть по моей милости, мы обменялись сыновьями. Но почему моя жизнь так переплелась именно с жизнью генерала Позоса? Неужто мы – две стороны одной и той же медали, представители двух противоположных точек зрения на управление государством? Неужто Всевышний вершит свой символический промысел, сделав меня причиной гибели диктатора?”
Он удивился, поймав себя на том, что не хочет видеть сына. В каком-то смысле он даже страшился встречи с ним.
Эта чертова девчонка, подумал он, ну почему они никак ее не поймают?
Он повернулся спиной к морю, тяжело побрел по песку к своему пляжному багги и тут обнаружил, что кто-то умыкнул его туфли и носки. Он сердито огляделся, и ему почудилось, что все мексиканцы бросают на него насмешливые и косые взгляды. Он нисколько не сомневался в том, что все они видели, как вор брал его носки и туфли, но ничего не сделали и не намерены делать. Быть может, виновник, не прячась, сидел среди них на песочке и безмятежно улыбался. Дав волю досаде, Харрисон злобно выругался, влез в багги и с ревом понесся назад через весь город, распугивая других водителей и проезжая на красный свет.
Добравшись до отеля, он остановился у главного корпуса спросить, не звонили ли ему. Нет, никто не звонил. Харрисон в гневе протопал босыми ногами по дорожке к своему коттеджу и увидел, что Эдгар как сидел, так и сидит там, где он оставил его, пыхтя трубкой и задумчиво глядя на море.
Доктор увидел губернатора, вынул трубку изо рта и сказал:
– Люк...
– Сейчас мне не до тебя, Эдгар. Если это опять какая-нибудь чепуха, я не хочу ее выслушивать. Доктор удивленно спросил:
– Где твои башмаки?
Губернатор открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь едкое и язвительное, но тут в его коттедже вдруг зазвонил телефон.
– Потом поговорим, – бросил он и поспешил в дом.







