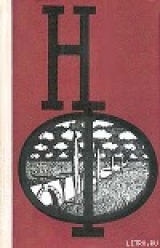
Текст книги "НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 20"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Соавторы: Кир Булычев,Фредерик Браун,Роман Подольный,Дмитрий Биленкин,Владимир Гаков,Джеймс Ганн,Игорь Росоховатский,Дэймон Найт,Ольгерд Ольгин,Михаил Кривич
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Конечно, пустяк, разговор ни о чем. Но снова все, чего бы она ни коснулась, представало необычайно важным и значимым.
Он подумал: как хорошо было бы вот так сидеть и разговаривать с нею, незаметно лаская взглядом каждый жест ее, форму рук, поворот лица. Это, может быть, так и было б, если бы не эти Железные Скалы, если б не зуммер, кричавший оттуда семнадцать часов подряд.
Он знал, что сделает то, ради чего здесь. Он сделает все, что нужно, чтобы ее найти.
Они сидели друг перед другом, и темный низенький столик был между ними. На тонких, закрученных ножках, он был уставлен прозрачной посудой и белыми чашками. Они пили чай – вот что делали они теперь. Пили чай. Тонкая чашка просвечивала в тонкой ее руке. И он снова почувствовал то, что подумал тогда, – рука ли ее возникла из небытия только затем, чтобы однажды держать эту чашку, или чашка была создана кем-то, кто мог предчувствовать именно эту руку?
– Мне хочется, – продолжала она, и чашка, звякнув чуть слышно, вернулась на блюдце, – мне хочется иногда, чтобы меня окружали другие предметы и стены. Другого вида, другого цвета. То, что вокруг нас, должно меняться, как мы меняем одежду, по настроению…
Она перевела взгляд на иллюминаторы, где желтые струи и клубы бежали по-прежнему вверх.
Он тоже молчал, помешивая ложечкой чай.
Так молчали они, потому что умение беседы требует мало слов. Куда больше это искусство пауз. Когда каждый может побыть наедине с собою, с тем, о чем думает он.
Он видел ее лицо. Он не пытался уже воспринять ее как бы со стороны, как если бы видел впервые. Этот тонкий излом бровей. Подвижный изгиб рта. Эта резкая линия скул. Как назвать то, что связывало их воедино? Пропорции? Внутренний ритм? Или, как говорят о художнике, почерк? Известно бессилие слова! Он опять вспомнил чашку в ее руке. Где-то там, где-то близко к тому, что почувствовал он, таился ответ. Но он ему не давался.
– Даже когда я выбираюсь со станции, – заговорила она, – я делаю это, наверное, чтобы раздвинуть пространство, пространство моего бытия.
Он кивнул. Он понимал это. И еще он понимал, что приближался тот миг, ради которого он и начал все это. Миг, когда он должен узнать, куда отправилась Оэра, точный уровень, сектор или квадрат.
Это не было просто – все, что воспроизводилось кристаллом, каждая сцена и каждое слово были расписаны и предначертаны. И стоило чему-то нарушить это течение, как это тотчас вызывало "эффект резонанса": видимый мир, порожденный кристаллом, начинал изменяться непредсказуемо и неведомо как. Эффект этот мог затухнуть, а мог, наоборот, расширяться, не имея предела.
Оэра встала. Прошла вдоль стены. Медленно – туда. И еще медленнее обратно. Миг приближался. Он ждал. Сейчас она вернется и сядет в кресло. Она вернулась и села в кресло. Сейчас она скажет эти слова. И она сказала:
– Я думала, говорить ли тебе. Говорить ли вообще. Мне кажется, вчера в Железных Скалах я видела Красный Шар…
"Красный Шар! Ты знаешь, что это? Ты слышала о Красном Шаре?" – так должен был бы воскликнуть он. Но сейчас вместо этого он спросил быстро:
– Где? Где ты его видела?
– Сектор "М".
Он успел заметить, как удивленно взметнулись у нее брови.
– Уровень? Уровень? – Анджей почти выкрикнул это. Но поздно. Она не успела ответить. Изменения произошли. Раздалось пронзительное шипение, пронесся свист, свет словно бы померк, и потолок осел вдруг почти на четверть.
– Уровень… – по инерции повторил он.
Но Оэра уже не слышала его. Ложечкой она помешивала чай, который был в чашке. Только теперь она уже не держала ее в руке. Сама рука ее, лишенная пальцев и кисти, завершалась теперь белой чашкой. Он не успел еще осознать, не успел принять этого, как увидел, что глаза у нее стали, как у римских статуй. Они были открыты, но их подернули бельма такого же цвета, что и лицо.
Он не удивился, не испугался. Он знал, что что-то произойдет. Может быть, это не худшее. Пока не самое худшее.
– Красный Шар? Но ведь экспедиция Хоупа… – Теперь Анджей пытался говорить так, как если бы ничего не случилось. Как если бы не было ничего.
Все-таки он узнал – сектор "М". Искать ее нужно будет в секторе "М". Правда, думать об этом сейчас было рано. Он должен еще продержаться. Он должен еще продержаться и выйти живым из этого зала. Отклонения, если они начались, никто не знает, в какие дебри могут зайти. Каким параноидным бредом могут стать и в какой кошмар обратиться. (Одна из ножек чайного столика согнулась и почесалась о другую привычным птичьим жестом. Чашки дрогнули, но не успели упасть – ножка вернулась на место, и все стало опять как было.)
Сколько еще оставалось – полчаса, час?
– Экспедиция Хоупа видела Шар только один раз… – произнес Анджей. Слово в слово, старательно он повторял то, что произнес тогда.
(В наружной стене вдруг прорезался глаз, налитый кровью и круглый, величиною с блюдце, и стал смотреть, подрагивая и мигая, на то, что происходило здесь.)
Анджей выждал паузу, когда Оэра должна была бы ответить ему, и продолжал так, как если бы она сделала это. Голос его не дрожал, он был почти спокоен. Конечно, все это малоприятно, но пока это не было страшно. Не хуже того, что ему пришлось пережить и видеть. Только бы Оэра сидела так, как она сидит, только бы не двигалась с места. Потому что призрак, фантом, вышедший из-под контроля, – это было то, что действительно страшно.
Он не заметил, как потолок вроде бы чуть поднялся. Стало как будто светлее. Отклонения, может быть, затухают? Может, все войдет еще в русло?
Рука у Оэры стала ее рукой, и в ней была теперь настоящая чашка. Только глаза ее по-прежнему были подернуты пленкой.
Анджей продолжал говорить то, что должен был произнести по ходу, радуясь, что постепенно все налаживается, все возвращается и становится так, как было.
Когда Оэра ответила ему наконец, голос ее не сразу стал таким, каким он был до этого. Но и это тоже скоро прошло. И разговор пошел как бы прежний, как тот, который должен был быть. Он не заметил даже, когда пленка ушла с ее глаз и Оэра во всем стала, как раньше. Казалось, стала, как раньше. Так можно было подумать.
Он не ожидал, не мог надеяться, что отклонения кончатся, исчерпают себя так быстро.
Как барс, изогнувшись всем телом, Оэра взглянула через плечо на хронометр, качавшийся на стене. Как всегда – вверх и вниз. Вверх и вниз.
– Не пора ли мне? Не пора ли…
И заспешила. И стала прощаться, поглядывая на наружный туман, который едва плыл теперь, поднимаясь кверху.
Запись кончалась. Запись кончалась. Сейчас все должно было кончиться. Исчезнуть, распасться.
И тогда на последних минутах он все-таки решился. Решился спросить об уровне. И замер с безразличным лицом, ожидая ответа. Ожидая новых страшных каких-то перемен и сдвигов в эти оставшиеся мгновения. Но ничего не произошло. Ничего вроде бы не произошло от его слов, только брови опять удивленно взметнулись на узком ее лице.
– Уровень? – переспросила она. – Уровень… – И, перегнувшись, недоумевая, в упор посмотрела ему в глаза. Он опустил взгляд. Как если б и правда был неискренен в чем-то или слукавил.
Но впрочем, оно так и было.
– Ты поедешь со мною, – произнесла она вдруг и легко встала. – Я так хочу, так решила…
Это было в ее манере, в ее стиле.
Этого не было там в кристалле. В записи, которую он хранил.
Она направилась к двери.
Он знал, что псевдодвери не могли открываться. Но если бы даже открылись, за их провалом, за ними не было ничего. Ничего, кроме части зала, в котором была пустота. Она приоткрыла дверь. И оглянулась, ожидая его взглядом. Он сделал шаг. Другой. Дверь за ними закрылась. Он узнал коридор из комнаты Оэры. И знакомые шесть ступеней, которые вели вниз.
– Забыла, забыла взять… – встрепенулась она и мотнулась обратно. И тогда Анджей понял, как это произойдет. Она снова войдет в эти двери. И тогда-то и кончится запись. А он останется тут в коридоре. Хотя и трудно понять, почему оказался он здесь, а не в зале.
Но она не ушла. Махнула рукой, сказала:
– Не важно. Ну его.
И обернулась к нему:
– Ты невесел? Недоволен? Может, не хочешь идти со мною?
Он заставил себя улыбнуться. Взял ее за руку. Ощутил ее руку. Рука фантома. Фантома?
И пошел рядом с нею по коридору. Он шел, как всегда, справа. Чтобы не были видны шрамы. То место, где у него были шрамы на другой стороне лица.
Они сошли по ступеням. Они направлялись к шлюзам.
Плоская белая чечевица раскрыла бок, приняла их и сомкнулась снова. Потом створки шлюза медленно разошлись и желтое марево поглотило амфибию.
Все было реально. Все было так, как если бы происходило на самом деле. Анджей крепко сжал свою руку другой рукой. Только чтобы почувствовать, что он это он. Что это по-настоящему.
Оэра включила обзор, и клубящаяся стена впереди пропала. Далеко у горизонта проступали зубчатые изломы Железных Скал.
– Красный Шар, – начал он, – говорят, что Хоуп…
Но она перебила его.
– Ты все-таки варвар. Только варвары думают, что женщина глупее их. Я знаю все. И о Хоупе. И о Красном Шаре.
Он все ждал, когда что-нибудь случится.
Но ничего не случилось.
– Где-то здесь, – повторяла она. – Где-то здесь. Близко.
Наконец это произошло. Действительно, в секторе "М". Под одной из ячеистых арок амфибию занесло и заклинило в расщелине намертво. Когда этого еще не случилось, за мгновение до того он успел подумать: "Вот оно!" Радуясь глухо, как радуется человек, оказавшийся в чем-то правым. Даже когда он прав оказался в худшем.
Единственное, что знал он теперь, это то, что найдут их нескоро. Не раньше, чем через семнадцать часов. И то, если им повезет. Сигнал бедствия, тонкий писк радиозуммера, плыл по переходам, отражаясь многократно. Но тем двоим, что искали их, он знал, невозможно было найти то место, ту точку, откуда он исходил.
Когда же наконец их нашли, когда они выбрались и на буксире добрались до станции, он знал уже, что сделает в первую очередь.
Анджей потянул на себя квадрат полосатой двери, и она отворилась, массивная и стальная. Привычной рукой он нащупал в стене устройство. Он не удивился бы, если бы оно оказалось пусто. И правда, ему показалось, что там ничего нет. Но через мгновение кристалл, оплавленный и холодный, упал ему в руку.
Игорь Росоховатский. Учитель
– Уйди, дурак!
– А еще кто?
Послышались два удара. Плач. Крик:
– Знаешь, кто ты?
– Скажи, скажи. Что, забоялась? Скажи, трусиха! Ну, говори!
Я на бегу свалил хрустальную вазу, и она красиво зазвенела и затенькала в разных местах комнаты.
– Говори, кто я! Горбун, да? Калека, да?!
Град хлестких ударов сыпался на кого-то.
Я знал не только их силу, но и заряд злобы, знал, чего можно опасаться. Отшвырнув стопку книг и еще что-то, мешающее добраться до двери, ударил в нее плечом, не говоря ни слова, бросился к мальчику. Увидел острый горб и длинные цепкие руки…
Я никак не мог его удержать и стиснул так, что он начал задыхаться. Только тогда драчун ощутил мое присутствие и прохрипел:
– Пустите!..
Я молчал, сжимая его, и мне казалось, что держу звереныша. Стоит на мгновение отпустить – и он опять бросится на жертву. Я не мог оторвать взгляда от окровавленного лица девочки, которую он избил.
– Пусти…
Его тело обмякло, почти повисло в моих руках, и, сделав над собой усилие, я расслабил объятие, повернул его к себе лицом, заглянул в упрямые, сухие, бесцветные глаза.
– Девочку? Ты посмел бить девочку? Девочку, которая в два раза младше тебя?
Я никак не находил нужных слов. Ярость клокотала во мне, искала выход, и я несколько раз крепко встряхнул его, прежде чем овладел собой. Он стоял полузадохшийся, обессиленный, но не укрощенный.
– Пусть не дразнится. А то покажу… какой я… калека…
Я не объяснял ему, что девочка не называла его ни горбуном, ни калекой, что он все придумал, что сам назвал себя. Любые объяснения были бесполезны – в этом я уже не раз убеждался. Его перевели в мою группу, доверили мне, как самому выдержанному из воспитателей, и всего за каких-нибудь три месяца он "перевоспитал" меня и превратил в неврастеника.
Сначала я еще держался, говорил себе; он не виноват, он калека, его замучили на операциях в клиниках, пытаясь исправить легкие, сердце, позвоночник, железы… Он родился паралитиком – последнее звено в цепи деда-алкоголика и слабоумного отца, давшего ему словно в насмешку имя библейского красавца – Иосиф. Его вырвали из оков паралича, есть надежда, что удастся в будущем еще несколькими операциями исправить горб. Но как исправить его тупость? Его дикую злобу и к взрослым и к детям? Я пробовал вовлечь его в свой кружок рисования и лепки, но даже безмолвные изображения людей вызывали у него припадки ярости, и он в мое отсутствие нарочно портил холсты, разбивал гипсовые фигурки. Только животные не пробуждали у него злости. Заметив это, я поручил ему ухаживать за кроликами, но одного из них он сразу же изжарил на костре. На мои нравоучения ответил, уставясь в землю и облизываясь: "Вкусно".
И даже после этого я все еще на что-то надеялся: так велика была моя самоуверенность. Я не хотел сдаваться, признаться себе, что тут нужны нечеловеческие нервы и терпение. Хотя бы для того, чтобы к длинному списку его жертв не присоединился еще и сведенный с ума воспитатель.
– Пошли! – крикнул я, волоча его за руку.
Я втащил Иосифа в кабинет директора. Выражение моего лица было достаточно красноречивым, и директор опустил голову.
– В специнт! – рявкнул я. – Умываю руки!
– Да, да, хорошо, дорогой, только успокойтесь, – директор подвинул мне стакан воды, и я его выпил залпом.
Воспитанник, смотревший на нас с откровенным любопытством, несколько приуныл. И его лицо, которое оживляла лишь злость, стало тупым и жалким.
В эту ночь мне было не до сна. Унижение, досада, сомнения не давали покоя. Подушка становилась горячей, и я переворачивал ее. В конце концов я начал видеть в темноте и обнаружил, что авторучка, которую безуспешно искал в течение трех дней, завалилась под кресло и блестела там, как таинственное око.
Я понял, что никакие усилия не помогут мне уснуть и, набросив халат, резко щелкнув выключателем, пошел в свою мастерскую. Гипсовые слепки подозрительно уставились на меня пустыми глазницами, разноцветные лица смотрели с холстов. Здесь были сотни набросков, сотни лиц и выражений, схваченные на бумаге, на холсте, вылепленные в глине, пластмассе, вырезанные в камне. Так я пробовал создать тот единственный облик учителя, на который детям достаточно было бы взглянуть, чтобы поверить ему.
Но у меня он получался или уродливым или слишком красивым, что, по сути, не так уж далеко одно от другого. Иногда мне казалось, что наконец-то кусочек чуда свершился: этот нос на рисунке – его нос, этот лоб – его лоб. Но как только я соединял их в портрете, мои надежды рушились. Я говорил себе: не будь ослом, ты поставил перед собой задачу, посильную лишь для большого мастера… Не помогало. Тогда я начинал хитрить: бедняга, как ты не понимаешь, задача вообще невыполнима, такого облика не может быть. Но так как я хитрил с самим собой, то тут же отвечал: он ведь возникает в моем воображении. Почему же я не смогу перенести его в материал?
Я смотрел последний набросок, еще вчера казавшийся почти удачным: часть лица, губы и подбородок… Но сегодня я не мог не спросить себя: а Иосиф поверил бы этим губам?..
Рассвет пришел как избавление. Одеваясь, я твердо сказал себе, что вчера поступил правильно, что в конце концов не мог поступить иначе, что ни один человек не вынесет Иосифа. Но идя по узкой дорожке через сад к зданию канцелярии, я все-таки жалел гнусного мальчишку. Я знал, что в специнте Иосифу будет неплохо. Просто он ни над кем не сможет издеваться. Там не бывает непослушных детей, вернее они становятся послушными. Иосиф попадет к воспитателю, которого уже не сможет вывести из себя. Против него будут нечеловеческие нервы и нечеловеческое терпение. Ведь его воспитателем будет существо с восемью или десятью сигнальными системами, с органами Высшего Контроля. Я никогда не принадлежал к тем, кто ненавидел или боялся сигомов, этих сверхлюдей, созданных в лаборатории. Я видел их, и не только по телевизору, великанов и гениев с "прекрасными, волевыми, выразительными лицами героев", как писали газеты. Слишком прекрасными, слишком волевыми, слишком выразительными!
Для них трудилась вся планета, все мы; физиологи и химики, генетики и врачи, математики и инженеры, лучшие художники и скульпторы, создававшие формы носа, губ, скул, надбровий, лбов, плеч… Природа никогда так не старалась для нас. Что же, все правильно. Пусть сигомы теперь поблагодарят своих создателей, пусть потрудятся для нас. Они могут осваивать и колонизировать другие планеты, звездные системы, обогащать наши знания, пересылать на Землю сырье и энергию. Они могут даже лечить нас и оперировать – их колоссальная память, быстрота мышления и реакций, точные могучие руки позволят сделать это как нельзя лучше.
Но доверить им воспитание наших детей? И каких – самых трудных, легкоранимых, калек?.. Да, сигом может, как и всякий человек, прочесть "Слепого музыканта". Он может ужаснуться страданиям несчастного Квазимодо. Но он прочтет, ужаснется, посочувствует и забудет… Чужая рана останется чужой раной, чужая боль – чужой болью. Так бывает даже с обычными смертными, которые могут легко представить себя на месте калеки. А сигом? Существо, которое безболезненно достраивает и перестраивает свой организм? Ведь это качество – главное, что дали сигомам мы в отличие от матери-природы, которая не дала этого нам. И оно же не позволит им ощутить всю глубину человеческой безысходности…
Иосиф и директор уже ждали меня, но не на посадочной площадке, а в кабинете. Я старался не замечать глаз директора, которые спрашивали: "Неужели мы сами не справимся с ним?" Директор испытующе проворковал:
– Ну что ж, дорогой, если вы решили окончательно…
– Окончательно, – сказал я, словно перерубил канат.
Он нажал кнопку вызова гравиплана…
Мы прошли на посадочную площадку. Иосиф всхлипывал и что-то жалобно бормотал. Но как только он понял, что ходу назад нет, бормотание перестало быть жалобным. Я различил его любимое словечко "гады".
Через полтора часа, оставив позади почти семь тысяч километров, мы приземлились на территории специального интерната для трудновоспитуемых детей. Нас встретили два мальчика, вопреки моему ожиданию два совершенно обычных мальчика, не слишком вышколенных и не слишком вежливых.
– Учитель сейчас на первой спортплощадке, – сказал один из них и кивнул на второго. – Он проводит вас.
– Меня зовут Родькой, – коротко представился провожатый и сразу же повел нас по тропинке на холм, густо поросший кустарником. Эскалатора здесь не было, и, пройдя с полкилометра, Иосиф сел на траву и сказал, что больше пешком не пойдет. Он, дескать, не верблюд. Я шагнул к нему, но меня опередил наш провожатый. Он наклонился и зашептал на ухо Иосифу:
– Брось. Здесь чего только не выделывали… По секрету говорю, не бузи. Сначала присмотрись, что к чему…
Нельзя сказать, чтобы с большой охотой, однако Иосиф встал и поплелся, стараясь держаться поближе к Родьке и подальше от меня. Но поскольку провожатый шагал размашисто, Иосифу пришлось тоже ускорить шаг. Не сразу я заметил, что Родька слегка хромает.
Кустарники закончились, начался лес. Над нашими головами пели птицы так заливисто, как никогда не поют они в городах, Невольно мы прислушивались к ним, даже Иосиф.
На опушке нам повстречался высокий мужчина, очевидно, лесник. На плече он нес топор и связку кольев.
– Здравствуйте, – поздоровался с ним Родька.
– Новенький? – кивнул лесник на Иосифа.
Родька весело подмигнул, и вслед нам прозвучало!
– Ни пуха ни пера!
Лес как-то незаметно перешел в парк. Все больше и больше дорожек, скамеек, площадки для игр, бассейны… На каналах встали радугами перекидные мостики.
Мы остановились на берегу канала. Напротив на спортплощадке играли в баскетбол ребята.
– А вот и учитель, – сказал Родька.
Стройный гигант в спортивном костюме легко перепрыгнул через канал и направился к нам. От удивления я отступил на шаг. Дело было не в том, что канал достигал в ширину не менее восьми метров – для любого сигома это был пустяк, но мне показалось… да, показалось, что я узнал гиганта, что видел его не раз, и его гибкую фигуру, и походку, что мне знакомо каждое движение… Банальные слова разом хлынули в мою бедную голову: "это прекрасно", "поразительно", "чудесно"…
Я увидел его лицо, где даже вырез ноздрей убедил бы самого гордого скульптора, что тот попросту бездарен, и понял тщетность своих попыток создать облик учителя. Этого бы не смог, пожалуй, ни один из художников Земли. Кто же все-таки создал его?
Ведь именно он – учитель, созданный моим воображением, стоял перед нами, и Иосиф, не отрывая от него глаз, вдруг робко спросил:
– А я когда-нибудь смогу так прыгнуть?
– Сможешь, – сказал учитель, и противный мальчишка сразу же поверил ему.
Мне тут больше нечего было делать…
Не хочу врать, мне стало невесело. В моем лице был унижен не только художник, не только воспитатель…
Я повернулся, что-то буркнул на прощание и пошел обратно. А в голове, как путеводный луч, мерцал вопрос: кто же все-таки создал его? Кто создал этот облик? Лишь один человек мог бы мне ответить…
– Уже справились…
Я поднял взгляд. Передо мной стоял лесник.
Он заметил, что я расстроен, мягко проговорил!
– Не волнуйтесь, все будет в порядке. Вы его отец?
– Учитель, – ответил я, и улыбка сползла с его лица.
– Ничего не поделаешь, – проговорил он в некоторым вызовом. – И разве плохо, что человек может стать сильнее природы?
"Это не лесник", – подумал я и спросил:
– Кто вы?
– Моя фамилия Штаден.
– Тот самый?
Он пожал плечами:
– Да.
"Философ и математик Борис Штаден, один из создателей сигомов, знаменитый, прославленный и т.д. Но что он здесь делает? Может быть… Неужели?.. А почему бы нет?.. Конечно, так ведь и должно быть!"
Я спросил:
– Учитель – ваше создание?
– Верно, – с плохо скрытой гордостью ответил он.
Я не хотел рассказывать Штадену о всех моих мучениях, безуспешных попытках. Я решил обойтись без предисловий:
– Видите ли, у меня есть один вопрос. Если не хотите, если это секрет, не отвечайте… Кто был художником и скульптором, кто создавал его облик?
Он замялся:
– Собственно, этот сигом создавался не так, как другие. Ведь он и предназначался для необычной цели. Я начал с посещения разных школ для детей-калек. Долго выяснял, какое самое заветное желание у слепого ребенка, и узнал, что он хотел бы стать художником и рисовать говорящий лес. "Рассказывают, что он зеленый, – сказал мальчик, – а я знаю только, как он разговаривает. Я бы нарисовал его говорящим и зеленым". Хромой мечтал выступать в балете, глухой – писать музыку и услышать голос матери. Горбун хотел иметь фигуру гимнаста… Я спрашивал у паралитиков, у разных уродов… У каждого была своя мечта…
– Понимаю! – вырвалось у меня. – И вы создали его по детским мечтам!
Я смотрел на Штадена с восхищением, а он отвел глаза, отрицательно покачал головой:
– Это было бы слишком просто. Вы забыли о главном – сигом должен до конца понимать этих ребят…
Штаден помолчал, вспоминая что-то, вздохнул:
– Я создал его хромым, слепым, горбатым… Я дал ему только мощный разум и детские желания как первую программу. И он сам создал себя…








