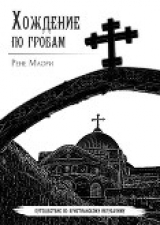
Текст книги "Хождение по гробам"
Автор книги: Рене Маори
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
От автора
Их было много, людей, выбравших для себя религиозное служение, а потом вдруг осознавших, что все это ложь. Покидая институт церкви, они становились атеистами, и всю свою жизнь посвящали развенчанию мифа. Таким был и профессор богословия Евграф Дулуман. Человек – легенда. Я счастлив тем, что на закате его жизни успел несколько лет пообщаться с ним. Правда, виртуально. Через электронные письма. Но есть люди, обаяние которых словно просачивается сквозь монитор.
Человеческая память коротка и обладает способностью трансформировать отдаленные события так, как это удобно организму, иначе наша жизнь превратилась бы в сплошной стресс. Черные события нашей жизни по прошествии времени становятся серыми или светло серыми, белые – обретают абсолютную белизну и даже сияние. Писатель останавливает мгновение, но транслирует его через призму собственного восприятия. Этот небольшой сборник статей не является богословским трактатом точно так же, как и не является атеистическим памфлетом. В нем лишь мои собственные размышления, мое видение ситуации, моя попытка проанализировать и понять то, что кажется мне неубедительным. Если у вас имеются причины для того, чтобы со мной не согласиться, то это ваше право, точно такое же, как и мое право иметь свои убеждения и видеть мир по-своему. Поэтому, я не предполагаю дальнейших разговоров с адептами той или иной веры, и уж, конечно, прошу не проводить рядом со мной никакую миссионерскую деятельность. Потому что от того, к чему вы пришли, я уже ушел.
Прелюдия
Дорогой друг. Три дня назад я обещал рассказать тебе о своем увлекательном путешествии в христианский Иерусалим. Впечатлений от увиденного оказалось так много, что я решил рассказывать частями и по вдохновению. К сожалению, с иллюстрированием моих записей случилась беда – разом отказали оба фотоаппарата, но это не принесет тебе никаких неудобств, ведь ты знаешь, что я художник слова, а такому художнику ни к чему плоские визуальные изображения – он и без них умеет все очень живо и образно описать.
Не стану рассказывать тебе о своем путешествии до Тель-Авива, ибо затейливость пейзажа на всей протяженности этой дороги уже давно оставляет меня равнодушным. И так получается, что, не имея хотя бы капли интереса к чему-либо, я не могу об этом писать.
В Тель-Авиве собралась наша туристическая группа в сорок человек, где, как это ни прискорбно, я оказался единственным израильтянином. Хотя, говоря по совести, меня можно было бы даже назвать единственным инопланетянином, настолько далеко от моего понимания оказалось все то, что случилось позже. Спутниками моими были вполне светские люди всех возрастов – в сарафанах, шортах, с бутылками воды подмышкой, обычные туристы, каких мы видим тысячами.
Первая остановка у нас была на полпути к Иерусалиму в известном на всю страну кафе «Элвис». К слову сказать, израильтяне туда обычно не наведываются по известной причине, о которой ты, конечно, знаешь, а вот русскоязычному туристу там все в радость и приятно глазу. На улице стоят два скульптурных изображения Короля, возле которых можно фотографироваться, внутри постоянно играет музыка, играет совсем ненавязчиво, не громко, не так, как обычно принято в израильских кафе. Громоздятся разноцветные плюшевые верблюды, кружки с надписями и всякая мелочь. Можно заказать кофе и получить кружку в подарок. А если вам будет лень ее мыть, то вы можете попросить взамен другую – чистую. Это первый пункт целой цепи аттракционов, которые растянулись от кафе Элвиса до самого старого Иерусалима.
В восемь часов утра совсем еще не жарко, и кажется, что весь день будет таким. Я чувствовал себя школьником, вырвавшийся на каникулы, поэтому испытывал блаженство, предвкушая интересный день, новые впечатления, смешные покупки и беззаботную болтовню с попутчиками. Да-да, мне очень хотелось побыть туристом в своей стране, взглянуть на все другими глазами, лететь куда-то по воле волн, а точнее по воле туристической кампании и ее гида. Ах, эта огромная фанерная гитара возле которой так хорошо делать селфи, ах, эти плюшевые верблюды с надписью Иерусалим, ах, этот прохладный ветер, рождающийся в преддверии гор. Я, живущий в Израиле почти на «уровне моря», словно орел с оливковой ветвью в клюве летел ввысь, поднимался почти на девятьсот метров над своим скромным и пыльным городом, надеялся, что там, в вышине увижу иные, светлые дали, дающие отдых усталым глазам и, не менее усталому, разуму.
По обе стороны дороги открывались, захватывающие дух, просторы, громоздились древние, выветрившиеся скалы, покрытые редкими деревьями, и на одной из них я даже увидел оленя А потом вдруг открылся простор – Иудейские горы во всей их красе. Окутанные сизой дымкой они вырастали перед глазами и снова уходили вдаль, а автобус кружил подобно маленькому космическому кораблю, продвигаясь к западной стороне города. И когда появились городские стены Старого Иерусалима с запечатанными воротами, в которые, по преданию, должен войти мессия, я осознал, что вот он –Иерусалим, и вновь испытал тревожное чувство, которое навещало меня всякий раз, когда я приезжал в этот город.
Эти замурованные Золотые ворота на иврите называются Ша’ар А-Рахамим, что означает Ворота Милосердия. Я подумал, дорогой мой друг, что если уж сами Ворота Милосердия запечатаны, то где же искать это милосердие, коль скоро оно никак не может войти в Священный город? И словно в насмешку, вплотную к этим воротам раскинулось мусульманское кладбище. И я понял, что никогда помазанник-машиах-мессия не войдет в эти ворота, потому что из самого лишь милосердия, не потревожит он прах умерших, на пройдет по могилам. Ведь он не простой смертный, не тот, кто, растеряв на пути все человеческое, и движимый одной враждой, заложил здесь кладбище с определенной целью. И шалость (не скажу, какое слово я хотел бы поставить на самом деле), шалость удалась.
Пока я так предавался самым невинным размышлениям, среди туристов в автобусе началось какое-то странное движение. Очнувшись, я увидел, что все дамы вытащили откуда-то платки и косынки, повязались, прикрыли плечи и, в мгновение ока, туристическая группа превратилась в группу паломников. Особенно, меня насторожило поведение трех дам, но об этом я расскажу позже. Хочу лишь вскользь заметить, заканчивая эту главу, что существует психическая болезнь, называемая «иерусалимский синдром», которая поражает туристов, годами бредивших желанием попасть на Святую землю. Бывают очень сильные проявления, и тогда человека приходится откачивать в больнице, а бывает и слабый бред, который не считается клиническим, но доставляет много проблем гидам и сопровождающим. Гид по имени Сережа продолжал рассказывать библейские истории, и мне показалось, что он ничуть не встревожен. Поэтому, успокоился и я. Откуда же мне, человеку неискушенному в умении выворачивать наизнанку самые простые и очевидные вещи, было знать, что существует и другой способ восприятия действительности – «чем нелепее, тем правильнее».
… Это было весной. За восточной стеной
Был горячий и радостный зной.
Зеленела трава. На припеке во рву
Мак кропил огоньками траву.
И сказал проводник: "Господин! Я еврей
И, быть может, потомок царей.
Погляди на цветы по сионским стенам:
Это все, что осталося нам".
Я спросил: «На цветы?» И услышал в ответ:
"Господин! Это праотцев след,
Кровь погибших в боях. Каждый год, как весна,
Красным маком восходит она"…
Иван Бунин
Первый гроб
Тем более, что волноваться нужно было по совсем другому поводу. Несколько человек из нашей группы собирались ехать по другому маршруту в Вифлеем, или как он правильно называется Бейт-Лехем (Дом хлеба). Город находится на арабских территориях, поэтому автобус подкатил к забору безопасности. Там любителей старины должны были подхватит арабские гиды и устроить им свою экскурсию. Нам же, строго настрого запретили выходить из автобуса, потому что для перехода на территории существует пограничный пункт. Конечно, туристов туда пропускают, тех, у кого есть путевки. У нас же путевок не было, да и мое израильское удостоверение могло бы сыграть плохую роль. Я тихо сидел в автобусе и никуда не рвался. Примыкающий к забору квартал Иерусалима называется Гило. И из окон домов можно видеть весь Вифлеем, куда в лучшие времена можно было бы сходить и пешком. Но теперь это закрытая для нас территория, хотя город называют родиной царя Давида, мы можем его увидеть только издали. Нам еще с дороги показали серый купол – гробницу праматери Рахели. Почему еврейская праматерь оказалась в руках арабов – рассказывать долго. Но я знаю, что, рано или поздно, она вернется в Израиль. А вот библейскую историю, могу тебе рассказать.
Когда в молитве поминают праотцов Авраама, Исаака и Иакова, то имеют в виду вот этого самого Иакова, который сыграл не последнюю роль в истории иудаизма. Иаков – тот самый пророк, который увидел лестницу в небо. Когда он был еще молодым, то решил жениться на Рахели, младшей дочери Лавана. Кто такой этот Лаван мы не знаем, но Рахель была красавицей, и ее отец потребовал, чтобы Иаков отработал за нее семь лет. Потом, как водится, он обманул и подсунул влюбленному свою старшую дочь – Лею. Так, что за младшую пришлось отрабатывать еще семь лет. Всего у Иакова было две жены и две наложницы. Любимая Рахель умерла в родах на чужой земле. Она родила Беньямина (сына моей радости), которого отец вначале нарек Беннони (сын моей печали), но потом под давлением родственников переименовал его. Беньямин является праотцом одного из колен израилевых. Говорят, что бухарские евреи принадлежат этому колену. Но я точно не знаю.
Конечно, туристы ехали вовсе не к могиле Рахели, а в Храм Рождества Христова, и не было им никакого дела до чужой праматери. Тем более, что ЮНЕСКО постоянно пытается отнять у нас и праотцов и праматарей, и причислить их к исламским историческим объектам. Я почти уверен, что делается это не по глупости, а со злым умыслом, ведь это лишнее подтверждение того, что евреи жили на этой земле. И даже то, что Тора, в которой они все упоминаются, насчитывает больше трех тысяч лет, а ислам появился всего-навсего в седьмом веке нашей эры – никого не смущает. Мы живем в век абсурда, о чем мне еще не раз придется говорить в этом повествовании.
И двинулись из Бет-Эля, и начала Рахель рожать, не доходя до Эфрата, и были роды трудными.
И сказала ей повивальная бабка: Не страшись, ведь у тебя (родился) еще один сын. Умирая, назвала она его Бен-Они, а отец назвал его Биньямином.
И умерла Рахель, и похоронена была на дороге в Эфрат, он же Бет-Лехем
Бытие. 5: 16-20
К слову сказать, это был первый гроб в нашем путешествии, и, хотя близко нас не подпустили, но мы увидели хотя бы место, где все это происходило. Российские туристы вели себя сдержанно. Но, один вопрос все-таки прозвучал:
– Ой, какой высокий забор. За что вы их так?
Ты знаешь, мой друг, какая скользкая тема – этот забор, особенно в те минуты, когда ты говоришь с русским человеком. Я часто задумываюсь, отчего это люди, близкие по менталитету нам, упорно поддерживают тех, кто хочет нас убить? И заметь, никто ни разу не задал другой вопрос – «за что они вас так?», хотя на мой взгляд такой вопрос был бы правильнее. Гило, самый несчастный квартал Иерусалима – его всегда обстреливали, и там до сих пор происходит много терактов. Хотя, ты мог бы уже понять из моего текста, никто никого на самом деле не притесняет, даже наоборот туристические фирмы сотрудничают, раньше все производство было общим, пока кому-то не понадобилась сочинить историю об угнетаемом арабском народе и привезти бандита Арафата в Израиль. Судить этих людей будет время, но из-за них и нет покоя в Святом городе. Кто рассорил Израиль и его автономию?
Забор – я считаю правильным решением. Многие утверждают, что он производит гнетущее впечатление. А мне кажется, что более гнетущее впечатление производили окна домов жителей Гило, заложенные мешками с песком. И маленькие напуганные дети, которые каждое утро почти ползком добирались до школы. Если кто-то оскорбляется видом забора, и скорбит о «бедных палестинцах», то мне кажется, что на самом деле он скорбит о том, что слишком мало израильтян было убито. И такого человека, иначе, как врагом, я считать не могу. Ведь я тоже житель Израиля и другой страны у меня нет.
Знаешь, собираясь писать об этом путешествии, я не хотел рассуждать о величайшей несправедливости, творящейся сейчас в мире. Но только пожелал бы, чтобы для всех тех стран, которым не дает покоя существование малюсенького Израиля, какой-то добрый дядя придумал бы свой «палестинский народ» и своего борца за независимость – Арафата. И еще, посоветовал бы закрыть глаза и представить, сколько прекрасных изобретений не было сделано, сколько научных открытий, ценных для всего человечества, застряло на полпути только потому, что нашей стране постоянно приходится бороться с оголтелыми первобытными ордами, добросовестно подогреваемыми вполне цивилизованными государствами.
А пока, я исподволь наблюдал за тремя подозрительными дамами. Одна была маленького роста, казалось, что ей трудно передвигаться, потому что ноги слишком коротки, а грудь слишком велика. Одета она была в длинное шифоновое платье цвета зари. Для того, чтобы в последствии ты не путался, я, пожалуй, дам им имена, хотя на самом деле, я не знаю, как их зовут. Эту я назову Александрой. Другую, чуть худее, но такую же маленькую, в синем шелковом костюме в крапинку, я назову Еленой. И последнюю, высокую сухопарую девицу, одетую во все белое, в белых чулках, в платье с длинными рукавами, украшенными прошвой и в таком же огромном платке, мне называть не придется. В группе ее тут же прозвали «христовой невестой». И хотя у нее то и дело платье спадало с плеча, обнажая лямку бюстгальтера, Марией Магдалиной ее никто почему-то не назвал.
На лицах всех трех было написано мучительное ожидание и томление. И дела им не было до чужой праматери, ведь в недалеком будущем их ожидали, гораздо более, интересные гробы. Они готовились исполниться благодати из разных источников и закусить напоследок исполнением желаний. Про эти «желания» я тебе расскажу позже, потом. В самом конце. А пока, все только начиналось.
Но меня уже посетили сумрачные мысли. И хотя они были еще совсем не оформившиеся, подобные легкому облачку на солнце, но доставляли некий дискомфорт. Ты знаешь меня, знаешь, как я подвержен перепадам настроения. Знаешь, как часто я бежал даже твоего общества, желая остаться наедине со своими мыслями, как мучился от громких звуков и яркого света, только потому, что эти внезапные помехи ослепляли и оглушали меня в момент наивысшего сосредоточения на творчестве. Потом, я читал готовые произведения, но только тебе было известно, что за их легкостью стоит череда изматывающих дней. Я сравнил бы это состояние с ожиданием грозы, когда воздух становится тяжелым и плотным, когда фиолетовые тучи висят так низко над головой, что кажется еще немного и они раздавят тебя своей тяжестью, и, что только дождь может принести облегчение. Можно ли сравнить стук пальцев по клавиатуре с дождем?
И вот теперь на этом пустынном клочке земли, поросшем рыжей, сгоревшей под солнцем травой, под мрачным серым забором безопасности, в автобусе, заполненном гулом голосов и незнакомыми людьми, я вдруг ощутил потребность в тишине и сосредоточении на тихих мыслях, предшествующих рождению того, что все запросто называют, рассказом, романом или чем-то еще.
Автобус тронулся и покатил, покачиваясь и шурша шинами по перегретой дороге. Я направил на себя сопло кондиционера и откинулся на спинку кресла. Мы ехали в Гефсиманский сад.
Гефсиманский сад (интерлюдия)
Если читать главу из Библии, повествующую о Христе в Гефсиманском саду, отрешившись от благочестивых мыслей, от штампов позднего христианства, изображающих святых настолько благостными, что они кажутся слабоумными, и представить ту диковатую, совсем нам не близкую жизнь, которой жили люди две тысячи лет назад, то можно понять многое. Они вовсе не те, кого мы представляем себе сейчас, кого нам подсовывают ортодоксальная церковь или те же жития, написанные гораздо позже возникновения христианства, как ветви реформистского иудаизма. Все это написано уже в отрыве и от географии событий, и от религиозной философии иудаизма. Хотя все евангелия насквозь пропитаны иудаизмом, они очень от него далеки, далеки настолько, что создают какую-то иную атмосферу и иные образы, которых в реальности в то время быть не могло и не было. Да и что могли знать те греки, писавшие Евангелие с каких-то непонятных ивритских обрывков, написанных и сохраненных «пещерными христианами», иудеями по всем основным положениям иудаизма и лишь желавших немного облегчить бремя религии, только потому что любое общественное течение рано или поздно устаревает, костенеет во все новых и новых запретах и требует перемен.
И еще меньше могли знать те чернецы, которые переводили евангелия с греческого на другие языки. Ты знаешь, я иногда думаю, что именно ошибки в переводах создали так много церквей и ортодоксальных, и протестантских. Ведь Иешуа из Нацерета был один, и он был иудей. И не мог он один стать причиной такого дикого размножения культов по всему миру.
Ты спрашиваешь, почему я называю их жизнь другой, и отказываю им в возможности влиять на разум современного человека? Приезжай в Иерусалим и оглянись. Всего только в два цвета окрашен этот город – в ветхо-желтый и серо-зеленый. И мне, конечно, не нужно говорить тебе, что желтый – это выложенные плитами иерусалимского камня дороги и стены домов, ветхо-желтый цвет принес сюда древний человек. Серо-зеленый – это растительность, чахнущая под лучами взбесившегося солнца. Это оливы, кустики жесткой травы, с трудом пробивающиеся между камней. И как диссонанс – яркие краски современности. Все эти пестрые футболки, весь этот товар, от которого ломит глаза, все это буйство красок, такое чуждое здесь, словно произошло случайное наложение двух картинок, абсолютно разных. Наложение неестественное, и потому тревожащее. Я пытался видеть древний Иерусалим, пытался разглядеть его через наслоения эпох, но всякий раз мое мгновенное видение разбивалось в прах резкой диссонантной нотой.
Мы едем в Иерусалим, чтобы увидеть прошлое, но сами же это прошлое забиваем собой, своей современностью, и поэтому видим лишь себя на фоне древних развалин. Мне же хотелось увидеть не развалины, а тот самый город, который существовал две тысячи лет назад, потому что я знал – только так придет ко мне понимание того, что тогда произошло на самом деле.
Гефсиманский сад, конечно, совсем не тот. Осталось только географическое название этой древней промзоны, где когда-то давили оливковое масло прессами, от которых, собственно, и возникло это название. Теперь же от большой плантации осталось всего семь олив, и они огорожены от чрезмерного любопытства туристов. В наше время никому не придет в голову ходить по промзонам для того, чтобы решить свои нравственные проблемы, но тогда, на заре христианства, когда ядовитые отходы не чернили небо над «фабрикой по производству оливкового масла», и единственной машиной был каменный пресс, приводимый в движение мускульной силой человека или животного, промзона оказывалась самым спокойным местом в городе, лишь только рабочие расходились по домам. И могу добавить, что воздух там оставался чистейшим, а вечерняя прохлада располагала к отдыху и размышлениям. Потому что климат в Иерусалиме свой, особый, совсем не такой, как во всем остальном Израиле.
Оглядываясь в прошлое, я вижу иные картины, совсем не те, которые мне услужливо подсовывают многовековые фантазии верующих, ныне превратившиеся в некий штамп, подобный тем штампам, которые превращают хорошего журналиста в посредственность. Я мог бы отбросить все свои сомнения и начать водить хороводы под стройные песнопения закостеневших в своей вере последователей христианства. Такой текст показался бы тебе наиболее естественным, потому что религии уже давно определили для себя и для своих адептов всю шкалу оценок – от самого плохого до самого хорошего. Но извиняться за то, что мои взгляды не совпадают с этой шкалой, я не стану.
Я еду в Гефсиманский сад, прокручивая и восстанавливая в голове все то, что узнал за многие годы своей жизни об этой истории. Я почти медитирую и готовлюсь увидеть Иисуса в полном интерьере его времен. Маленький иудей, в силу многих слабостей неспособный к тяжелому труду, обижаемый в детстве соседскими детьми и пронесший обиду на них через все свои тридцать три года жизни, в последний раз делает переоценку ценностей. Вот, только что, он успокоил своих учеников, кротко помыл им ноги, однако, не сказал главного – не сказал, что уже многие месяцы опасность идет за ним по пятам. Он чувствует слежку, знает об отношении Синедриона к реформистам, знает, что ошибся и выбрал для себя не ту стезю, когда-то казавшуюся ему легкой и безопасной. Примкнув к иудейскому сообществу, выступающему против ортодоксального иудаизма, он пошел дальше всех и объявил себя Машиахом (мессией).
Жизнь в землях Израиля, тяжела. С одной стороны, все усиливающийся ортодоксальный диктат с кучей новомодных запретительных законов, с другой – римская оккупация со своими законами. И каждый шаг в сторону грозит смертью. Это сейчас, мой друг, мы можем позволить себе рефлексию, собственную философию, оправдывающую то или иное явление, и за это никого никуда не заключают и не убивают. А тогда – смерть была естественным наказанием за многие, не такие уж и тяжкие преступления. Только потому, что жизнь одного человека немногого стоила, и приоритетным являлось сохранение всего племени. А ради этого можно было и пожертвовать кем-то, особенно тем, кто пошел против законов. Ведь только жесткие племенные законы и сохраняли иудаизм на плаву.
Внутренне сжимаясь от страха, Иисус почти бежит от своих учеников, намеком дав Иуде разрешение на донос. Он знает, что казнь, все равно, произойдет рано или поздно, но устал ждать. Если говорить современным языком, изнервничался. Он измотан бессонницей, устал пугаться каждого звука. Устал различать в темноте глаза соглядатаев даже там, где их и нет. Психическое здоровье подорвано.
Темный сад встречает его ночной весенней прохладой. Ветер шумит в ветвях олив, долина внизу кажется бездонным черным рвом. И, вспомнив вдруг, что он иудей, Иисус начинает молитву на иврите, обычную молитву, обращенную к богу, которого называют Яхве, и которого сам Иисус объявил своим отцом. Но сейчас это грозный бог Ветхого завета, не по-отечески мстительный и гневный. Во всяком случае в восприятии Иисуса он в этот момент кажется именно таким. К отцу обращаются почтительно, особенно к доброму и мудрому отцу, но здесь Иисус униженно молит пощадить его. Заметьте, не простить, не помочь, а пощадить. Так обращаются к злодею или палачу. Он роняет горькие слезы на камень, возле которого без сил опустился на колени, он готов все изменить – но поздно. Не успел, не смог отказаться вовремя от призрачного величия, от лидерства. И настолько слаб, что даже собственное желание уйти из жизни, он не может реализовать сам, и возлагает его на Иуду, таким образом погубив и его.
– Отче, пронеси эту чашу… пронеси… пронеси…
Но как пронести чашу, которую ты сам по капле наполнял всю жизнь, и теперь она полна так, что любое неловкое движение расплещет вино горечи и раскаяния, и отравит вокруг все живое. «В чаше гнева ярость божья вспенится вином кровавым…» – это будет написано гораздо позже, почти через шесть веков, но образ той чаши, которую так и не пронесли мимо Христа, появится еще во многих христианских сказаниях и легендах, и даже проявится в облике Святого Грааля.
– Я – сын человеческий, – говорил Христос.
Он и был человеком. А каждый человек, прямо или иносказательно, может назвать себя сыном божьим, но не каждый человек величает себя Мессией.
Легенда о Гефсиманском саде всегда будоражила мое воображение, и часто я даже не мог объяснить себе, что же такое я вижу за этим, по сути, плохо переведенным текстом. И только теперь, в этом автобусе я понял, что эта глава – самая человечная и правдивая во всех четырех евангелиях.
… В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».
Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.
Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.
И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.
Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле…
Борис Пастернак






