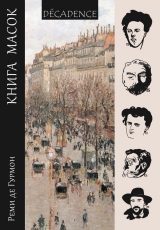
Текст книги "Книга масок"
Автор книги: Реми де Гурмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Робер де Монтескиу

При первом же появлении «Летучих Мышей», с их лилово-бархатным одеянием, был поднят серьезный вопрос о том, является ли Монтескиу лишь дилетантом поэзии, или истинным поэтом, может ли светская жизнь гармонировать с культом «Девяти Сестер», или хотя бы одной из них. Девять женщин это слишком много. Но диспутировать на такие темы значит проявить полное незнание одного из процессов логики, известного под именем диссоциации идей. Было бы простою элементарною справедливостью ценить красоту дерева независимо от его плодов, человека – независимо от его произведений. Чем бы книга ни была, простым булыжником или бриллиантом, ее надо судить как таковую, оставив в покое каменоломню или тот горный поток, откуда вышло это создание человеческого духа. Добыт ли бриллиант на Капе, в Голконде – все равно: он не изменит своего названия. Социальное положение артиста так же неприкосновенно для критика, как и сама муза Полимния, гостеприимно принимающая в свой круг простого мужика Бернса и лорда Байрона, мелкого воришку Вийона и короля Фридриха II. Геральдическая книга искусства и книга Гозиэ пишутся не в одном и том же стиле.
Поэтому мы не станем распутывать всей этой пряжи, не станем выискивать, какое значение имеет аристократическое имя Монтескиу, его светское положение для его поэтической репутации.
Поэт похож на «Précieuse» [128] .
Но, спрашивается, действительно ли были так смешны те женщины, которые, желая петь в унисон нескольким изысканно талантливым поэтам, прибегали к новой манере говорить? Презирая все обыденное, они старались придать своему уму, своему туалету, своим жестам оттенок оригинальности. Их грех, в конце концов, заключался только в нежелании «поступить как все». Мне кажется, что они поплатились за это достаточно жестоко. Поплатились эти женщины, но поплатилась и французская поэзия, которая в течение полутора веков слишком боялась быть смешной. Наконец, поэты освободились от этого пугала. Теперь они с каждым днем разрешают себе быть все более и более оригинальными. Не возбраняя им выступать во всей наготе, критика, напротив, поощряет легкие и откровенные одежды гимнософистов: только некоторые из них татуируют свои тела.
Вот в чем можно, действительно, упрекнуть Монтескиу: на его оригинальности слишком много татуировки. Красота этого баяна напоминает, к некоторому нашему огорчению, сложные изображения, которыми любили себя расписывать предводители австралийских племен. Но Монтескиу расписывает себя с менее наивным искусством. У него замечается даже странная утонченность в оттенках и рисунке, забавная дерзость в тонах и линиях. Арабески ему удаются лучше, чем фигуры, ощущения – лучше, чем мысль. Как японцы, он мыслит при помощи идеографических знаков: «Орел, журавль, цветок, бамбук с поющей птицей, змея, ирис, пион, левкой и воробей».
Он любит эти сопоставления слов. Когда, как в данном случае, он подбирает выражения нежные и полные жизни, приятный пейзаж встает перед глазами. Но часто мы видим лишь нежданные и сухие формы, выступающие на искусственном небе, какие-то процессии карнавальных привидений. Его женщины, девочки, птицы – это безделушки, изуродованные восточной фантазией слишком большого масштаба. Это царство игрушек и безделушек.
Хотел бы сделать стих изящной безделушкой.
Такова эстетика Монтескиу. Но безделушкам, забавным и хрупким вещам, место за стеклом или в шкапу – скорее всего в шкапу. И вот, если убрать эти эмалевые и лакированные вещи, если убрать нежную глину, освободить музей поэта от всех, как он сам остроумно выражается, «инфузорий этажерок», мы вступим в сферу для прекрасных наслаждений и мечтаний лицом к лицу с разновидными метаморфозами души, которая стремится осенить красоту новою прелестью, открыть в ней новые оттенки. Из одной только половины «Голубых Гортензий» можно составить довольно объемистый том, проникнутый тонкой, гордой, нежной поэзией. Автор «D'Ancilla», «Mortuis ignotis» [129] и «Tables vives» [130] показался бы тем, чем он является в действительности, вне всяких масок: хорошим поэтом.
Приведем отрывок из его «Tables vives». Заглавие несколько туманно, но стихи прекрасны, ясны, хотя в них и встречаются знакомые звуки слишком «парнасских» рифм и некоторые неправильности речи.
Ребенка научить молитве волн морских.
Спустилось небо к нам, а облака то пена,
И самый солнца диск из голубого плена
Милей для наших глаз, туманных и больных.
Ребенка научить молиться и лазури.
То верхний океан, а пена – облака,
И мысль о гибели нам более близка,
Когда лишь в вышине проходят тени бури.
Ребенка всем вещам молиться научить.
Пчела духовная везде берет находки
И благовонных роз живительные четки
Десятками любви сумеет разделить.
В итоге Монтескиу существует как голубая гортензия, как зеленая роза, как белый пион. Он из тех цветов, около которых останавливаешься, с любопытством спрашиваешь их название и запоминаешь.
Гюстав Кан

«Владения фей» – это песня песней, пропетая голосом одиноким, нежным, влюбленным, в стиле Верлена. О, неизменный Верлен!
Цветущий друг Апрель,
Что мне в твоем простом напеве?
Зачем сирени вешняя свирель,
И золото лучей отрада деве.
Коль то, что жизнью мной считалось
В северных туманах осталось?
Вот общий тон. Это просто, тонко, четко и временами напоминает что-то библейское.
Я зашел в глубь сада, Как вдруг, в ночи невидимая рука, Сильнейшая чем я, меня повергла наземь, И голос мне сказал: «то к радости твоей».
Dilectus meus descendit in hortum [131] . Тут и целомудрие, и полное отсутствие чувственности. Восток облек себя, как стихарем, душою Запада. Если он еще разводит в своем саду за неприступной оградой высокие белые лилии, то все же он полюбил бродить по незримым тропинкам фей, «которые тихо смеются в лесу», собирают вьюнки и дрок.
И смелые цветы, что рвутся из ограды.
Эта поэма из двадцати четырех страниц, несомненно, самая прелестная из книг любви, появившихся со времени «Fêtes Galantes». Наряду с «Chansons d'amant» [132] , это единственные стихи последних лет, в которых чувство дерзновенно выражает себя во всей чистоте, с трогательной и совершенной прелестью божественной искренности. Если кое-где у Кана еще встречаются следы риторики, то это объясняется тем, что даже у ног Суламифи он разрешает себе блистать искусством жонглера и виртуоза. Если иногда он обращается с французским языком как тиран, то только потому, что этот язык сам рабски ему подчиняется. Он злоупотребляет своею властью, придавая иным словам отдаленное значение, подчиняя свои фразы слишком упрощенному синтаксису. Но все это только дурная привычка, свойственная не ему одному. Ни у кого он не заимствует своего искусства ритма, своего виртуозного умения владеть обновленным стихом.
Был ли Кан первым провозвестником свободного стиха? Кому мы обязаны его появлением? Мы обязаны им Рембо, чьи «Illuminations» появились в Vogue в 1886 году [133] , Лафоргу, приблизительно в то же время в том же маленьком изысканном журнале под редакцией Кана напечатавшему «Légende» [134] и «Solo de lune» [135] . Наконец, самому Кану. Уже тогда он писал:
Вот радость душ осенних,
Город исчезает в мечтаниях близких,
Оранжевым и лиловым покрылись низко
Входы ночи безлунной.
Царевна, что ты сделала с самоцветной тиарой?
В особенности же мы обязаны «свободным стихом» Уитмену, величественную вольность которого стали понимать только тогда.
Эта крошечная Vogue, которая теперь продается по цене пергамента с миниатюрами – с какой радостью читалась и перечитывалась она в галереях Одеона скромными молодыми людьми! Они опьянялись благоуханием чего-то нового, струившегося с маленьких бледных страниц!
Последний сборник Гюстава Кана «La Pluie et le Beau temps» [136] не изменил мнения, сложившегося об его таланте и оригинальности. Он всегда остается самим собою, со своею двуединой тенденцией к чувству и живописи. Это станет особенно ясным, если мы сравним скорбный гимн «Image» [137] :
Иисус, венчанный терном,
Точит кровь в сердцах пронзенных.
с «Dialogue de Zélanae» [138] :
Bonjour mynher, bonjour myfrau [139] .
Это красиво и нежно, как старинный эстамп альманаха. А вот, поистине, безупречная песня, выдержанная в полутонах.
Час белого облака пролился на равнину
Отблесками крови, хлопьями пряжи,
О розовый вереск, кровавое небо.
Час золотого облака побледнел над равниной
И падают белой волны медленные и длинные полотна.
О лиловатый вереск, кровавое небо.
Час золотого облака обрушился на равнину
Сладко запел тростник под неистовым ветром
О красный вереск, кровавое небо.
Час золотого облака прошел над равниной
Эфемерно далек его блеск
О золотой вереск, кровавое небо.
Слова, слова! Да, но слова хорошо подобранные, скомбинированные с большим искусством.
Гюстав Кан, прежде всего, артист. Иногда он кажется чем-то большим.
Поль Верлен

ГАСТОН Буассье, венчая лаврами пятидесятилетнего поэта (трогательный обычай!), выражал ему свои восторженные чувства по поводу того, что он не вводил никаких новшеств, что он выражал обыкновенные идеи легким стилем, что он добросовестно следовал традициям французской поэтики. Нельзя ли написать историю нашей литературы, исключив всех новаторов? Ронсар был бы заменен Понтус де Тиаром, Корнель – его братом, Расин – Кампистроном, Ламартин – Лапрадом, Виктор Гюго – Понсаром, Верлен – Экаром? Это было бы более поощрительно, более академично и, быть может, более по-светски, ибо во Франции гений всегда кажется несколько смешным.
Верлен цельная натура и потому не поддается определению. Как и его жизнь, его излюбленные ритмы похожи на эскизный и спутанный рисунок. Он окончательно расчленил романтический стих и обесформил его, распорол и разрезал. Желая вместить в него слишком многое, вложить все горения своего безумия, он, незаметно для себя, стал одним из вдохновителей стиха свободного. Стих Верлена, с его отклонениями, неожиданностями и скобками, неминуемо должен был сделаться таким. Ставши «свободным», он привел в систему все свое содержание.
Не блистая талантом, нищий духом, Верлен воплотил в себе, как никто другой, простой и чистый гений того существа, которое называется человеком, в двух его выражениях: в даре слез и даре слова. Когда его покидает дар слова и одновременно иссякает дар слез, он превращается либо в грубого и шумного ямбиста, написавшего «Invectives» [140] , либо в смиренного, неловкого элегиста, автора «Chansons pour Elle» [141] . Благодаря этим именно чертам его поэтической индивидуальности, Верлен предназначен был воспевать любовь, все ее виды, но прежде всего ту любовь, которая лобзает чистый звездный свет неба. Создав «Les Amies» [142] , Верлен складывал гимны в честь Девы Марии – тем же сердцем, тем же духом, тем же гением. Но петь эти гимны будут потом, в мае месяце те же Amies, одетые в белые платья, под белыми вуалями. О, лицемерие жизни!
Признаваться в грехах – «делом или помышлением» – негрешно. Никакая публичная исповедь не может опозорить человека: все люди равны между собою, все одинаково подвержены искушениям. Нет преступления, которого не мог бы совершить кто-нибудь другой. Клерикальные и академические газеты напрасно взяли на себя постыдную обязанность поносить Верлена на его еще свежей могиле. Удары пономарей и педантов пришлись по гранитному подножию памятника. А Верлен в это время, улыбаясь в свою мраморную бороду Бесконечному, с лицом фавна прислушивался к звону церковных колоколов.
Франсис Жамм

Вот буколический поэт. В нем есть Вергилий, кое-что от Ракана и кое-что от Сегре. Подобных поэтов встречаешь очень редко. Для этого нужно уединиться в старом доме на опушке леса, огражденного кустарником, среди черных вязов, морщинистых дубов и буков с корою нежною, как кожа любимой женщины. Здесь не стригут траву, не делают никаких газонов, чтобы создать впечатление бархатной кушетки. Ее косят, и быки радостно едят душистое сено, стуча об ясли своими кольцами. В этом лесу каждое растение имеет свои особенности, свое имя.
В лесу медунка есть с цветочком лиловатым,
С листом мохнатым и зеленовато —
Серым, с белым крапом и шершавым, —
Там надпись есть церковная уставом.
Жерухи много там, чтоб бабочкам резвиться,
Прозрачных изопир и черной чемерицы,
И гиацинты есть, их раздавить легко,
И жидкость липкая блестит, как молоко;
Зловонная жонкиль, нарцисс и анемона
(О вас мечтаю я, снегов швейцарских склоны!)
Будра полезная тем, что одышкой страждут.
Это отрывок из «Месяца Марта», маленькой поэмы, написанной Франсисом Жаммом для «Альманаха Поэтов» прошлого года, похожей на фиалку (или аметист), выросшую у изгороди среди первых улыбок весны. Вся поэма удивительна по грации и вергилиевской простоте. Это отрывок из «Georgiques Françaises» [143] , на которых многие поэты некогда тщетно пробовали свои силы.
Septima post decimam felix et ponere vitem
Et prensos domitare boves et licia telae
Addere. Nona fugae melior, contraria furtis.
Multa adeo gelida melius se nocte dedere
Aut cum sole novo terras irrorat Eous.
Nocte leves melius stipulae, nocte arida prata
Tondentur: noctis lentus non deficit humor.
С той же уверенностью и тем же мастерством Жамм рассказывает о крестьянских мартовских работах.
Зимний корм скота уж на исходе,
Телок в луг не гонят при погоде,
Большеглазых телок лижет матка,
В свежем корме нету недостатка.
Два часа на прибыль без минутки;
Вечера теплы; плетясь лениво,
Козьи пастухи задули в дудки;
Идут козы, позади собака
Бьет хвостом; всегда готова драка.
Во Франции нет в настоящее время другого поэта, способного нарисовать такую ясную, правдивую картину с помощью простых слов и фраз, похожих на непринужденную болтовню, но в то же время как бы случайно образующих стихи, законченные и чистые. Но поэт благоразумно следует своему календарю: как Вергилий, он лишь на мгновение прерывает уход за пчелами, чтобы рассказать приключение Аристея, или, дойдя до Вербного Воскресенья, в нескольких стихах изложить историю Иисуса, прекрасную и нежную, как старинная гравюра, которую вешали над постелью.
В саду масличном слезы Иисусовы текли, Книжники с дреколием искать Его пошли, И народ Салимский плакал и кричал, Призывал Иисуса, – а осленок мал Весело трусил по вайевым ветвям. Нищие, голодные возрыдали радостно, Следуя за Ним и веря Ему благостно. Приходили жены блудные к спасению, Видя, как Он шествовал в небесном сиянии, Столь светло сияние, что солнышко багровое, Кротко улыбался Он, а кудри – медовые. Мертвых воскрешал Он им, и Его же распяли.
Когда у нас появится полный календарь (вероятно, это случится когда-нибудь), написанный в таком же патетически-простом тоне, можно будет к разбросанным томам, составляющим всю французскую поэзию, прибавить еще одну незабвенную книгу.
Первые свои стихи Франсис Жамм выпустил в 1894 году. Ему было тогда, вероятно, около 25 лет, и жизнь его была такою же, какой она осталась до сих пор. Он жил одинокий, в глубине провинции, поблизости к Пиренеям, но не в самых горах.
Блестят на солнце села по равнине,
Где реки, колокольни и харчевни.
Кожа у крестьянок «темна, как земля». Но утра и вечера там голубые.
Поля желтеют, сильно пахнет мятой,
Ручей поет в ложбине сыроватой;
Тропинки те, где ранним октябрем
Летают по ветру листы каштанов…
Селения рассыпаны везде:
На склонах, на вершинах и на дне;
В долинах, на поле, вдоль берегов,
Вдоль гор, дорог и близко городов.
Там колоколенки вдали видны,
На перекрестках там стоят кресты,
Стада там ходят с хриплыми звонками,
Бредет пастух усталыми ногами.
Уж красноглазых голубей над просом
Заметить можно между серых туч;
От холода журавль защелкал носом,
Как будто повернули ржавый ключ.
Вот в отрывочных и эскизных стихах тот пейзаж, среди которого сложились впечатления поэта. Одиночество приводило его в отчаяние и смущало его оригинальный дух. Ловя и отражая прежде всего настроение минуты, он не боится никаких повторений: бледными оттенками он варьирует подробности жизни, им столь любимой. Но зато сколько у него трогательных видений! Какая красивая фантазия! Как легко слова слагаются у него в стих завидной свежести! Вот перед нами картина сладострастья, проникнутая целомудрием.
На влажном вереске ты будешь обнаженной
Вот вам другая картина, с выражением более интимного чувства.
Весь осами наполнен и розами наш дом.
Плач любви и жалости, начинающийся словами:
Право, люб мне тот осел,
Что под падубом прошел:
Пчел он обходит,
Ушами поводит
И возит весь день
Бедняков, да ячмень.
Скромная элегия в четырех строках, полных усталой, мягкой музыки – из них одна не совсем удачна.
И солнце ясное, названье деревеньки,
И гуси белые, ах, белые, как соль —
С любовью связаны, что уж была давно,
Как длинный, темный путь к святой Сусанне.
По истечении одного, или двух лет однообразной жизни, поэт достигает более определенного самосознания. Чувства его иногда приобретают характер тоскливой жалобы. При этом чувственность его усиливается до степени экзальтации. Выступая без стыдливого покрова, с полной откровенностью, но сопровождаемая живым настроением, она остается всегда чистою.
Поэма в диалогах «Un Jour» [144] раскрывает перед нами в реально-нежных красках три стороны человеческой души: гордыню личного начала, чувство и чувственность. Четыре сцены, в которых поэзия парит над монотонной, грустной жизнью. Четыре картины, простые, с оттенком той наивности, которая созерцает сама себя и сознает свою красоту. Гораздо ярче и правдивее, чем все ходульные фразы мира, эта поэма показала нам один день, одну страницу жизни поэта. Внешний мир он воспринимает сквозь призму грубого ощущения, как и всякий другой. Затем путем абстракции он выделяет из этого ощущения все, что есть в нем символического, все, что имеет абсолютное значение. Вся поэма полна прекрасных, строгих стихов. Гений истинного поэта, развиваясь, сверкает здесь как солнечный луч сквозь изгородь дикой акации.
От нежной матери, седеющей, ты родился…
Подобны лебедям те, что бедны и горды.
Она ведь женщина, – тоску ты должен скрыть, —
Не может девушка двух душ в себе вместить.
О, пей лобзанья нежной милой,
Ведь слезы женские солены и унылы,
Как море, что отважным – лишь могила.
Не кажется ли, что неловкость, небрежность последнего стиха придает серьезной мысли оттенок мягкого юмора? Много улыбок в поэзии Франсиса Жамма. Не слишком много – я люблю улыбку.
Таков этот поэт. Его искренность почти смущает, не своей наивностью, а скорее – гордостью. Он знает, что родные пейзажи оживают под его взглядом и дубы говорят трепетом своей листвы. Утесы сверкают, как топазы. Он рассказывает об этой жизни, сверхъестественной, мистической, о жизни тех часов, когда он грезит с закрытыми глазами. В глубоком тумане таинственно сплетаются между собою природа и мечты в таком гармоничном ритме, что образуют как бы одну линию, одно очарование.
И линия у них, как лилия, нежна.
Уже давно пора во имя справедливости увенчать славой этот талант. Будем для собственного нашего удовольствия почаще вдыхать аромат его поэзии, которую он сам назвал поэзией белых роз.
Поль Фор

Автор баллад. От него нельзя требовать ничего другого – ни больше, ни меньше. Он слагает баллады, будет слагать их всегда. Его баллады не похожи на баллады Франсуа Вийона или Лорана Тайяда. Им нет равных.
Они отпечатаны как проза. Но они написаны стихами, они полны движения и жизни. Этот способ печатанья подал некоторым благосклонным критикам мысль, что Поль Фор открыл квадратуру ритмического круга и разрешил проблему, которая мучила Журдена: публиковать книги, написанные не в стихах и не в прозе. Это комплимент слишком большого размаха, и потому это только комплимент. Если грань, отделяющая стихи от прозы, становится в последние годы почти незаметной, все же она существует: направо от нее – проза, налево – поэзия. Незаметная для того, кто не может сосредоточить на ней блуждающего взгляда, она неизменно существует для того, кто умеет смотреть. Ритм не зависит от грамматического построения фразы. Тут ударение ставится не там, где это полагается по смыслу речи, а там где этого требует звучность стиха. Ритм прозы зависит от ее грамматического строения: здесь ударения ставятся не по звуку, а по смыслу. А так как звук и смысл речи совпадают очень редко, то проза жертвует звучностью, а поэзия приносит в жертву логический смысл.
Вот разница между стихом и прозой в кратких словах, и пока – довольно. Но все это не имеет отношения к «Ballades Françaises» [145] , которые от начала до конца написаны стихами, то живыми, красочными, то строгими и красивыми. За исключением нескольких страниц, это даже не свободные стихи, а старинные, «численные» к счастью, освободившиеся от тирании немых гласных – этих принцесс, которым никогда не знаешь, как угодить. Следуя безошибочному инстинкту человека из l'Isle de France [146] , Фор поставил эти гласные на подобающие им места. Когда нужно, он приписывает им молчание, приличествующее самому их названию.
Король взял королеву, судами полонил.
Она кротка без гневу, король ей будет мил.
Вот эта маленькая, поистине прекрасная поэма:
Вот девушка скончалась, скончалась от любви,
Несут ее в могилу, в могилу понесли.
Кладут ее одною, одной в ее чести,
Кладут ее одною, одною в тесный гроб;
Потом уходят весело, так весело ушли.
Они запели весело, запели «на земли
Теперь скончалась девушка, скончалась от любви»;
И на поле по-прежнему, по-прежнему пошли.
Такие стихи мне по сердцу. Только такие стихи я и люблю: стихи, в которых ритм ни на минуту не исчезает и не обрывается из-за лишнего или недостающего слога. Кто заметит, что в нижеследующей строфе, третьей по счету, только одиннадцать слогов с ударением.
Au premier son des cloches: «C'est Jésus dans sa crèche…»
Les cloches ont redoublé: «O gué, mon fiancé!»
Et puis c'est tout de suite la cloche des trépassés.
Но довольно о ритме. Пора полюбить поэзию, проникающую «Ballades Françaises», а не их версификацию. Три основных тона звучат в этих балладах: живописность, чувство и ирония. Они управляют ими, то чередуясь, то одновременно. А разнообразие поэм поистине чудесно. Они похожи на сад: тысячи цветов, тысячи красок, тысячи ароматов. Прелестнее всего первая книга, книга баллад с рефреном народных песен, с очаровательным, как колокольный звон, повторением одного и того же слова, с хороводным ритмом и мифом народных сказаний. Чувствуется, что поэт жил в среде, где старая устная литература сохранилась в предании, в песне. А между тем эти старинные напевы звучат с такою свежестью:
За изгородью море блестит, море блестит, имея раковины вид. И хочется его словить. Небо – как рай, это – милый Май!
За изгородью гладь нежна, гладь нежна, как ребенка рука. И хочется ее ласкать. Небо – как рай, это – милый Май!
А вот еще одна хороводная песнь, в которой отчетливо слышится забытая музыка.
Милый паж прошел внизу, поет королева наверху,
Король – ху-ху, – ты их повесишь, ху-ху, ты их убьешь.
Милый паж пропел внизу, королева уж в саду.
Король, – ху-ху, – ты их смелешь, ху-ху, ты их убьешь.
Виселица на лугу, златой жернов на зеленом.
Король, – ху-ху, – ты их смелешь, ху-ху, ты их повесишь.
Белый инок подоспел, красный инок тут пропел:
Король, – ху-ху, – ты пострижешь их, ху-ху, в монастыре.
Вторая книга полна эмоций. Это книга любви, природы и мечты. Это – мягкие пейзажи с нежными красочными оттенками, голубые и серебристые. Серебряное море, серебристые ивы, серебристая трава. А воздух голубой. Голубая луна и голубые стада.
Зари зеркальные колеса прошли по горизонту,
Земля открыта в оттенках бледных дня,
Вершина влажная последних звезд блеск отражает и синеватый скот серебряную пьет траву.
На душе радостно, чисто, немного грустно – так бывает, когда вглядываешься в необозримую даль полей, моря, неба. Природа торжественно окутывается вечерним туманом. Погружаясь в него, она расплывается в какой-то вечности. Невольно становишься серьезным, присутствуя при этом зрелище. Оно смущает бег наших мыслей. Оно останавливает их и мучительно заставляет сосредоточиться. Но вместе с тем ощущаешь и радость при виде такой красоты, радость, которая иногда возносит нас над всеми ощущениями и подготовляет к полному слиянию с природой. Это мистицизм во всей своей наивной свежести, во всем красноречии своей любви. Такова, например, баллада: «L'ombre, comme un parfum s'exhale des montagnes» [147] . Я утверждаю, что по красоте гимн этот не уступает наиболее удачным из песен Ламартина.
Пусть небо плавает в твоих очах бездонных, с ночною тьмой безмолвие смешай; и если жизнь твоя на тень не бросит тени, росою глаз твоих ты сферы отражай.
Полуночных шпалер невидимые ветви цветами золота дарят надежду нам; печать грядущего над нами заблестела, как звезды зримые полуночным древам.
О созерцай, люби, ведь мы везде разлиты; люби себя во всем, себе принадлежи. Внимай речам небес, хотя бы непонятным, безмолвием создай ты музыку в ночи.
Тут нет рифм, даже ассонансов. Но на это не обращаешь внимания. Это старая романтическая поэзия большого масштаба, обогащенная новыми образами, до сих пор не бывшими в ходу. Такое глубокое чувство не часто встречается в «Ballades Françaises». Поэт имеет склонность к юмору, склонность, которой он следует иногда совершенно некстати. Так, после сентиментальной книги, похожей на полинявший древний эстамп, он создает целую мифологию (Орфей, Силен, Геркулес), представляющую странную реставрацию древних легенд. За ней следует экстравагантный «Louis XI curieux homme» [148] , еще более странный «Coxcomb» и целый ряд таких же оригинальных баллад. Во всех этих произведениях сверкает искра самобытной индивидуальности, поэзии, гения. Перед нами творчество, отличающееся необыкновенным разнообразием, направленное в различные стороны. Среди этого леса с трудом находишь верную дорогу. Следы теряются и перепутываются в ветвях, исчезают в кустах, ручьях и упругих мхах. Живые видения, мелькающие тут и там, кажутся необычными. Поля Фора из дружеских побуждений критика определила следующими словами: чистый и простой гений. Если смотреть на это определение как на иронию, нельзя признать его особенно жестоким. Но если принять его всерьез, оно дает только долю истины. Этот поэт являет собой одну бесконечную вибрацию души, один клубок нервов, реагирующий на малейшее к нему прикосновенье. Склад его духа таков, что эмоции кристаллизуются у него раньше, чем достигают сознания. Талант Поля Фора – это определенная манера чувствовать и выражать свои настроения в словах.
Гюг Ребель

Люди редко живут в гармонии со своим временем. Жизнь народа чужда им, толпа кажется им стадом.
Если подумать о себе самом, если с отчетливостью понять свою роль в жизни, свое место среди широкого мира явлений, станет грустно на душе: чувствуешь себя окруженным непобедимым равнодушием людей, немой природою, с ее глыбами камней и геометрически правильными формами. Это одиночество в центре огромного социального круга. Охваченный глубокой тоскою, человек начинает мечтать о простых радостях: ему хотелось бы чувствовать связь с окружающими, наивно смеяться, скромно улыбаться, открыть свою душу для долгих волнений. Но может случиться, что сознание одиночества, отречение от жизни, внушит ему гордость, независимо от того, живет ли он, как анахорет, или отмежевался от мира в своем дворце.
Гюг Ребель избрал последнее. Он предстал перед нами в позе счастливого и надменного аристократа.
В наше время, когда мелкие подражатели Сенеки, биржевые маклера, популярные адвокаты, отставные профессора, получившие наследство, миллионеры, посланники, тенора, министры и банкиры, когда вся эта «республиканская знать», наслаждающаяся благами мира, лицемерно скорбит об «участи бедных», которых сама же попирает ногами, в наше время приятно услышать слова, звучащие правдиво, приятно услышать Ребеля: «Я хочу наслаждаться жизнью такою, какая она есть, со всем ее богатством, красотой, свободой и изяществом. Я – аристократ».
Это отнюдь не значит, что типичный аристократ, нечувствительный к страданиям людей, презирает народ, подобно буржуа, ненавидящим всех, кто стоит выше их, презирающим всех, кто ниже их. Нет, он его любит. Но любовь его слишком благоразумна, слишком возвышенна, и дойти до сердца народного она не может. Всю эту глупую толпу, которую всякие бессмысленные проповеди натолкнули на путь тщеславия и патриотизма, он охотно научил бы простой радости откровенной животной жизни. К чему вызывать жажду умственных удовольствий в людях, которым недоступно никакое бескорыстное чувство, которые не постигают прелести тонкого вина? Им нужны напитки, щекочущие нёбо, согревающие брюхо!
Вот почему: «в настоящую минуту мы должны оздоровить больные виноградники и насадить новые лозы вместо старых погибших. Мы должны напоить вином всю Францию».
В диалоге, из которого я взял эту фразу, лицо, высказывающее такую мысль, старается прослыть гуманистом и утопистом. Но ему говорят, что человек подобен реке, что слишком частые кровопускания могут понизить его уровень. Вывод таков: panem et circences [149] , хлеб, вино, зрелища. Долой музеи и библиотеки! «Разбить эти отвратительные урны, отдававшие в течение целых веков в руки черни судьбу и мысли величайших людей». Как видите, это настоящий оскорбительный вызов. Нет нужды говорить, что идеи эти носят печать несомненного преувеличения. Немало найдется умных людей, которые сочтут их чудовищными: они не любят удаляться от шаблона.
Аристократизм Ребеля, перенесенный на почву художественных концепций, теряет свои живые очертания. Он легко смешивается с разнузданностью. Но сомнительно, чтобы разврат являлся удачной формой отрицания общественных условностей. Сомнительно, чтобы смена нечистоплотного монаха распутным кардиналом доказывала превосходство аристократизма над продажными душами, чтобы каждый истеричный и тщеславный художник мог напомнить нам Тициана или Веронезе, чтобы куртизанка, идущая в кабак и посещающая притоны, неизбежно вызывала в нашем представлении волнующий образ венецианского сладострастия. В «Nicbina», прославившей имя Ребеля, много ошибочного и грубого. Но все-таки это произведение полное жизни, богатой фантазией, полное интереса. Оно изображает Венецию нежную и низкую, роскошную и грязную, суеверную и похотливую скорее в красках истории, чем легенды. Вот почему это произведение шокировало очень многих.
Никто не думал, что это вещь капитальная. Какой-нибудь эскиз, который у всякого другого потребовал бы огромного напряжения сил, для Гюга Ребеля не больше как пролог к роману. От него ждут повествования и сочетания мыслей, не имеющих парадоксального характера. Он полон идей, как лучший из философов современности или прошлых веков. Ему недостает только одного: уменья внедрять эти идеи в умы своих героев. Открыв «Песни дождя и солнца», наталкиваешься на богатую руду, из которой, без всякого страха истощить ее, можно черпать сколько угодно. Это поэмы в стихах и прозе. Желание сказать что-нибудь новое преобладает в них над стремлением к выразительности слова.








