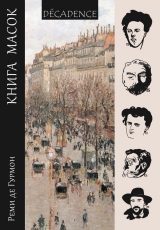
Текст книги "Книга масок"
Автор книги: Реми де Гурмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
На одной из старых черновых страниц, относящейся, быть может, к «Еве Грядущего», он слово реальныйопределяет так:
«Теперь я утверждаю, что реальное имеет свои степени существования. Каждая вещь постольку для нас реальна, поскольку она нас интересует. Вещь, которая не представляет для нас никакого интереса, как бы не существует совсем. Иными словами: хотя бы и осязаемая, она существует для нас в гораздо меньшей степени, чем вещь не реальная, но нас интересующая.
Итак, реально только то, что волнует наши чувства, наш ум. Смотря по интенсивности впечатления, которое производит на нас это единственно реальное, то, что мы можем оценить и назвать этим именем, мы определяем большую или меньшую его степень, относительно которой мы вправе сказать, что она действительно создает эффект действительности.
Только идеей мы можем проверять реальность».
И еще:
«… с вершины высокой, дальней ели, одиноко стоявшей среди поляны, я услышал соловья, единственный голос, нарушавший молчание.
Поэтические ландшафты в большинстве случаев оставляют меня равнодушным, ибо наиболее подходящей обстановкой рождения действительно поэтических мыслей для каждого серьезного человека являются – четыре стены, стол и тишина. Те, которые не носят в себе души всего, что может показать им мир, напрасно будут вглядываться в него: они не узнают его, ибо каждая вещь прекрасна только сквозь призму мысли того, кто на нее глядит, кто ее продумал. В поэзии, как и в религии, нужна вера, а вере незачем смотреть телесными глазами, чтобы созерцать то, что она гораздо лучше знает в себе самой»…
Подобные мысли Вилье де Лиль Адан выражал много раз и всегда в новых и оригинальных формах. Не доходя до чистого отрицания космоса в духе Беркли, отрицания, которое как крайний логический вывод субъективного идеализма вытекает из определенной общей концепции, он в собственном построении мира, имеющем тот же характер, принимает Внутреннее и Внешнее, Дух и Материю, отдавая явное предпочтение первым терминам перед вторыми. Слово прогрессслужило для него мишенью для насмешек, как и глупость гуманитарных позитивистов, которые внушают молодым поколениям (мифология навыворот!), что земной рай, суеверие прошлого, является законной надеждой будущего.
Наоборот, одного из своих героев (вероятно Эдиссона) в коротком отрывке старого манускрипта «Ева Грядущего» он заставляет говорить следующее: «Теперь мы находимся в периоде зрелости Человечества – только и всего. Скоро наступит старчество этого странного полипа, его одряхление и, по завершении всей эволюции, смертное возвращение в таинственную лабораторию, где все видимости вечно перерабатываются, благодаря… какой-то непреложной необходимости»…
В последних словах Вилье издевается над всем, вплоть до веры в Бога. Был ли он христианином? Он сделался им к концу жизни. Вот когда он познал все формы духовного опьянения.
Лоран Тайяд

Индивидуализм, который принес с собою в литературу приятные кошницы новых цветов, оказывался часто совершенно бесплодным благодаря сорным травам гордости. Сколько молодых людей с раздутым самолюбием стремились создать не только собственное свое произведение, но и некоторое Творение Мира, создать такой единственный цветок, после которого дух, истощенный перенапряжением сил, потеряет свою производительную способность и должен будет уйти в медленную и темную работу восстановления собственных соков. В Париже есть даже две или три «машины славы», которые присвоили себе исключительное право пользоваться этим словом, изгнанным ими из лексикона. Но все это не имеет серьезного значения. Дух веет, где случится. Иногда он захватит на своем пути какую-нибудь лягушку и раздует ее до непомерности. Все это он делает для собственного развлечения, ибо жизнь скучна.
У Тайяда нет ни одной из этих смешных, горделивых претензий. Никто проще его не занимается ремеслом литератора. Римляне называли ритором того, кто умел говорить, кому слова повиновались, кто умел наложить на них ярмо, направлять, погонять, пришпоривать их, чтобы в любую минуту заставить их исполнить тяжелую работу, самую опасную, самую непривычную. Латинец по происхождению и по вкусам, Тайяд имеет право на это прекрасное имя ритора, которое так оскорбляет бездарных педантов. Это ритор в стиле Петрония, владеющий стихом и прозой с одинаковым мастерством.
Вот один из сонетов, взятый из редких теперь «Douzains de sonnets» [42] .
Елена (лаборатория Фауста в Виттенберге).
Разрушена веков томящая преграда,
Я, сердце опьянив божественной судьбой,
Покинула Гадес и гробовой покой,
Где пьется сладостно забвения отрада.
Осталась грудь моя такою же тугой,
Я сильною стою, когда отваги надо,
Вдовой и девою гордилась мной Эллада,
Когда звучал набат и загорался бой.
Ведь лоно Матерей, о, Фауст, мне знакомо,
Но я пришла к тебе, химерою влекома,
Из бледных пажитей, где боги тихо спят.
Твоей любви несу, воспетая Гомером,
И шею, что века во век не потемнят,
И голос, что привык к пророческим размерам.
Написав этот сонет и «Vitraux» [43] , поэмы, которым мистицизм с оттенком презрительности придал особую остроту, и «Terre latine» [44] , совершенные и единственные страницы прозы, мучительные по чистоте своего стиля, Тайяд внезапно стал знаменитым и опасным благодаря своим жестоким и утрированным сатирам. В насмешку над бессмысленными путешествиями, он назвал их «Au pays du Mufle» [45] . Пошлость нашего времени возмущает этого Латинца, влюбленного в солнце и благоухания, в красивые фразы и жесты. Для него деньги – радость, которую бросают, как цветы, к ногам прекрасных женщин, а не зерно, которое закапывают, чтобы оно дало плод. Он гордо клеймит ханжество и скупость, фальшивые славы и настоящие гнусности, деньги и успех биржевых и фельетонных выскочек. Жестокий и даже несправедливый, он хлещет все, что ненавидит. Для него, как и для всех сатириков, личный враг превращается во врага общества. Но зато каким прекрасным языком написаны эти сатиры, языком одновременно и новым, и традиционным! И как много в нем пленительной наглости!
Все, что я писал, писал не этой дряни.
Действительно, баллады Тайада не предназначены для прекрасных дам, которые предаются мечтам, обмахиваясь павлиньими перьями. Трудно даже процитировать у него цельную строфу. Вот одна из наименее злых:
Бурже, Лоти и Мопассан,
Вас продают на всех вокзалах,
Вас подают, как масседуан,
Бурже, Лоти и Мопассан.
Любой тех авторов роман
Приятен, как сигары в залах,
Бурже, Лоти и Мопассан,
Вас продают на всех вокзалах.
Это почти только забавно. «Le Quatorzains d'Eté» [46] можно было бы привести целиком. Даже не мешает знать это стихотворение на память, ибо это шедевр по своей тонкости. Маленькая жанровая картинка, которую нужно беречь и хранить. Эпиграф, строфа Рембо из «Premières Communions» [47] – «супругой маленькой и жертвою была» – дает тон всей картине:
Конечно, господин Бенуа одобряет,
что читали Вольтера и прочих иезуитов.
Он мыслит. Он склонен к продолжительным спорам,
презирает монахов и домашние средства.
Он даже ораторствует в одной шотландской ложе,
Но так как его законная супруга верит в Бога —
Маленькая Бенуа, в вуали и голубых лентах
причастилась. Потому распили несколько бутылок.
В кабачке, средь заплеванных скамей,
сонного бильярда и грязных лакеев,
девочка в шелковых перчатках покраснела,
а господин Бенуа, обращаясь к духовному,
выказывает некоторое удовольствие, что сегодня утром
он присутствовал при соединении единственного сына
с его барышней.
Так же, только гораздо менее остроумно, Сидоний Аполлинарий издевался над варварами, среди которых заставляла его жить жестокость того времени. Лоран Тайяд, как и Клермонский епископ, не напрасно смеется над ними и бичует их: его эпиграммы переживут наше время. А пока что, я все же считаю его одним из подлинных украшений современной французской литературы.
Жюль Ренар

Человек встает рано утром и бредет по лесным дорогам и тропинкам. Он не боится ни росы, ни шипов, ни сердитых веток изгороди. Он смотрит, слушает, нюхает воздух. Его манят птицы, цветы и ветер. Не спеша, спокойно старается он настичь природу врасплох, в самом ее жилище, потому что слух ее необыкновенно остер. Вот он нашел ее, она тут. Осторожно раздвинув сучья, он любуется ею в глубоком сумраке ее убежища, и не будя ее, снова опустив завесу, возвращается домой. Перед сном он вспоминает виденные образы: «послушные, они всплывают в памяти».
Жюль Ренар сам дал себе имя охотника за образами. Этот охотник обладает редким счастьем и преимуществом: среди всех своих собратьев он один приносит дичь, еще невиданную. Он пренебрегает всем известным, или, вернее, он не знает его. Добыча его состоит из экземпляров самых редких, даже единственных. Но он не трудится запирать ее на ключ, потому что она так всецело принадлежит ему, что вор напрасно вздумал бы ее похитить. Такая личность, столь резко, столь ярко выраженная, содержит в себе нечто смущающее, раздражающее и, по выражению некоторых завистников, нечто преувеличенное. «Поступайте, как мы, черпайте из общей сокровищницы старые метафоры. Поступая так, вы будете быстро двигаться вперед. Это очень удобно». Но Жюль Ренар вовсе не желает быстро идти вперед. Очень трудолюбивый, он пишет мало, понемногу зараз, походя на терпеливых резчиков, которые режут сталь с медленностью геологического процесса.
Изучая писателя, любят (пристрастье, полученное нами в наследство от Сент-Бева) знать его духовную семью, перечислять его предков, устанавливать по его поводу законы наследственности, находить указания на прочитанные книги, следы чужого влияния, отпечаток руки, которая легла на мгновение на его плечо. Для тех, кто много странствовал среди книг и мыслей, подобная работа не представляет особой трудности. Часто она настолько легка, что было бы лучше от нее воздержаться и не нарушать искусно завоеванной славы оригинальности.
По отношению к Жюлю Ренару у меня нет этого чувства. Я хотел бы ему зарисовать листок Stud-book, но это своеобразное существо явилось без предков, и среди ветвей генеалогического дерева остались висеть пустые медальоны.
Своим рождением и умом быть обязанным только самому себе, писать – ведь речь идет о писаниях – с глубокой верой в возможность создать настоящее новое вино, с неожиданным вкусом, оригинальное и неподражаемое – вот что должно быть для автора «L'Ecorni-fleur» [48] подлинной причиной радости и сильным доводом беспокоиться менее других о своей посмертной славе. Уже его «Рыжик» [49] , любопытный тип умного и угрюмого ребенка-фаталиста, не только запомнился, но вошел в поговорку. «Рыжик, ты будешь запирать кур каждый вечер». Это изречение по своей смешной правдивости может сравниться с самыми известными словцами знаменитых комедий, причем Сирано и Мольер, оба вместе, составляют неотъемлемую черту его творчества.
Признав оригинальность Жюля Ренара, отметим также его ясность, отчетливость и свежесть. Его картины парижской или деревенской жизни имеют вид самых тонких гравюр. Порой они несколько сухи, но всегда резко очерчены, ясны и полны жизни. Некоторые отрывки, более затушеванные и широкие, являются настоящими шедеврами искусства. Такова, например, «Семья деревьев».
...
«Перейдя поляну, выжженную солнцем, я встретил их.
Из-за шума они не живут у больших дорог. Как одинокие птицы, они селятся на невозделанных полях, у источников.
Издали они кажутся непроницаемыми, но как только подходишь к ним, стволы их раздвигаются. Осторожно они встречают меня. Я могу отдохнуть, освежиться, но я догадываюсь, что они наблюдают за мной, не доверяют мне.
Они живут семьей, самые старые посредине, а маленькие, у которых только что распустились первые листья, разбросаны повсюду, но всегда невдалеке друг от друга.
Умирают они медленно. Своих покойников они оставляют в стоячем положении, ожидая, пока они не рассыпятся в прах.
Точно слепые, они касаются друг друга ветвями, желая убедиться, что все тут. Охваченные гневом, они жестикулируют, когда ветер выбивается из сил, чтобы вырвать их с корнем. Но между собой – никаких споров. Они шуршат в согласном аккорде.
Я чувствую, что они должны быть для меня настоящей семьей. Всякую другую я скоро забыл бы. Эти деревья постепенно примут меня в свою семью, постепенно усыновят меня. Чтобы удостоиться этого, я учусь всему, чему нужно.
Я умею смотреть на проходящие облака.
Я умею оставаться недвижно на месте.
И я почти умею молчать».
Когда в антологических сборниках будет помещен этот отрывок, вряд ли в них найдутся другие страницы, полные такой же тонкой иронии и подлинной поэзии.
Луи Дюмюр

Представлять собою логику среди собрания поэтов – роль очень трудная, сопряженная с известными неудобствами. Тебя начинают принимать слишком всерьез. Чувствуешь себя обязанным продолжать писать в строгом тоне. Серьезность не нужна для выражения того, что считаешь истиной. Ирония придает приятную остроту эссенциям морали: для этого навара из ромашки необходим перец. Утверждать что-нибудь пренебрежительно – довольно верный способ не быть обманутым даже собственными утверждениями. Это очень удобный прием в литературе, в которой вообще нет ничего достоверного. Само искусство, без сомнения, одна лишь игра, основанная, говоря философски, на обмане. Вот почему полезно улыбаться.
Луи Дюмюр улыбается редко. Но если, завоевав своей жизнью снисхождение окружающих и некоторое истинное право на горечь, он захотел бы улыбнуться, защитить себя или развлечься, мне кажется, все собрание поэтов с удивлением, с чувством внутреннего шока, запротестовало бы. Итак, он остается серьезным в силу привычки, в силу последовательности логической мысли.
Дюмюр – это сама Логика. Он умеет наблюдать, комбинировать, делать выводы. Его романы, драмы, стихи походят на солидные строения. Их строго взвешенная архитектура нравится искусной симметрией изгибов, направленных к одному центральному куполу, который неуклонно притягивает к себе взор. Он обладает достаточной силой и волей, чтобы, увлеченный ошибочной мыслью, отказаться от нее не прежде, чем сделает из нее самые крайние выводы. Он достаточно владеет собой, чтобы не сознаваться в своем заблуждении и даже защищать его резонерскими ухищрениями. Такова и его система французского стиха, основанная на тоническом ударении. Правда, он часто не добивался никаких результатов, – языки имеют свою повелительную логику, – но зато «гекзаметры» его бывали неожиданны и удачны, как например: «L'orgueilleuse paresse des nuits, des parfums et des seins» [50] .
По-видимому, Луи Дюмюр направил свою литературную деятельность всецело на театр. Разрезав первые страницы его пьес (я не говорю о «Рембрандте», драме чисто исторической, высокого стиля и широкого размаха), с изумлением останавливаешься перед подновленными декорациями, старыми знакомыми именами, условным реализмом, устаревшим расположением вещей и персонажей под новыми одеждами и свежим лаком. Но уже с третьей прочитанной строчки автор заявляет, что среди печального сценического пейзажа он даст нам услышать слова значительные, что дуновение ветра, постепенно переходящее в ураган, снесет весь этот хлам.
Подновленная декорация имеет характер преднамеренности. По мере того как банальность ее расплывается, действующие лица драмы, весь ее антураж, освобождаются от своих покровов при молниях его фантазии. Остается одна идея в голом виде, или задрапированная присущей ей внутренней неясностью.
И эта условная обстановка взята как наиболее простая, попавшая под руку, как обстановка, которая всего легче дает возможность нейтральному воображению зрительной залы представить себе битву идей при помощи бутафорского оружия.
Некто идет по свету с сундуком в руках, наполненным прахом родной и свободной земли. Он несет свою любовь. Но вот приходит момент, и он падает под тяжестью этой любви. Видя это, другой человек начинает постигать какую-то правду – он освобождается от женщины, которая сломит его силы. Любить – это значит взвалить на себя обузу именно тогда, когда, потеряв свободу, лишаешься при этом и сил.
В «La Motte de terre» [51] это выражено проницательно и сильно. Это работа писателя, в совершенстве умеющего владеть своими природными дарованиями и управлять ими с непринужденностью и превосходством, которые так легко подчиняют всякую мысль. Случается, что произведение стоит выше человека, выше его разумения. Но как бы незначительно ни было это превосходство и как бы ни невинен был обман впечатления, явление это всегда производит унизительный эффект. Оно вызывает презрение в большей степени, чем писания самой безобразной посредственности, вполне адекватные мозгам, которые их создали. Значительный поэт всегда выше своего творения: его желания слишком широки и не поддаются осуществлению, его представления о любви так чудесны, что лишают его возможности когда-либо встретить ее в жизни.
«La Nébuleuse» [52] , недавно поставленная на сцене, является поэмой с глубокой и прекрасной перспективой. В этой пьесе символизированы в образе наивных существ сменяющие друг друга поколения людей. Они проходят, не понимая, почти не видя друг друга – так различны их души. В минуту заката вся их жизнь сводится к ребенку, к чему-то будущему, туманному, чье рождение погасит в сиянии нового утра увядшие улыбки старых звезд. С закрытыми глазами предчувствуешь, что этот завтрашний день, который тоже превратится в день сегодняшний, будет похож на умерших своих братьев. Ничего, в сущности, нельзя прибавить к спектаклю, которым усопшие годы забавляются, опершись
На облачный балкон, в одеждах устарелых.
Но это ничегоимеет значение для тех атомов человечества, которые тут именно хотели бы творить и направлять. Это то прекрасное, новое, которым мы дышим, которым мы живем. Нового! Нового! Пусть всякое существо, хотя бы мимолетно, заявит свою волю быть, волю существовать отлично от всего, что было до него, от всего, что его окружает. Пусть туманная утренняя звезда стремится стать звездою, яркий блеск которой затмит все другие сияния!
Все это я прочел и в тексте, и в молчании диалогов, ибо когда, как в данном случае, произведение искусства является логическим развитием мысли, то даже то, что говорится между строк, дает ответ читателю, который умеет задавать вопросы.
Луи Дюмюр – на пути к созданию философского театра, театра идей, на пути к обновлению тенденциозного романа. Его «Pauline ou la liberté de l'Amour» [53] – произведение серьезное, построенное талантливо, задуманное оригинально, произведение, которое имеет редкую идейную ценность.
Жорж Экоут

Среди молодых писателей очень мало драматургов – я хочу сказать: мало ревностных наблюдателей драмы человеческой жизни, одаренных широкой симпатией, с любовью относящихся ко всем ее проявлениям и формам. Одним волнения простых смертных кажутся заслуживающими презрения. Они лишены обобщающего ума, поднимающего на высоту трагедии самое незаметное приключение. Другие сознательно все упрощают. Они наблюдают и сопоставляют факты, чтобы сделать из них вывод, чтобы извлечь из них квинтэссенцию. Им стыдно рассказывать подробности, передавать механику жизни, выступающую в произведениях других авторов. Они дают нам портреты души, сохраняя из всей анатомии человека только ту конкретность, которая должна поддерживать общую игру красок. Такое искусство, не говоря уже о том, что оно отпугивает читателя (читатель хочет, чтобы ему рассказывали и требует рассказа во что бы то ни стало, от первого встречного), является признаком сознательного и презрительного отношения к человеческим страстям. Драматург прежде всего человек, страстно чувствующий, безумно влюбленный в жизнь, в жизнь настоящего, а не прошлого. Он любит не мертвые театральные представления, поблекшие декорации которых покоятся в свинцовых гробах, а любит людей сегодняшнего дня, со всею их красотою, со всем их звериным безобразием, с их душой и настоящей кровью, брызжущей из сердца, а не из надутого пузыря убитых в пятом акте драмы.
Жорж Экоут – драматург: он полон страсти, он опьянен жизнью и кровью.
Его симпатии многочисленны и очень разнообразны. Он любит все. «Питайтесь всем живущим». Покорный библейскому завету, он подкрепляется всем, что дает ему мир. С равной верностью входит он и в одичалость крестьян или матросов, то нежную, то суровую, и в психологию людей, с избытком вкусивших от цивилизации, то распущенную, то лицемерную, в волнующий позор любви запретной и в благородство преданного чувства, в грубую шутку тяжеловесных народных нравов и в утонченную извращенность некоторых юношеских душ. Он не делает никакого выбора. Он все понимает, потому что любит все.
Однако, – не знаю, добровольно, или в силу необходимой социальной прикрепленности к родной земле, – Жорж Экоут ограничил поле своих фантастических исканий границами старой Фландрии. Это соответствовало его таланту, чисто фламандскому, который чудесно преувеличивает как сентиментальные восторги, так и чувственную распущенность людей. Это – Филипп де Шампен, или Иорданс, то удлинявшие худые лица и придававшие им драматическое выражение глазами, неподвижно застывшими в какой-то одной мысли, то развертывавшие перед нами красный хаос радостно ликующих тел.
Жорж Экоут является представителем своей расы, или, вернее, определенного момента ее истории, т. е. обладает свойством существенно важным, чтобы обеспечить своим произведениям прочное место в истории литературы.
«Cycle patibulaire» [54] , только что появившийся во втором издании, «Mes communions» [55] , напечатанные в прошлом году, все это книги, в которых громче и ярче всего кричит о своем гневе, о своих состраданьях, о своем презрении и своей любви этот одержимый страстями человек. Он сам является как бы третьим томом чудесной трилогии, первые два тома которой носят названия: Метерлинк и Верхарн.
Играя словами, я назвал его драматургом, вопреки этимологии и обычаям, ибо он никогда не писал для театра. Но по тому, как построены его рассказы, основанные на переломе, на постоянном возвращении к своей истинной природе характеров, обезумевших от страсти, угадываешь в нем гений исключительно драматический.
У Экоута необыкновенный талант изображения переломов. В начале – характер. Затем жизнь начинает давить, и характер слабеет. Новый гнет обстоятельств выпрямляет его и приводит к первоначальному состоянию. Это и есть сущность психологической драмы. Если обстановка изменяется сообразно перипетиям человеческой судьбы, то произведение получает вид законченности и полноты. Оно дает впечатление искусства вопреки обычной логике естественной простоты. Все это можно было бы принять как известную систему творчества – и не плохую. Но этого тут нет. Экоут слышит и передает шепот инстинкта. Светлым умом он улавливает необходимость катастрофы. С полной ясностью он передает потрясения человеческого сердца, со всеми их последствиями. Он не замутит зеркала души своим дыханием. Прекрасные примеры такого искусства мы находим в новеллах Бальзака. «El Verdugo» [56] – это ряд переломов, только слишком общих. «Le Coq Rouge» [57] Экоута столь же драматичен, но проникнут более глубоким анализом. Это широко развернутый перед нами прекрасный пейзаж в вольном, преображающем свете играющих облаков и сверкающих волн.
Также прекрасна, хотя и с оттенком жестокости, трагическая история с простым названием «Une mauvaise rencontre» [58] , в которой мы видим героическое преображение жалкого бродяги, покоренного могуществом любви. От всесильной власти слова чудесно брызжет чистая, светлая кровь из разложившихся вен общественных отбросов. Могавр наслаждается и умирает от ужаса, видя, что слова его осуществляются на деле, вплоть до предсмертных судорог. Красный галстук приговоренного к смерти превращается в стальной нож, рассекающий надвое белую шею.
В одном из романов Бальзака [59] есть беглый и спутанный эпизод, который любителям докапываться до генеалогии идей мог бы напомнить эту трагедию. Из человеконенавистничества Грандвиль дает тысячефранковый билет тряпичнику, чтобы сделать из него пьяницу, лентяя и вора. Вернувшись домой, он узнает, что его собственный сын арестован за кражу. Это, конечно, только романтический эпизод. Такой же анекдот, с другим концом, встречается и в «A Rebours» [60] , где Дэз Эссент поступает с молодым сорванцом приблизительно так же, как и Грандвиль, руководясь, как и он, злобным скептицизмом. Вот возможное генеалогическое дерево. Но я считаю его недостоверным, ибо трагическая извращенность Экоута – действительное пугало или химера – все же является чудовищем оригинальным и искренним.
Если в жизни искренность есть достоинство, то в литературе это достоинство сомнительное. Искусство отлично уживается с ложью: никто не обязан говорить «на духу», открывать свои антипатии. Под искренностью я разумею род художественного бескорыстия, которое заставляет писателя отбросить мысль о том, что он может отпугнуть среднего читателя, опечалить каких-то друзей или учителей. Писатель разоблачает свое настроение с бесстыдным спокойствием, как это может сделать крайняя невинность, безмерный порок, или страсть.
Исповедь Жоржа Экоута проникнута страстью. Голодный он садится за стол и, напитавшись состраданием, гневом, жалостью и презрением, отведав от всех эликсиров любви, благоговейно приготовленных его ненавистью, он встает, полный пьяного экстаза, но еще готовый воспринять радости грядущего дня.
Поль Адан

Автор «Mystère des Foules» [61] неизбежно заставляет думать о Бальзаке. Он похож на него силой и размахом. Еще в ранней молодости, подобно Бальзаку, он писал отвратительные романы, только в бесконечно меньшем количестве. В них никак нельзя было предусмотреть будущего гения, его гармонического ума. Из «La Force du mal» [62] так же мало вытекает «Le Thé chez Miranda» [63] , как «Le Père Goriot» [64] из «Jane la Pâle» [65] или из «Le Vicaire des Ardennes» [66] . А между тем, Поль Адан созрел очень рано. Но и самое раннее созревание имеет свои границы, в особенности у писателя, предназначенного изображать жизнь так, как он ее видит, как он ее ощущает. Необходимо время, чтобы вполне воспитать чувства, чтобы опыт дал крепость уму в искусстве сравнений и выбора, ассоциаций и диссоциаций идей. Романисту, кроме того, необходима широкая эрудиция, большой запас всевозможных солидных знаний, приобретаемых только медленно, по случаю, при благоприятном стечении обстоятельств.
Поль Адан достиг полного расцвета своих сил. Сейчас он накануне славы. Каждое движение, каждый шаг приближает его к бомбе, готовой разорваться, и если он устоит при этом страшном взрыве, он будет королем и господином. Под этой бомбой я разумею не громадную толпу, но ту избранную публику, которая, не понимая чистого искусства, все же требует, чтобы нужные ей романтические эмоции были ей поднесены в оболочке настоящей литературности, оригинальной, сильно надушенной, представляющей некоторое умело приготовленное тесто, неожиданное по форме, способное удивлять и пленять. У Бальзака была такая публика, и Поль Адан, в свою очередь, готов ее завоевать.
Роман нравов, вывезенный из Англии полтора столетия тому назад (я оставляю в стороне трех или четырех писателей, о которых не хочу говорить) упал в настоящее время чрезвычайно низко. Пренебрегая наблюдениями и стилем, без воображения, выдумки, мыслей, как общих, так и частных, ремесленники литературы взялись поставлять рассказы и до такой степени подорвали уважение к романам, что интеллигентный человек, в поисках приличного для него досуга, не решается открыть ни одного из их томов. Возмущены даже букинисты – они готовы и хотят сделать плотины против этого желтого моря книг. И Поль Адан, несомненно, пострадал от всеобщего презрения: плохо осведомленный читатель долго думал, что его романы похожи на все прочие. На самом же деле они совсем другие.
Они отличаются прежде всего:
Стилем. Язык Поля Адана энергичен, сжат, образен, оригинален, вплоть до синтаксических новшеств.
Наблюдательностью. Его острый взор проникает, как жало осы, в глубину предметов и душ. Как усовершенствованная фотография, он читает сквозь тела и несгораемые шкапы.
Воображением. Оно позволяет ему вызывать к жизни существа самые различные, самые характерные, самые индивидуальные. Как Бальзак, он владеет даром придавать своим героям не только жизнь, но и определенный личный характер, делать из них настоящие фигуры, наделенные известным психологическим складом. В «La force du mal» молодая девушка представлена с такою четкостью, что ее образ остается в памяти незабвенным. К несчастью, характер ее ослабевает к концу романа, вообще, скомканному.
Наконец, плодовитостью, измеряемой не количеством строчек, но количеством произведений. Меньшее из них все же должно быть признано самостоятельной вещью.
Поль Адан задумал две романические эпопеи, «L'Epoque» [67] и «Les Volontés merveilleuses» [68] , которые его страстный и гордый гений доведет когда-нибудь до истинной монументальности.
Он точно улей. При первых горячих лучах солнца его идеи, как пчелы, шумным роем вылетают и рассеиваются по обширным равнинам жизни.
Поль Адан являет собою великолепное зрелище.
Лотреамон

Это был молодой человек, необыкновенно и неожиданно оригинальный, с больным, безумным гением. Когда слабоумные делаются буйными, их слабоумие остается и в проявлениях буйного помешательства чем-то беспокойным или застывшим. Безумный гений все же гений. Поражена только форма сознания, но не качество его. Падая с ветки, плод разбился. Но он сохранил свой аромат, свой вкус, хотя он уже и несколько перезрел.
Такою была история этого удивительного незнакомца Исидора Дюкасса, украсившего себя романтическим псевдонимом: князь Лотреамон. Он родился в Монтевидео, в апреле 1846 года, и умер двадцати восьми лет, напечатав «Les Chants de Maldoror» [69] и «Poésies» [70] , собрание афоризмов и критических заметок, в которых уже не чувствуется никакой раздраженности и которые местами даже слишком мудры. Мы ничего не знаем об его краткой жизни. По-видимому, у него не было никаких литературных связей. Многочисленные друзья, к которым он обращался в своих посвящениях, носили имена, оставшиеся неизвестными. «Les chants de Maldoror» – это длинная поэма в прозе, из которой им были написаны только первые шесть песен. Надо думать, что если бы он и не умер так рано, все равно эти песни не были бы окончены. Читая первый том, чувствуешь, как сознание постепенно покидает автора. А когда, за несколько месяцев до смерти, оно вернулось к нему опять, он пишет свои «Poésies». Среди любопытнейших страниц попадаются места, отражающие состояние духа умирающего, пред глазами которого проходят воспоминания отдаленнейших лет, измененные бредом. Такими воспоминаниями были для этого ребенка уроки его учителей.








