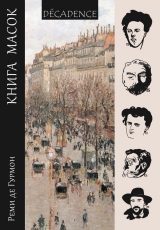
Текст книги "Книга масок"
Автор книги: Реми де Гурмон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
К его услугам все необходимые слова, как только ему захочется передать свои впечатления, цвет своих мечтаний. Точно так же не приходится искать слов и тому, кто задумает определить самого поэта. Прежде всего ему придет в голову то самое слово, которое уже упоминалось, которое непреодолимо вспыхивает в сознании, когда говоришь о Ренье: богатство! Анри де Ренье – поэт богатый по преимуществу, богатый образами! Ими полно у него все: сундуки, кладовые, подземелья. Рабы, непрерывными вереницами, приносят ему все новые и новые поэтические богатства, которые он гордым жестом рассыпает по ослепительно-белым ступеням своих мраморных лестниц. Пестрые красочные каскады образов, то бурно кипящие, то тихо несущиеся по направлению к жизни, превращаются в пруды и озера, залитые солнечными лучами. Не все эти образы должны быть признаны новыми. Верхарн предпочитает самым верным, самым красивым метафорам, существовавшим до него, те, которые он создает сам, хотя бы они казались неуклюжими и бесформенными. Анри де Ренье не пренебрегает уже существующими уподоблениями, но перерабатывает их и приспособляет к своим задачам, изменяя при этом весь их антураж, придумывая для них новые ассоциации, придавая им еще не известное значение. Если среди этих образов, прошедших через такую переработку, попадаются и образы, отличающиеся девственной чистотой, все же его поэзия не дает впечатления чего-то вполне оригинального. Творя так, как творит Анри де Ренье, можно избежать опасности быть неясным и странным. Читатель не чувствует себя затерянным среди дремучего леса. Перед ним всегда верная дорога. Радость, которую он испытывает, срывая новые цветы, еще увеличивается тем, что тут же рядом растут и цветы любимые, знакомые.
Печальная пора, – цветы уже не вьются,
Желтеет тусклый день поблекшими листами,
И бледная заря водами отразилась;
А вечер точит кровь, израненный стрелами,
Таинственных ветров, что плачут и смеются.
Анри де Ренье умеет стихами сказать все, что хочет. Его тонкость, его проницательность не знают границ. Он передает едва зримые оттенки человеческой мечты, неуловимый бег фантастических видений, переливы расплывающихся красок. Обнаженная рука, конвульсивно опирающаяся на мраморный стол, плод, качаемый и срываемый ветром, забытый пруд – этих нюансов совершенно достаточно для него, чтобы создать прекрасную и чистую поэму. Его стих ставит перед глазами живые образы. Несколькими словами он умеет передать то, что видит внутри себя.
Печальные пруды, где тают вечера.
Не собраны никем, цветы там опадают.
Речь его безукоризненна. И этим он тоже отличается от Верхарна. Его поэмы, являются ли они результатом долгого, или короткого труда, никогда не носят на себе отпечатка усилий. С удивлением и восхищение следишь за прямым и благородным бегом его строф, которые, подобно белым коням в золотой сбруе, несутся вперед и исчезают в темной славе вечеров.
Богатая и тонкая, поэзия Анри де Ренье никогда не отличается одной только лирикой. Среди гирлянд метафор у него всегда сверкает какая-нибудь идея. И как бы схематична, как бы неопределенна ни была эта идея, ее все же совершенно достаточно, чтобы ожерелье поэтических образов не рассыпалось в беспорядке. Все ее жемчужины нанизаны на нитку, иногда совершенно незаметную, но всегда крепкую. Таковы, например, следующие строки:
Такою бледною заря была вчера,
Над мирными зелеными лугами,
Что с раннего утра
Дитя явилось меж кустами
И наклонялось над цветами,
Чтоб асфодели рвать прозрачными руками.
Был полдень грозно жгуч и тусклы небеса,
В саду – безмолвная и мертвая краса,
Деревьев веянье живое не касалось;
Как мрамор жесткою вода казалась,
А мрамор светлым был и теплым, как вода.
Прекрасное Дитя явилося сюда
В одежде пурпурной и в золотом венке,
И долго виделось вблизи и вдалеке
Как огненных пионов кровь стекала,
Когда меж них Дитя мелькало.
Дитя нагое вечером пришло
И розы собирало в темной сени,
Оно рыдало, зачем сюда пришло,
Своей боялось тени.
Ребенок был так наг и мал,
Что в нем свою судьбу я вмиг узнал.
Это простой эпизод длинной поэмы, в свою очередь являющейся фрагментом целой книги. Это маленький триптих, имеющий несколько значений, сообразно с тем, берется ли он в отдельных своих частях, или целиком. В одном случае – перед нами судьба отдельного существа, в другом – символ жизни вообще. Но этот отрывок дает нам также и образец настоящего свободного стиха, поистине совершенного, виртуозного.
Франсис Вьеле-Гриффен

Я не хочу сказать, что Вьеле-Гриффен веселый поэт, но, несомненно, это поэт веселья. Вместе с ним принимаешь участие в радостях простой, нормальной жизни, в стремлениях к миру. Вместе с ним приобщаешься к непоколебимой вере в красоту, в непобедимую молодость природы. Он не буен, не пышен, не нежен – он спокоен. Очень субъективный, впрочем, может быть, именно благодаря своей субъективности, он религиозен, так как думать о себе значит, в конце концов, думать о всей своей личности в полном ее объеме. В природе он, как Эмерсон, видит «прообраз древней религиозной мысли человечества». И как Эмерсон, он думает, «что день не пропал даром, если внимание хоть на мгновение было уделено природе». Он знает и любит все элементы леса, начиная от «больших, нежных ясеней» до «молодых, бесконечно разнообразных трав». И, несомненно, это его лес, о котором он говорит:
Вся жимолость покрылася цветами,
Сочатся солнца золотые слезы,
Шуршит косуля быстрая кустами,
И ветер веет по кудрям березы
Между листами.
В моих лугах осеребрились травы,
Как шпаги блеск блестят лучи далеко,
Жужжанье пчел услышите с утра вы
И ландыши по берегу потока,
И ветер веет в ясенях дубравы.
Но он знает не только цветы, которыми пестрят луга, он знает также «La feur qui chante» [11] , и «Celle qui chante» [12] , и лаванду, и майоран, фею старых баллад и сказок. Он помнит припевы народных песен и вводит их в свои маленькие поэмы, похожие на комментарии к основному тексту, или просто на поэтическую грезу.
Где наша Маргерита?
Огэ, Огэ!
Где наша Маргерита?
Она в высоком замке усталая все ждет,
Она в своей землянке так весело поет,
Она в своей могиле, – там ландыш расцветет.
Где наша Маргерита?
И это почти так же трогательно, как стихи Жерара де Нерваля:
Где наши милые?
Они в могиле.
Житье постылое
Там позабыли.
И так же невинно жестоко, как те хоровые песни, которые поют маленькие девочки:
К чему дана краса?
Чтоб в землю зарывать,
А там червей питать,
А там червей питать.
Вьеле-Гриффен пользовался с чрезвычайной осторожностью народной поэзией, в которой так мало искусственного, что она кажется как бы рожденной, а не сотворенной. Но если бы он был и менее скромен, то все же не злоупотребил бы ею, ибо он умеет чувствовать и уважать. Другие поэты, к несчастью, отличались меньшим благоразумием. Они срывали «La rose qui parle» [13] такими неуклюжими и грубыми руками, что было бы лучше, если бы вечное молчание царило вокруг этой прелести народной фантазии, ими оскверненной и униженной.
Море, как и лес, тоже очаровывает и опьяняет Вьеле-Гриффена. В одной из первых своих книг «Cueille d'Avril» [14] он дал нам полное его описание. Он показал море всепожирающее, ненасытное, море – бездну, море – могилу, море дикое, с горделивой и победной волной, море, отдающееся сладострастной ласке прибоя, море грозное, беззаботное, настойчивое, завистливое, играющее красками звезд и солнца, светлой зари и темной ночи. Поэт упрекает это море за то, что оно блестит чужой славой, и гордо заявляет, что не последовал его примеру и не искал почета в счастливых реминисценциях и наглых плагиатах! И надо признать, что Вьеле-Гриффен, который уже на первых ступенях своей поэтической деятельности не говорил пустых слов, сдержал впоследствии свое обещание. Он остался самим собою, свободным, гордым и неприступным. Его лес не безграничен, но это не шаблонный лес: это – владения его фантазии.
Не касаюсь другой, чрезвычайно важной стороны его творчества: его роли в трудном деле завоевания свободного стиха. Хотелось только передать более общие, глубокие впечатления. Я говорил не только о форме, но и о самом существе его искусства. Я хотел отметить ту новую струю, которую он внес во французскую поэзию.
Стефан Малларме

Рядом с Верленом Стефан Малларме тоже оказал непосредственное влияние на наших современных поэтов. Оба были «парнасцами», оба были, прежде всего, последователями Бодлера.
Per me si va tra la perduta gente [15] .
Ими начинается длинный спуск с печальной высоты к скорбному миру «Цветов Зла». Вся современная литература, в особенности та ее часть, которую принято называть символической, известна под именем бодлеровской, конечно, не по внешним ее техническим приемам, а по ее внутреннему стилю, по ее тяготению ко всему таинственному, по ее стремлению уловить язык природы в ее отдельных явлениях, по ее готовности слиться с неясной мыслью, разлитой в темных пространствах мира, как это говорится в стихотворении, так часто повторяемом: [16]
Природа – строгий храм, где строй живых
колонн
Порой чуть внятный звук украдкою уронит;
Лесами символов бредет, в их чащах тонет
Смущенный человек, их взглядом умилен,
Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
Где все едино, свет и ночи темнота,
Благоухания, и звуки, и цвета
В ней сочетаются в гармонии согласной.
Перед тем как умереть, Бодлер прочел первые стихи Малларме. Он встревожился: поэты не любят оставлять после себя никаких преемников, они хотели бы стоять в одиночестве, унести с собою в могилу свой гений. Но Малларме был бодлеристом только в смысле филиации поколений. Столь ценная оригинальность этого поэта очень быстро определилась: его «Proses» [17] , его «Après-Midi d'un Faune» [18] , его «Sonnets» [19] явили миру всю очаровательную тонкость и проницательность его гения, то выдержанно спокойного, то презрительно высокомерного, то царственно нежного. Сознательно убив в себе всю непосредственность простых и живых восприятий, он из поэта превратился в настоящего виртуоза. Он полюбил слова за их возможное значение больше, чем за их действительный смысл. Из слов этих он творил мозаику, в изысканности которой была своя простота. О нем справедливо говорили, что он так же труден, как Перс, как Марциал. Подобно андерсеновскому человеку, который ткал невидимые нити, Малларме собирал драгоценные камни, горевшие отблеском его фантазии, не всегда в горизонте нашего зрения. Но было бы нелепостью предположить, что Малларме непонятен. Конечно, цитировать одно какое-нибудь стихотворение, неясное по своей оторванности от других – не лояльно, но следует сказать, что когда поэзия его хороша, она остается такою даже в отдельных своих фрагментах. И если в его книге позднейшего времени мы встречаем только обломки –
Печальна плоть, увы! и я прочел все книги.
Бежать! туда бежать! как пьяны эти миги
Для птиц, когда вокруг лишь пена да лазурь.
Уж осень желтыми веснушками покрылась…
Рыданьям белых лилий ты подобна…
Тебе принес дитя из ночи Идумийской —
Власть злой агонии вся шея жаждет сбросить.
то, без сомнения, и их надо приписать поэту, который был артистом в высшем смысле этого слова. О, этот сонет лебедя (последний стих является по счету девятым), в котором все слова сверкают снежной белизной!
Но об этом поэте, всеми любимом, почти провиденциальном, уже сказано все, что можно было сказать. И потому прибавлю только следующее. Недавно был поставлен вопрос, формулированный приблизительно так: «Кто явится предметом поклонения молодых поэтов после Верлена, сменившего Леконта де Лиля». Почти никто из опрошенных не ответил. Большинство оправдывало свое молчание ссылкой на нелепую форму вопроса. И действительно, как можно требовать, чтобы молодой поэт восхищался «исключительно и последовательно» тремя «учителями», столь различными, как Верлен, Леконт де Лиль и Малларме, который, без сомнения, должен был получить наибольшее число голосов. Итак, многие не ответили из добросовестности, я же подаю свой голос теперь. Любя и восхищаясь Стефаном Малларме, не думаю, чтобы смерть Верлена могла дать повод любить и восхищаться им больше, чем мы восхищались им обыкновенно.
Но так как долг обязывает жертвовать мертвым ради живого, то, окружив славой имя живого таланта, мы тем самым придаем ему необходимую энергию. Результат анкеты мне нравится. Мы, которые тогда молчали, должны были говорить. Если истина пострадала оттого, что большинство отказалось от подачи голоса, то это факт в высшей степени печальный: пресса, осведомленная о положении вещей, нашла для себя лишний повод посмеяться над нами, пожалеть нас. Качаясь на волнах чернильного моря умственного невежества, но не погибнув в них окончательно, имя Малларме, внесенное, наконец, в элегантный список имен, конкурирующих на современном литературном ипподроме, плывет все вперед и вперед, отталкивая от себя и горькую, и сладкую пену окружающего его со всех сторон благерства.
Альбер Самен

Когда молодые современные женщины и женщины завтрашнего дня уже знают наизусть все, что есть нежно-прекрасного в стихах Верлена, они любят отдаваться мечтам в «Саду Инфанты». Несмотря на то, что он кое-чем обязан автору «Fêtes galantes» [20] (меньше, чем можно было бы думать), Альбер Самен принадлежит к самым оригинальным и обаятельным талантам. Это – наиболее тонкий и сладостный из поэтов:
В плаще сиреневом и с поясом развитым
Мечта приходит к нам, и рой неясных дум,
И душ касается туманный шлейфа шум
При звуке музыки старинном и забытом.
Прочтите целиком стихи, начинающиеся словами:
В медлительном плену последних вечеров.
Они чисты и прекрасны, как любой образец французской поэзии, и мастерство здесь соединяется с простотой, присущей произведениям глубокого чувства и долгих раздумий. Свободный стих, новая поэтика! Из этих стихов понимаешь, как тщетны старания просодистов и сколь неловки слишком искусные бряцатели на кифаре. Тут есть душа.
Искренность Самена изумительна. Мне кажется, он не решился бы переложить в стихи ощущения, им самим не изведанные. Но искренность не имеет здесь значения наивности, а простота не говорит о неловкости. Он искренен не потому, что признается во всем, что думает, а потому, что действительно продумывает все, в чем признается. И прост он оттого, что изучил свое искусство до самых его сокровенных тайн, которыми пользуется без усилия, с бессознательным мастерством.
Уж роз осыпалась вечерних вереница
И в бледном трепете закатных вечеров
Скамейка чудится меж вековых дубов,
Где юным я мечтал, торжествен, как вдовица.
Кажется, что эти строки принадлежат Виньи, но Виньи смягченному и снизошедшему до скромной, простой меланхолии, чуждой всякой торжественности. Самену не пришлось смягчаться, он мягок от природы, и, вместе с тем, сколько в нем страсти, сколько чувственности – нежной чувственности!
Ты, девственная, шла в виденьи небывалом,
А следом страстный фавн, покорен и космат,
Я вечером впивал твой чистый аромат,
Мечта, что женственным овита покрывалом.
Нежная чувственность – таково именно было бы впечатление от его стихов, если бы все они соответствовали его поэтике, о которой он мечтал:
О белокуром стихе, где текучие расплываются чувства,
будто косы Офелии под водою;
о молчаливом стихе, без ритма, без основы,
где, как весло, скользит бесшумно рифма;
о стихе, что как истлевшие ткани, как звук,
как облако, неосязаем;
о стихе, что ворожит в осенний вечер,
как печальные слова женского обряда;
о стихе вечеров любовных, опьяненных вербеной,
где блаженная душа еле чувствует ласку.
Но этот поэт, который так любит оттенки, оттенки в духе Верлена, иногда умел быть сильным колористом и мощным скульптором. Этот другой Самен, более давний, но не менее действительный, открывается нам в части сборника, которая озаглавлена «Evocations» [21] . Это Самен – «Парнасец», но неизменно индивидуальный, даже в своей высокопарности. Два сонета, озаглавленные «Cléopatre» [22] , прекрасны не только по слову, но и по мысли. Это не только музыка и не только пластика. Поэма эта цельна и жизненна. Это мрамор странный и волнующий, живой мрамор, возбуждающий и оплодотворяющий все, вплоть до песков пустыни вокруг загоревшегося на минуту любовью сфинкса. Таков этот поэт: неотразимо обаятельный в своем искусстве будить созвучный отклик во всех колоколах и во всех душах. Все души очарованы «инфантой в праздничном наряде».
Пьер Кийярд

Это было очень давно, в героическое время Театра Искусства. Нас пригласили посмотреть и послушать «La Fille aux Mains coupées» [23] . Об этом представлении у меня сохранилось воспоминание как об интересном, цельном и прекрасном спектакле, давшем тонкое и острое впечатление законченности. Пьеса длилась не более часа, но стихи остались в памяти, как цельная поэма.
Пьер Кийярд объединил свои первые стихи под заглавием, для многих слишком самонадеянным: «La gloire du Verbe» [24] . Иметь смелость так озаглавить свои стихи, значит быть уверенным в себе, сознавать свое мастерство и, во всяком случае, утверждать, что даже после Леконта де Лиля и Эредиа не ослабело то искусство, где вместе с яркостью воображения требуется и редкая верность руки. Он нас не обманул: искусный ювелир, он сумел прославить драгоценное многообразие человеческого слова, вызвать блеск улыбки в жемчугах и озарить смехом радугу бриллиантов.
Капитан галеры, нагруженной дорогими рабами, плывет он среди опасных и соблазнительных пурпуровых архипелагов (по слухам, такими видятся греческие острова в известные часы), а с наступлением ночи бросает якорь в песчаное дно фиолетовых заливов, «в лиловом блеске лунного сияния». И ждет появления божественного.
Тогда из глубины, из трепетного мрака,
Как солнце юное, встает с морского дна,
Блистая белизной, и в пышности руна
Распущенных волос, где рдели капли мака,
Восходит женщина…
Ее глаза – это бездны радости, любви и ужаса. В них отразился весь мир вещей, от травки до бесконечности морей. Она говорит: поэт, твоя жизнь полна желаний, восторгов и любви. Ты видишь себя во власти плотских радостей. И ты страдаешь, ибо радости эти кажутся тебе суетными.
Пускай лишь призраки, объятья к ним простри,
Пускай мечтанием поят волшебства воды, —
Погаснет солнца диск, умрут земли народы,
Но мир останется в твоей душе: смотри, —
Увяли быстро дни, как отцветают розы,
Но Словом создан мир, где ты живешь один.
Поистине, ты облек в форму мою красоту, дал ей движение. Я твое творение. Я существую: ты думаешь обо мне и выявляешь меня.
Такова руководящая идея этой «Gloire du Verbe», одной из самых редких поэм нашего времени, в которой идея и слово связаны гармоническим ритмом.
С восходом солнца галера снова поднимает свои паруса: Пьер Кийярд отплывает в далекие страны.
У него языческая душа, или, вернее, душа, которая хотела бы быть языческой. Если глаза его жадно ищут красоты осязаемой, то мечта его медлит открыть двери, за которыми спит красота, сокрытая в предметах. Но он более беспокоен, чем сознается в этом, и ощущение пленной красоты вызывает в нем постоянный трепет. Так как он знает все теогонии и все литературы,
Познал я всех богов, небесных и земных,
так как он удовлетворял жажду из всех источников, то перед ним открыты все способы упоения. Дилетант в высшем смысле этого слова, исчерпав радость блуждания, он изберет, наконец, себе жилище, без всякого сомнения, у какого-нибудь священного источника. Сорвав немало наслаждений, посеяв много благородных семян, он увидит себя владельцем царственных садов и простых благовонных цветников.
Цветы бессмертные и равные богам!
Фердинанд Герольд

Опасность «свободного стиха» заключается в том, что у него нет формы, что ритм его, слишком неопределенный, придает ему характер прозы. Мне кажется, что самые красивые стихи, это те, которые содержат одинаковое количество полных и ударных слогов: место ударений в них очевидно, а не предоставляется усмотрению читателя или декламатора. Не одни только поэты читают поэтов, и неблагоразумно полагаться на случайные толкования. Конечно, я не стану заниматься цитированием стихов, которые кажутся мне плохими, в особенности не стану их искать в поэмах Герольда: он этого не заслужил. Нельзя сказать, что он обладает даром ритма в высокой мере. Нет, он обладает им в достаточной мере, чтобы от поэзии его веяло нежной прелестью и тихой жизненностью. Герольд поэт нежности. Его поэзия – белокурая дева с жемчугами в светлых волосах. На шее и на пальцах – ожерелье и кольца. Тонкие, изящные геммы. Gemme [25] – одно из самых любимых слов поэта. Его героини расцвечены геммами, его сады – лилиями.
Белокурая, белая, белая Дама лилий.
Он любил ее, но сколько других, королев и святых, любил он еще! Читая прилежно забытые книги, он находит в них редкие легенды. Их он перелагает в короткие поэмы, часто не длиннее сонета. Только он один знает их, этих королев – Марозию, Анфелизу, Базину, Паризу, Ораблу или Аэлис, этих святых – Нониту, Бертилью, Ришардис и Гемму. О Гемме он думал прежде всего. Ей он уделяет лучшее место в этом расписном окне, радуясь, что еще раз напишет слово, которое его чарует.
Герольд один из наиболее объективных современных поэтов – о себе он говорит немного. Ему нужны темы, несвойственные его жизни, и он выбирает даже такие, которые кажутся чуждыми всем его верованиям. Но от этого его королевы не менее прекрасны, его святые не менее чисты. Эти панно и витражи вы найдете в его сборнике, озаглавленном «Chevaleries sen-timentales» [26] , лучшем и наиболее характерном из его произведений. Поистине, это приятное чтение, и много сладостных часов проводишь средь этих женщин, этих лилий, гемм, осенних роз.
Осенние розы полиняли,
Розы, что цвели на могилах,
Медленно венчики опали,
Полна холодная зима лепестков милых.
Не правда ли, очень нежная печаль? А это:
Есть дома, что плачут на берегу,
С колокольни несется погребальный звон.
Звонят так печально…
Где я девушек подстерегу?
Они к смертной речке пошли из дома вон,
У каждой на пальце был перстень обручальный.
Таким образом, не насилуя своего таланта для пламенного изображения жизни, – работа, на которую он вряд ли был бы способен, – не претендуя на возможности, которых у него нет, Герольд создал для себя и для нас поэзию, полную чистоты, нежности, очарования и ласки.
Если бы от одного поэта стали требовать всего, кто мог бы удовлетворить нас? Главное – это иметь сад, вскопать его и засеять. Цветы, которые взойдут, гвоздика, пион или фиалка, будут иметь прелесть и ценность в свое время года, в свою пору.
Адольф Ретте

По изобилию поэтов, день, который мы теперь переживаем и который длится уже десять лет, нельзя почти сравнить ни с каким другим днем прошлого, даже с наиболее солнечным, наиболее богатым цветами. Было много тихих и нежных прогулок по росе – по следам Ронсара. Было прекрасное время после полудня, когда вздыхала среди гобоев и громких труб томно усталая виола Теофиля. Был романтический день, грозовой, мрачный и царственный, к вечеру пронзенный криком женщины, которую душил Бодлер. Был лунный свет Парнаса. Но уже всходило солнце Верлена. Теперь белый день. Среди широкой равнины есть все необходимое для стихов: трава, цветы, ручьи и реки, леса, пещеры и женщины, столь молодые и столь свежие, что кажутся похожими на живые видения, только что расцветшие в девственной фантазии юноши.
Широкая равнина полна поэтов, которые ходят не толпами, как во времена Ронсара, а дичась, в одиночку. Издалека они приветствуют друг друга коротким поклоном. Не у всех есть имена, многие никогда их не будут иметь. Как назовем мы их? Оставим их в покое. Но один из толпы расскажет нам о своих мечтах.
Это – Адольф Ретте.
Его сразу можно узнать по беспутному, почти дикому поведению. Он рвет цветы, не собирая их, вяжет плоты из тростника, пуская их по течению навстречу случаю, навстречу будущему. Но когда проходят молодые женщины, он улыбается и становится томным. Прошла Прекрасная Дама… и он говорит:
Дама лилий нежных и влюбленных,
Дама лилий бледных, утомленных,
Грустна, с очами белладонны.
Дама королевских роз и мрачных,
Дама роз таинственных и брачных,
Тонка, словно Мадонна.
Дама райских, сладких умилений,
Дама всех восторгов, отречений,
Далекая звезда одиноких!
Дама ада, глаза терзаний,
Дама дьявола, весь яд лобзаний, —
Это – пламя озер глубоких, —
Сгорю я от твоих касаний!
Прекрасная дама прошла, но его заключительное проклятье не тронуло ее. Она приписала его, вероятно, чрезмерности любви. Прошла, ответив лишь улыбкой на улыбку.
Первым эпилогом этой идиллии явилась чудесная жалоба:
Мне мнится, о душа моя, что вы, как сад.
Сад, где в сумраке вечера виднеются зацепившиеся за кусты обрывки вуали:
Той дамы, что проходит мимо.
Несколько времени спустя мы узнаем, что Ретте, вернувшись из путешествия на «Archipels en fleurs» [27] , обогатил свою мечту новой жатвой. И он станет еще богаче. Его талант – это живучий черенок, привитый к дикому деревцу, гордому и густолиственному. Как поэт, Адольф Ретте обладает не только чувством ритма и любовью к слову: он любит также идеи, идеи новые, даже крайние. Он хотел бы освободиться от всех старых предрассудков, хотел бы освободить своих братьев от социального рабства. Его последние произведения: «La Forêt bruissante» [28] и «Similitude» [29] – подтверждают эту тенденцию его духа. Одно из этих произведений – лирическая поэма, другое – драматическая поэма в прозе, очень простая, очень любопытная и очень необычная по соединению сладких грез нежного поэта и немного строгих, немного наивных фантазий анархического утописта. Но без наивности, вернее, без душевной свежести, мыслимы ли поэты?
Вилье де Лиль Адан

Установилось мнение, звучащее парадоксально (неловкое свидетельство расшатанного поклонения), что творчество Вилье де Лиль Адана находится вне времени и пространства. Это утверждение более чем странно, ибо именно человек высшего порядка, великий писатель, роковым образом, благодаря своему гению, обречен быть синтезом своей расы и своего времени, выразителем либо всего человечества определенного момента, либо известного его фрагмента, обречен быть мыслью и словом целого народа, а не каким-то неизвестно откуда явившимся чудовищем. Как и Шатобриан, родственный ему по славе и происхождению, Вилье де Лиль Адан был выразителем момента – момента очень торжественного. Оба они в разных целях, в различной форме, на время воссоздали «избранную» душу. От одного произошел католический романтизм и уважение к традициям старины, от другого – идеалистическая мечта и культ внутренней красоты. Но первый был, кроме того, гордым творцом неукротимого индивидуализма, второй показал нам, что окружающая жизнь представляет собой единственный годный для обработки материал. Вилье принадлежал своему времени настолько, что все его лучшие произведения – мечты, прочно основанные на новых течениях науки и метафизики, как, например, его «Ева Грядущего», как «Tribulat Bonhomet» [30] , эта огромная, удивительная и трагическая буффонада, в которой, быть может, для того, чтобы создать наиболее оригинальное произведение века, вместе соединились дарования мечтателя, ирониста и философа.
С этой точки зрения надо признать, что, будучи существом необычайно сложным, Вилье естественно должен был вызвать самые противоречивые о себе суждения. Он совмещал в себе все. Это был новый Гете, если и менее сознательный, менее совершенный, то зато более резкий и извилистый, более таинственный, более человечный, более нам близкий. Он всегда среди нас, он в нас самих. Он увлекает своим творчеством, своим влиянием, которому с радостью поддались наиболее талантливые из современных писателей и артистов. Это объясняется тем, что Вилье открыл двери в потусторонний мир, захлопнутые с треском (и – помните, – с каким!), и через эти двери целое поколение ринулось к бесконечному. Церковная иерархия называет в числе своих служителей рядом с заклинателями бесов еще и привратников, открывающих доступ к святилищу всех благоволений. Вилье совместил обе эти обязанности: он был заклинателем реального и привратником идеального.
Несмотря на сложность, в нем можно видеть двойной ум: два существенно непохожих друг на друга писателя соединялись в нем – романтик и иронист. Вилье-романтик, автор «Elёn» [31] и «Morgane» [32] , «Akédysséril» [33] и «Axёl» [34] , родился первым и умер последним, Вилье-иронист, автор «Жестоких рассказов» и «Le Tribulat Bonhomet», является промежуточным звеном двух романтических периодов. «Ева Грядущего» заключает в себе как бы смесь этих двух столь различных направлений: книга уничтожающей иронии есть в то же время и книга любви.
Вилье одновременно проявил себя в мечте и иронии. Он иронизировал над своими мечтами, когда жизнь заставляла его с отвращением отвернуться даже от них. Не было человека субъективнее Вилье. Его персонажи созданы частицами его души и вознесены, как в мистерии, до состояния подлинных и цельных существ. Когда ему нужен диалог, он заставляет своих героев произносить философские речи, превосходящие доступное им понимание вещей. В «Axёl» аббатесса говорит об аде так, как сам Вилье мог бы говорить о гегельянстве, последователем которого он был вначале и в котором, на закате дней, находил одни лишь заблуждения. «Все кончено! Дитя испытывает восторг и опьянение ада». Он сам их испытал: он по-бодлеровски любил богохульство за его оккультную действенность, любил безмерный риск наслаждения насчет самого Господа Бога. Святотатство выражается в поступках, богохульство – в словах. Словам он верил больше, чем действительности, которая, в сущности, является только осязаемой тенью слов, так как из простого силлогизма совершенно ясно, что если мысль без слова не существует, то не существует также и материи без мысли. Могущество слова было его суеверием. Так, например, единственные исправления, которые мы видим при сличении первого и второго текста «Axёl», состоят в том, что он придает словам совершенно специальные окончания, невольно вызывающие в воображении монастырскую и церковную среду: proditoire [35] , prémonitoire [36] , satisfactoire [37] и fruition [38] , collaudation [39] . То же чувство мистической мощи, заключающееся в раздельном произношении слогов, заставляет его отыскивать такие странные наименования, как le Desservant de l'ofce des morts [40] , церковная служба, которая никогда и нигде не существовала, за исключением одного только монастыря Св. Аполлодора, или такое сочетание слов, как l'homme-qui-marche-sous-terre [41] , которого нигде, кроме сцен «Нового Мира», встретить нельзя.








