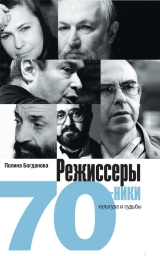
Текст книги "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"
Автор книги: Полина Богданова
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Но в эпоху своего утверждения и расцвета, в эпоху Серебряного века, так ностальгически воспринятую советским режиссером Васильевым, модернизм показал изощренность и красоту художественного творчества, яркую оригинальность и уникальность самой личности художника. Художник-модернист был противопоставлен толпе филистеров и обывателей, его душа сосредотачивала в себе большое внутреннее богатство, его поведение подчинялось свободной воле, его интерпретация реальности исходила из глубин сложной, изощренной художественной психики. Воображение и фантазия заняли место трезвой наблюдательности.
Сначала советская оттепель, а потом деятельность поколения Васильева, Фокина, Левитина стали своего рода реабилитацией модернизма и модернистов. В эпоху оттепели, впервые за несколько десятилетий, вспомнили о великих русских режиссерах, поэтах и писателях. Хотя, конечно, советская оттепель – это бледный оттиск с эпохи модернизма, и оттепель расцветала в духовно обедневшей, обескровленной стране, в которой лучшие представители нации и культуры были уничтожены. Советские интеллигенты в первом поколении типа О. Ефремова и Ю. Любимова не могли обладать тем изощренным художническим вкусом, каким обладали художники Серебряного века.
И все же шестидесятники, как и художники-модернисты, обладали яркой личностной уникальностью. Так же как и художники-модернисты, придавали своему искусству значение художественно-общественного проекта по улучшению жизни. В этом смысле были носителями миссионерского искусства.
Ранее я говорила, что семидесятники уже не стремятся, как шестидесятники, усовершенствовать социализм и вообще не питают никаких социальных иллюзий, их больше волнуют эстетические и художественные идеи. Но стремления А. Васильева к идеалу «человека играющего» – тоже своеобразный культурный проект. Во всяком случае, Васильев – тоже в духе модернизма – понимал искусство как возможность преобразить реальность. Поэтому, стремясь на сцене создать новый тип человека, «человека играющего», он надеялся, что со сцены тот может перейти в жизнь. Своей идее о новом человеке он придавал значение, ни много ни мало, национальное. Когда он говорил о преодолении психологизма в театре, он видел в этом возможность повлиять на человека в жизни, который должен расстаться со своими душевными травмами и комплексами, ошибками и стать человеком свободным, легким, пишущим жизнь как творческое сочинение. Проще говоря, Васильев хотел расстаться в творчестве с советским человеком, не обладающим той духовной высотой, какой должен обладать человек Возрождения.
Режиссеры-семидесятники наследовали главную художественную стратегию искусства дореволюционной поры – субъективизм, примат личностного, авторского восприятия режиссера, власть воображения, фантазии над простой копией действительности.
Все-таки шестидесятники были по большей части представителями объективистского искусства. Для них не было первостепенным их творческое «я», их видение, причудливое и неповторимое. Законы объективной действительности для них были важнее. Проще говоря, в своем творчестве они шли за жизнью. Семидесятники тоже, естественно, переживали реальность, но она пропускалась сквозь личностное восприятие, в результате чего приобретала чисто образное, субъективное выражение. Эту особенность стиля я описывала в своей работе об Анатолии Васильеве «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов: метод и эстетика»2323
Богданова П. Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов: метод и эстетика.
[Закрыть]. Но сейчас хочу сказать, что субъективистские стратегии не в меньшей степени, хотя и иначе выраженные, характерны для таких режиссеров, как Валерий Фокин, Кама Гинкас, Михаил Левитин.
Cубъективизм – тоже одна из главных особенностей авторской режиссуры.
Черты постмодерна
Выраженный антитоталитарный пафос поколения семидесятников определяет их принадлежность к культуре постмодерна. Ибо постмодерн – это отрицание любой тотальности.
Деконструкция метода действенного анализа, произведенная А. Васильевым2424
Там же.
[Закрыть], также говорит о постмодернистском мышлении режиссера. Сюда можно отнести и интерес к подсознательному, отказ от власти разума, признание иррационализма как одного из ведущих механизмов человеческого сознания.
Постмодернизм – это также и культура игры, чему отдали дань А. Васильев и М. Левитин.
Одна из ведущих черт постмодернизма – полистилистика. Это находит свое выражение в спектаклях всех режиссеров поколения семидесятников.
Б. Гройс писал, что современный художник «не производит, а отбирает», приспосабливает к новым условиям и восприятию. Это можно обнаружить во многих постановках 1970—2000-х годов.
Постмодернизм – это и победа над реализмом, обращение к эстетике модерна, становящегося той культурной традицией, которая подвергается рефлексии, переосмыслению, игровым манипуляциям, цитированию в творчестве режиссеров семидесятников.
Вместе с тем постмодернизм – это философия неоконсерватизма, что можно с наглядностью обнаружить и в творчестве А. Васильева, и в творчестве В. Фокина.
Однако режиссеров поколения семидесятников нельзя целиком и полностью отнести к культуре постмодернизма. Эти режиссеры соединяют в себе черты модернизма и постмодернизма, о чем более подробно поговорим впоследствии.
Политика и культура
Поколению режиссеров, о которых идет речь в этой книге, присущ пафос защиты культуры. Культура интересует их значительно больше, чем политика. К последней режиссеры, вступившие в профессию на рубеже 70-х годов, часто относятся индифферентно. Вот высказывание Льва Додина по этому поводу: «Часто содержание политическое в “Бесах” ставят выше человеческого смысла, а политика – это всего лишь часть жизни человеческой»2525
Додин Л. Репетиция спектакля «Бесы» // Додин Л. Путешествие без конца. С. 13.
[Закрыть]. Или такое: «Художник должен пытаться говорить правду – именно как художник. Художник должен любить и не может ненавидеть. Это главное, потому, мне кажется, не надо требовать от человека искусства участия в лозунговой, митинговой стихии. Он начнет орать и сорвет голос, а ведь он должен брать верные ноты»2626
Лев Додин: многое вызывает тревогу. Интервью Д. Целикина // Деловой Петербург. 2012. 13 авг. // http://www.dp.ru/101nd1/
[Закрыть].
А. Васильев в своем творчестве еще в большей степени игнорировал политическую конъюнктуру. Его внимание всецело занимали проблемы культуры. Это нашло отражение, в частности, в спектакле «Серсо».
М. Левитин в своем творчестве тоже шел главным образом от культурных переживаний, защищая культурную традицию авангарда, уничтоженного в период сталинизма.
Запад как обетование
Надо сказать, что большую роль в утверждении своего стиля и языка для режиссеров-семидесятников сыграло западное искусство, сквозь призму которого семидесятники восприняли и русский модернизм. Западное искусство в Советском Союзе впервые продемонстрировало себя на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году, затем на американской национальной выставке 1959 года, выставке Пикассо в начале 60-х. «Парадоксальность ситуации заключается в том, что культурная экспансия Запада представила русской общественности официальный модернизм, к 60-м годам уже музеизированный и ставший знаменем западной демократии»2727
Жигалов А. Изменения в художественном сознании на неофициальной сцене. С. 209.
[Закрыть]. Интересно также и то, что уроки западной демократии в большей степени восприняло именно поколение семидесятников. Некоторые из них впрямую и непосредственно учились у западного искусства, как учился Анатолий Васильев у западного кинематографа или Кама Гинкас у польского театра, который тогда, в 70-е годы, воспринимался в большей степени как западный. С западным театром устанавливал тесные контакты и Валерий Фокин уже в 90-е годы.
Искусствовед А. Жигалов видит в восприятии Серебряного века, равно как и западного искусства, проявление «общенационального инфантилизма страны, пребывающей в детском раю победившего социализма». «Все взоры, естественно, обращаются к Другому как воплощению некоррумпированной Истины и Справедливости. Земля обетованная – русская культура, особенно Серебряный век и Запад»2828
Там же. С. 208.
[Закрыть], – пишет он. Эти два материка, русская дореволюционная и западная культура, являются воплощением обетования и в постсоветской действительности. И этот инфантилизм, если принять такой диагноз, будет свойственен России до тех пор, пока она не обретет свою собственную национальную идентичность.
В свете сказанного стоит заметить, что Анатолий Васильев России предпочитает Запад, куда он уезжал в свое «добровольное изгнание» в конце первого десятилетия ХХI века. Таков путь бывшего советского полуизгоя, не признаваемого официальной московской властью, который предпочел «изгнанничество» построссийской карьере. На Западе Васильев, очевидно, нашел ту профессиональную среду, которая в большей степени способствовала его творческой реализации. С другой стороны, тут крылся и комплекс «безотцовщины», проявляющийся в негативном отношении к родным берегам.
Ансамблевость, театр-дом
Что еще является отличительной особенностью искусства семидесятников? Выдвижение на первый план актера, ансамблевая природа игры.
Лев Додин работает в русле психологической школы. В русле этой школы, воспринятой от Марии Кнебель, в первом периоде своего творчества, до «Школы драматического искусства», работал Анатолий Васильев. Но и уйдя от психологического театра в область экспериментов с игровой эстетикой, Васильев не отказался от главного в системе Станиславского – от живого актера и от того, о чем говорил Станиславский: «…переживаемое чувство передается не только видимыми, но и неуловимыми средствами и путями и непосредственно из души в душу»2929
Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1957. Т. 4. С. 183.
[Закрыть].
Эта же игра «из души в душу» сплотила и додинских актеров, создавших уникальный ансамбль, второго такого сегодня уже нет.
Вообще ансамблевое искусство, идущее от К. Станиславского и МХТ, воспринятое и старшим поколением шестидесятников, создавших уникальные ансамбли в своих театрах, – одно из базовых понятий и в эстетике семидесятников. Анатолий Васильев уже в начале второго десятилетия ХХI века, уехав из России в «добровольное изгнание», так объяснил главную причину своего отъезда: «одна из причин моего добровольного изгнания – это разрушение ансамблевой природы российского театра» (так называется интервью Анатолия Васильева, опубликованное во французском театральном сборнике)3030
La communautre impossible ou la derniere de mon exil volontaire // Creer, ensemble. Sous la direction de Marie-Christine Autant-Mathieu. L’entretemps. P. 435—448.
[Закрыть].
Ансамблевость потому является базовым понятием в работе режиссуры, что в ней проявляются главные принципы взаимодействия режиссера с актерами, принципы самого актерского творчества, взаимоотношений актеров в ролях, стиль репетиций и многое другое. Не случайно ансамблевый театр всегда был связан с длительным репетиционным периодом. Лев Додин, к примеру, репетировал свои спектакли 80—90-х годов по несколько лет. Анатолий Васильев работал над «Серсо» два года. Углубленная работа актера с образом, постижение роли изнутри, усложненные методологические задачи – весь этот комплекс серьезного основательного театра, в котором важнее процесс, а не результат, с 90-х годов начал постепенно уходить из практики режиссуры. Стал утверждаться стиль быстрой – фастфуд – работы, рассчитанной именно на результат. Эти тенденции связаны с коммерциализацией театра, с эрой потребления, когда искусство из душевной и духовной потребности перешло в разряд потребительских услуг, развлечения, отдыха.
Театр-дом, наличие своей труппы характеризуют работу коллектива и Льва Додина, и Михаила Левитина, и Валерия Фокина последнего периода Александринского театра, и Генриетты Яновской. У Анатолия Васильева было несколько своих коллективов в разные периоды деятельности.
Но с 90-х годов появился стиль работы со звездой. Это уже примета изменившегося театрального мышления, более свободной позиции режиссера, который имеет возможность приглашать исполнителя со стороны, и некоторое ослабление «крепостной зависимости». С другой стороны, в постоянном коллективе происходит и рост актеров, ведется так называемая воспитательная работа, больше внимания уделяется развитию профессиональных качеств члена труппы.
Интересно, что режиссеры поколения, о котором идет речь в этой книге, работали в разные периоды с таким актером, как Виктор Гвоздицкий. Сначала он сыграл роли у К. Гинкаса в спектаклях «Пушкин и Натали», «Человеке из подполья», почти десять лет работал в «Эрмитаже» с Михаилом Левитиным, в 90-е годы участвовал в спектакле Валерия Фокина «Арто и его двойник», через десятилетие – в его «Двойнике» в Александринском театре, репетировал Подколесина в «Женитьбе». Но умер, не сыграв этой роли, в 2007 году.
Виктор Гвоздицкий был актером острой формы, ему был подвластен несколько гротесковый игровой стиль. Кроме того, Гвоздицкий нес в себе дух романтического индивидуализма, подвижничества в творчестве, повышенной требовательности к себе, полной отдачи в профессии, а вместе с тем невозможность сродниться и срастись с каким-то коллективом. Он всегда – отдельно, даже внутри какого-то спектакля. Играл инфернальные образы, в сложных жанрах, с острой подачей, некоторой бравадой уверенного в себе профессионала и вместе с тем кроткой преданностью послушного ученика.
Гвоздицкий был не из разряда звезд, как О. Меньшиков или Е. Миронов. Гвоздицкий скорее был просто ищущим актером, которому хотелось попробовать свои силы с режиссерами разной индивидуальности, открыть в себе что-то новое. И совсем не случайно он сотрудничал именно с семидесятниками, которые тоже искали новизну и стремились наиболее полно реализовать в творчестве свою индивидуальность.
Перестройка
В начале своей творческой биографии семидесятники переживали невзгоды. На работу в театры было попасть нелегко. Нелегко было и получить постановку. Все места были заняты. Старшее поколение зорко охраняло свои цитадели от чужой творческой воли. Кама Гинкас в Ленинграде долго существовал на положении изгоя, его учитель Товстоногов не спешил давать ему работу. Генриетта Яновская, его сокурсница и жена, как женщина более терпимая, ставила в самом маленьком, непрестижном театре на ул. Рубинштейна. Там же начинал и Лев Додин. Они шли с окраин, пробиваясь к центру, но центр был окружен неприступной стеной, и попасть в него было не так просто.
Олег Ефремов сделал для ленинградцев важный шаг – пустил во МХАТ, которому не хватало своих идей и репертуара. Там на малой сцене появился Кама Гинкас с пьесой Н. Павловой «Вагончик», большой спектакль «Господа Головлевы» поставил Лев Додин.
Настоящий прорыв произошел только в перестройку, когда этому поколению режиссеров дали наконец свои театры. Михаил Левитин стал сначала главным режиссером, а потом и художественным руководителем Театра миниатюр, который он переименовал в театр «Эрмитаж», Анатолию Васильеву с его актерами предоставили помещение на Поварской улице, где они открыли «Школу драматического искусства». Несколько раньше Малый драматический театр на ул. Рубинштейна в Ленинграде получил Лев Додин. Генриетта Яновская с Камой Гинкасом пришли в московский ТЮЗ (она – в качестве главного режиссера, он – режиссера на постановки). Валерий Фокин самостоятельно осуществил сложный коммерческий проект, построив здание Центра Мейерхольда в Москве. А позднее, уже в 2000-х годах, возглавил Александринский театр в Петербурге.
Крах советской системы способствовал открытию границ между государствами. Театры Васильева, Додина, Гинкаса, Фокина, Левитина стали выезжать на зарубежные гастроли. Режиссеры получили многие престижные европейские премии. Театр Льва Додина стал Театром Европы. Признание заслуг режиссеров-семидесятников за рубежом значительно превзошло признание режиссеров предыдущего поколения. И А. Эфрос, и Г. Товстоногов, и Ю. Любимов много ставили в странах Европы и Америки. Но столь престижных премий, как Высшая театральная премия Европы «Европа – театру», присужденная Льву Додину, или «Новая театральная реальность», присужденная Анатолию Васильеву, не получили ни Эфрос, ни Товстоногов, ни даже Любимов, проведший за границей довольно значительный срок в период своей политической эмиграции. Правда, в дела награждения российских режиссеров, разумеется, вмешалась и политика. Западные деятели искусства стали присуждать награды российским режиссерам еще и потому, что Россия отказалась от социализма и получила шанс стать свободной демократической страной.
Позиции серьезного театра
Семидесятники, как и их старшие коллеги, работают во имя серьезного и содержательного искусства. Решают кардинальные вопросы человеческого существования, обращаются к большой литературе и погружаются в нее глубоко, ища в ней источник глубоких смыслов. И тоже рассматривают искусство как средоточие актуальных идей, только другого толка, чем идеи шестидесятников.
Еще в начале своего творческого пути семидесятники, особенно те из них, кто всерьез озабочен художественными проблемами, стали работать на более искушенного в художественных проблемах зрителя. Можно сказать, что они сузили возможности восприятия своего искусства, а можно сказать – углубили по сравнению со старшим поколением. Васильевский спектакль «Первый вариант “Вассы Железновой”» был ориентирован на образованного и тонко воспринимающего искусство зрителя. Гинкас тоже искал углубленный контакт с публикой, пусть и не столь многочисленной. Додин как будто всегда прекрасно чувствовал себя в своем маленьком театре на ул. Рубинштейна. На зарубежных гастролях его спектакли между тем шли и на больших сценах со значительным количеством публики. Я, правда, не видела там эти спектакли и не могу сказать, как это выглядит, ведь все-таки они рассчитаны на восприятие более интимное, глаза в глаза.
Семидесятники – последнее в истории ХХ—ХХI веков крупное поколение художников, проникнутых миссионерским сознанием, испытывающим недоверие и презрение к легкому искусству, к искусству как светскому удовольствию или грубому развлечению. Они стоят за искусство со смыслом, отвечающее на коренные вопросы человеческого существования. Они – за театр сложный, возможно, труднодоступный. За театр, анализирующий жизнь, исследующий духовные процессы общества, открывающий душу человека, погружающийся в тайники его сознания.
Эти режиссеры – не такие значительные общественно и политически ангажированные фигуры, как Юрий Любимов, Олег Ефремов или Георгий Товстоногов. Семидесятники в большей степени просто художники, которым удалось высказаться от собственного имени, что совсем не мало. Их имена со временем стали звучать громко и значимо, как имена больших режиссеров, создателей авторских театров ХХ—ХХI веков.
Новые сорокалетние
Только в 90-е годы, уже после перестройки, искусство и культура перестанут обладать тем влиянием и весом, каким они обладали практически на всем протяжении советской истории. И, что самое главное, искусство утратит свое идеологическое значение, вернувшись к самому себе. Художник тоже перестанет быть идеологом жизни и станет просто художником, субъектом своей среды, выразителем ее художественных, а не идеологических интересов и предпочтений. Общественный статус художника понизится, он перестанет претендовать на роль общественного лидера. С другой стороны, искусство будет подвержено коммерческому влиянию и перейдет в разряд развлекательной формы досуга. Исчезнувший еще в 90-е театральный центр, разрушенные старые цитадели типа БДТ в Ленинграде или Таганки в Москве приведут театральную среду к расслоению. И отныне режиссер будет связан только со своим зрителем. Настанет время зрелого постмодерна. Одной-единственной истины не будет, будет множество разных голосов и истин.
Возникнут третье и четвертое поколения режиссуры. Кто-то будет продолжать заниматься экзистенциальным театром, как Миндаугас Карбаускис. Кто-то станет претендовать на роль ниспровергателя жизненных, культурных и духовных стереотипов, как Константин Богомолов 90-е и 2000-е годы продолжат интерес к закрытому лабораторному эксперименту, им займется такой режиссер новой генерации, как Николай Рощин.
Вообще сегодня, в середине второго десятилетия ХХI века, успешно заявило о себе поколение сорокалетних режиссеров. Это тот же Карбаускис, Богомолов, Серебренников, Вырыпаев, Рощин… Сорок лет – пик творческой зрелости. Именно в этот период поколение семидесятников выпустило свои самые громкие театральные работы. Тема сорокалетних вообще активно обсуждалась в 80-е годы. Подойдя к сорокалетнему возрасту, Валерий Фокин начал свои активные шаги по реорганизации театрального дела в Театре Ермоловой. В сорок два года Анатолий Васильев приступил к репетициям «Серсо» и поначалу хотел дать характерное название спектаклю «Мне сорок лет, но я молодо выгляжу».
Сегодняшние сорокалетние демонстрируют новый подход к творчеству и профессии. С одной стороны, можно наблюдать, что личность режиссера как будто утеряла былой вес. С другой стороны, она приобрела неожиданные качества и свойства. Если поколение семидесятников создавало свои художественные миры, объемные и целостные, которые погружают зрителя внутрь себя, подчиняют его и провозглашают свою тотальную власть над ним, то режиссеры новой генерации уже не претендуют на тотальную власть над публикой. Они часто, как К. Богомолов, избегают прямого высказывания и закрываются иронией, предоставляя публике свободу в выборе позиции. Они избегают экстатического напряжения в служении своей театральной вере и вообще как будто не склонны рассматривать свое творчество как средство спасения от несовершенств мира, не собираются выдавать рецепты и рекомендации, как жить. Они склонны скорее принять этот мир и утверждать ценности своего личного независимого «я» или своей обычной человеческой жизни, которая в своей значимости для них самих отнюдь не уступает творчеству. «Главный источник моей надежды в жизни – не работа, не творчество. На первом месте моя дочь», – признается в одном из интервью К. Богомолов, создавая имидж художника, легко относящегося к профессии и не делающего из нее главной ставки в жизни. Такого заявления не сделал бы семидесятник. Для многих из них творчество – это главный источник личностного самоутверждения. Нынешние сорокалетние к самим себе как художникам тоже относятся с долей иронии, утверждая относительность всякого притязания на избранность. Эта поза сегодня уже выглядит неубедительно. Новые сорокалетние человечески и творчески более свободны, чем старшее поколение режиссеров. И можно сказать – более «нормальны». Они прошли этап становления в более свободной стране, чем семидесятники. И поэтому на их личности не наложила отпечаток уродливая социальная реальность. Поэтому они не испытывают и комплекса изгойства. Но, с другой стороны, они тоже должны стремиться к признанию и добиваться этого признания, тратя на это большие запасы энергии и сил.
Если в 70-е годы молодой Валерий Фокин удивлял поражающей искренностью в спектакле по Достоевскому с молодым Константином Райкиным, то сегодня такой театральный режиссер, как К. Богомолов, призван удивлять отстраненностью игровой позиции, которая допускает все, и в большей степени – стеб, иронию, вплоть до как будто недопустимых издевательств над тем, к чему мы привыкли относиться с почтением и даже и что мы привыкли даже заносить в разряд святынь. Но сегодняшний режиссер бравирует своей смелостью и не боится упреков в святотатстве, не идет на поводу у сантиментов, ложных авторитетов и насаждаемых культурой и моралью ценностей. Он сознательно идет на провокации, пускает в ход шоковые приемы. Эти провокации – намеренная и увлекательная игра в постмодернистском культурном поле.
Новые режиссеры окончательно эмансипировались от политики и социума. Но единственное, от чего они не могут освободиться, – это художественный рынок, новое образование, возникшее в 90-е годы.
В обществе потребления все искусство, в том числе и театральное, превратилось в товар и начало «продаваться», получая ту или иную стоимость в зависимости не столько от своего художественного качества, сколько от уровня запросов той или иной зрительской аудитории. Поэтому театр в гораздо большей степени, чем прежде, ориентирован именно на спрос, на вкусы той или иной категории публики. Режиссер, утеряв роль общественного лидера, поднимающего в своих спектаклях «темы дня», затрагивающие интересы передовой публики (или того, что от нее осталось), тоже превратится в товар, которому зритель назначает цену.
В общем, эпоха потребления кардинально изменила и поставила режиссера в новую зависимость, которой не знали предыдущие поколения, те зависели от власти, цензуры, диктата идеологии. Новые режиссеры зависят от денег. Деньги надо или заработать, или получить от спонсора. Первый путь ставит перед режиссерами задачу удовлетворять запросы публики, пусть даже не слишком высокие. Второй более предпочтителен, дело только в том, чтобы найти нужного спонсора. Сегодня подлинное искусство могут поддержать только образованные в художественном отношении меценаты. Государство все меньше и меньше заинтересовано в успехах искусства. Искусство перестает служить целям государственной политики, как это было в эпоху Сталина и последующие советские десятилетий. И со временем окончательно превратится в частную инициативу самих творцов. Похоже на то, что в ощутимом будущем собственно государственными останутся три-четыре драматических театра типа Малого или Александринского. От прочих государство уже сейчас готово отказаться. В этом отношении мы как будто тоже возвращаемся в дореволюционные времена, в ту буржуазную Россию, когда новые театры возникали от инициативы «снизу» и поддерживались частными деньгами и меценатами, как Художественный театр, детище двух независимых энтузиастов, Станиславского и Немировича-Данченко.








