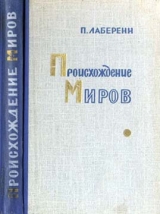
Текст книги "Происхождение миров"
Автор книги: Поль Лаберенн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Поль Лаберенн
Происхождение миров
От редакции
Книга «Происхождение миров» принадлежит перу прогрессивного французского ученого, математика и астронома, профессора Поля Лаберенна.
Поль Лаберенн родился в 1902 г. в г. Орлеане. Он работает в Школе физики и химии, откуда вышли Поль Ланжевен и Фредерик Жолио-Кюри. Он один из тех замечательных французских интеллигентов, какими являются выдающиеся ученые, художники и писатели – мужественные хранители свободолюбивых традиций французского народа. До войны Поль Лаберенн сотрудничал в издании сборника «A la lumiere du marxisme», органа Academie materialiste, возглавлявшейся П. Ланжевеном. Во время войны гитлеровцы заключили Поля Лаберенна, участвовавшего в движении Сопротивления, в концентрационный лагерь в Германии. В настоящее время П. Лаберенн является членом редакционной коллегии прогрессивного научного журнала «La pensee».
Начиная с 1932 г., в течение ряда лет Поль Лаберенн читал курс лекций в парижском Рабочем университете. Из этого курса и возникла настоящая книга. Она вышла во Франции в трех изданиях: в 1936, 1947 и 1953 гг. О ее популярности свидетельствуют многочисленные переводы: в Чехословакии (по-чешски и по-словацки), в Румынии, Польше, Венгрии, Германской Демократической Республике, Италии, Аргентине, на Кубе и в Греции.
Мы убеждены, что советский читатель не только найдет в книге П. Лаберенна много интересного материала, который расширит его кругозор, но и с волнением прочитает книгу ученого капиталистической страны, сумевшего столь правдиво, доходчиво и мужественно изложить истину.
Перевод сделан с третьего французского издания, пересмотренного автором. Цитаты из произведений Ф. Энгельса и В. И. Ленина даются по изданиям Госполитиздата. Цитаты из других произведений приводятся по французским изданиям.
Предисловие автора к русскому изданию
Для меня является большой честью возможность представить советскому читателю мою книгу «Происхождение миров», и я прежде всего хотел бы поблагодарить тех, чьими усилиями это стало возможным: проф. Э. Кольмана, рекомендовавшего в своей рецензии в «Природе» издать эту книгу в русском переводе, и самого переводчика ее Ю. А. Рябова, приложившего столько заботы для осуществления перевода.
Эта благодарность вовсе не представляется делом простой вежливости. Она кажется мне необходимой потому, что оба названных лица своими замечаниями и критикой дали мне возможность заполнить пробелы, избежать неясностей и неточностей, одним словом, существенно улучшить качество многих страниц этого сочинения. Эти улучшения окажутся полезными и для последующих французских изданий.
Таким путем для меня с этой книгой, которую я имел в виду написать как в части космологической, так и в части исторической в свете марксистской философии, наладилось сотрудничество, пусть лишь ограниченное, но тем не менее весьма плодотворное, с советскими научными работниками.
Я горячо желаю, чтобы подобное сотрудничество множилось и углублялось между научными работниками наших обеих стран. Во Франции существуют в области науки славные прогрессивные традиции, благодаря которым наши ученые, быть может, в большей степени, чем ученые других пока еще капиталистических стран, чувствуют себя близкими своим советским коллегам в их благородном идеале. Так же как и они, наши прогрессивные ученые хотят поставить науку на службу человеку, чтобы сделать его «хозяином и властелином природы», согласно изречению их знаменитого предка Рене Декарта. Так же как советские ученые, они желают, чтобы громадные возможности, предоставленные человечеству современной атомистикой, отныне служили миру и никогда больше военным прибылям. Наконец, как и они, наши прогрессивные ученые хотят, чтобы мирное сосуществование не было больше лишь словом, а стало бы конкретной реальностью, дающей возможность различным народам Земли подняться, идя своим собственным путем, подобно тому, как это сделали народы Советского Союза, к обществу, все более и более совершенствующемуся, к будущему, все более и более счастливому.
Париж, 19 мая 1956 г.
Поль Лаберенн
Первая часть
Философское и астрономическое введение
Глава I
Сущность и значение космогонии
Уже с глубокой древности человечество ставило перед собой проблему происхождения вселенной. Наиболее древние мифы, наиболее давние священные религиозные сказания всегда начинаются с рассказа о сотворении мира, и, пожалуй, один из первых вопросов, с которым первобытный человек обратился к самому себе, как только у него появился досуг для того, чтобы отдаться мыслям о своей судьбе, был вопрос о «начале» той природы, среди которой он жил.
Прошли века и объяснения, придуманные нашими далекими предками, нам кажутся сегодня по-детски наивными. Знакомясь с ними, мы испытываем такое чувство, словно перелистываем записи о давно исчезнувшем мире поэтических и немного смешных детских воспоминаний. Проблемами, которые привлекали внимание уже первых людей, смогла заняться наука, выдержав, правда, перед этим тяжелые битвы. Но вместе с уточнением этих проблем расширялся и круг вопросов, охватываемых ими. Доказательством этого может служить эволюция самого смысла слова «космогония», которым еще с давних времен называли исследования, относящиеся к «началу мира». По своему первоначальному смыслу это слово должно прилагаться только к теориям, касающимся рождения мира, и именно так оно воспринималось первоначально.
Однако в настоящее время его применяют в гораздо более широком смысле, понимая под космогонией ту ветвь науки, которая занимается вопросами происхождения, конца, а также возрождения различных небесных тел и различных миров. Короче говоря, космогония стала наукой о развитии вселенной и отдельных ее объектов. Она больше не спрашивает о том, как родился мир,[1]1
Во избежание недоразумений уточним смысл некоторых понятий. Мир и вселенная – это эквивалентные понятия, под которыми подразумевается вся природа в целом. Напротив, мы скажем, что различные планетные системы, аналогичные нашей, образуют различные миры. Точно так же различные спиральные туманности, звездные системы, аналогичные нашей Галактике, рассматривались иногда как вселенные.
Добавим еще, что под космологией мы понимаем учение о вселенной, рассматриваемой как единое целое. Всякие космологические представления включают в себя, очевидно, соответствующие космогонические теории. Однако подобные исследования как раз в той части, где они относятся ко всей вселенной (известным и неизвестным ее областям), необходимо сопровождать, как мы увидим в гл. VIII, особыми оговорками.
[Закрыть] но интересуется тем, существовали ли и будут ли существовать вечно Земля, Солнце, звезды, могут ли различные миры умереть, может ли вещество полностью исчезнуть, рассеявшись, например, в форме излучения, и является ли это рассеяние окончательным или за ним должен последовать в дальнейшем процесс обратного превращения излучения в вещество и т. д.
Подобные проблемы интересуют большинство наших современников и горячо обсуждаются не только в наиболее образованных кругах, но также и пролетариатом, вернее, наиболее сознательной и наиболее склонной к отвлеченному мышлению частью пролетариата. Этот факт заслуживает особого внимания. Некоторые религиозные умы желают увидеть в этом «тоску по божественному», якобы захватывающую даже наиболее образованных и наиболее революционно настроенных рабочих.
Чтобы объяснить такое странное истолкование, следует сказать, что эти религиозные умы попросту отождествляют марксизм с грубым «потребительским материализмом». Они не могут поэтому понять, какой интерес может представлять для марксиста космогония сама по себе (даже вне антирелигиозной борьбы), поскольку эта наука как будто не может иметь никакого практического применения и не может содействовать улучшению материального положения людей, по крайней мере, в течение будущих миллионов и даже миллиардов лет. Поэтому не будет бесполезным сказать несколько слов по поводу этого курьезного утверждения и уточнить, почему марксисты, начиная с Энгельса, всегда интересовались вопросом о происхождении миров.
Следует сначала вспомнить, что материализм Маркса и Ленина не имеет ничего общего с грубым эгоистичным стремлением к материальным благам жизни, с которым хулители материализма (очень часто не знакомые с ним) его смешивают. Следует также напомнить, что марксисты вскрыли многочисленные связи между наукой и обществом. Они выявили, что в конечном итоге наука зависит от экономических условий общества. Однако вместе с тем марксисты всегда рассматривают науку как нечто целое, живущее в известной мере своей собственной жизнью. Они считают, что ее теоретический прогресс может опередить тот уровень техники, которым она была первоначально обусловлена. Пятилетние планы Советского Союза предусматривают в отношении развития науки весьма значительную часть исследований, не имеющих непосредственного практического приложения, т. е. таких, которые в наших капиталистических странах назвали бы исследованиями в области «чистой науки» и которые в СССР называют гораздо более справедливо «теоретическими резервами техники будущего».
Проблемы, поднимаемые космогонией, весьма сложны и ставят ученых перед необходимостью сопоставлять и синтезировать различные теории, основанные на изучении весьма различных явлений природы. Поэтому они играют значительную роль в развитии науки и, следовательно, служат целям все большего подчинения сил природы человеку.[2]2
Например, прогресс ядерной физики, несомненно, тесно связан с изучением проблемы внутренних источников энергии звезд.
[Закрыть]
Но существует и другая точка зрения, которая также интересует марксиста. Для него космогония имеет примерно то же самое значение в мировом масштабе, что и биология в масштабе человеческой жизни, Можно думать, что биология позволит когда-нибудь направлять эволюцию человека и, возможно, даже создать новые существа или победить смерть. Космогония позволяет в какой-то мере предугадать будущее, которое выпадет на долю человеческого рода в результате возможных будущих потрясений во вселенной. Новый гуманизм, формирующийся в СССР и в странах, строящих у себя социализм, не обращен наполовину лицом к прошлому, как это было в эпоху Возрождения, но открыто смотрит в будущее. Это – гуманизм пародов, которые вполне осознают могущество своего разума и величие своей судьбы. Эти народы уже создают «теоретические резервы» будущего, и они сумеют их использовать для окончательного подчинения человеку сил природы на нашей планете. Но они могут заглянуть более далеко и подумать – не усматривая, конечно, непосредственно практического решения – о проблемах, которые встанут позднее, когда Земля станет – непригодной для жизни и когда люди будут принуждены покинуть ее и отправиться на завоевание вселенной.
И вот этот широкий горизонт, эти перспективы не только в международном, но и в космическом масштабе, которые маячат как перед советскими людьми, так и перед наиболее передовой частью западного пролетариата, некоторые религиозные умы принимают за скрытое проявление «тоски по божественному»! У современной буржуазии подобные взгляды вызывают – за все более и более редкими исключениями, – лишь выражение презрительной жалости или оскорбительную насмешку. Это значит, что буржуазия испытывает сегодня страх перед наукой, которую она создала вчера, что буржуазия, оставив перед лицом революционного подъема пролетариата свою былую роль прогрессивного класса, полностью перестала интересоваться будущим человечества и предпочитает искать утешения в традиционных наставлениях церкви или ловких софизмах идеалистической философии. Это попятное движение приняло такие размеры, что в нем принимают участие даже многочисленные ученые. И в эпоху, когда параллельно с громадным развитием техники необычайно быстро и во всех областях прогрессирует человеческое знание, некоторые ученые на Западе начинают утверждать, что весь этот прогресс не представляет собой ничего особенного, что наши знания никогда не превзойдут известных границ и что подлинная реальность всегда будет ускользать от нас, если мы не будем ее искать вне науки, без помощи нашего разума.
С этими признаниями, в которых отражаются сомнение и бессилие, чаще всего приходится встречаться тогда, когда речь идет о наиболее широких проблемах, которые стоят перед наукой, как, например, проблема происхождения человека и, особенно, проблема происхождения миров. Мы оказываемся здесь на традиционном поле битвы между наукой и религией, между материализмом и идеализмом, причем существо борьбы в настоящее время осталось таким же, как и прежде. «Высший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе, имеет свои корни, стало быть, не в меньшей степени, чем всякая религия, в ограниченных и невежественных представлениях людей периода дикости. Но он мог быть со всей резкостью поставлен, мог приобрести все свое значение лишь после того, как европейское человечество пробудилось от долгой зимней спячки христианского средневековья. Вопрос об отношении мышления к бытию, – о том что является первичным: дух или природа, – этот вопрос, игравший, впрочем, большую роль и в средневековой схоластике, на зло церкви принял более острую форму: создан ли мир богом или он существует от века?
Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и которые, следовательно, в конечном счете, так или иначе признавали сотворение мира, – а у философов, например у Гегеля, сотворение мира принимает нередко еще более запутанный и нелепый вид, чем в христианстве, – составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма».[3]3
Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии, Госполитиздат, 1951, стр. 16.
[Закрыть]
Эта последняя сторона космогонической проблемы представляет собой еще один источник интереса для марксистов. Можно даже сказать, что неоднократно, как в древности, так и в современную эпоху, история этой проблемы очень верно отражала не только уровень научных знаний, но и борьбу классов своего времени. В эпохи, когда новые прогрессивные классы решительно вели наступление на классы, стоящие у власти, они совсем не боялись подорвать самые основы религии, отрицая все божественное и необходимость «первопричины» вселенной. Тогда вопрос о происхождении миров ставился правильно с научной точки зрения, но слабое развитие науки не позволило дать научно обоснованных объяснений даже в отношении происхождения планет. В другие века, когда наука развивалась очень быстро, влияние религии, – несмотря на то, что оно уже частично ослабло, – мешало тому, чтобы ученые стали заниматься непосредственно этими проблемами. Даже сегодня некоторые ученые при разработке своих гипотез находятся в шорах идеализма и поворачивают обратно в тот момент, когда они должны идти вперед.
Следует, впрочем, признать, что сама природа проблемы допускает подобные увертки. Космогония далеко не является наукой, результаты которой имеют характер полной уверенности. По мере того, как мы удаляемся от нашей Земли или от настоящей эпохи, в гипотезах все более и более значительную роль приобретает фактор вероятности. Когда мы имеем дело с подобными проблемами, мы не можем, конечно, «экспериментировать», а должны довольствоваться тем, что можем «наблюдать», сравнивать данные наблюдений и выяснять, приводят ли различные теории к согласованным результатам.
Все это показывает, что по сравнению со всеми науками космогония является, возможно, наиболее сложной и наиболее недостоверной, наиболее дерзкой и дающей наибольший простор для дискуссий и что она требует наиболее тонкого в известном смысле изложения. Почти невозможно составить представление о современной космогонии, если мы не будем знать о самых последних открытиях в астрономии (они изложены вкратце в следующей главе). Но для того, чтобы можно было следить за борьбой противоположных тенденций в настоящее время и понять истинные причины сопротивления, встречающегося на пути развития космогонии, в равной мере очень полезно изучить ее прогресс или се неудачи не только с точки зрения логического развития ее научных концепций, но и с исторической точки зрения.
Мы постараемся это сделать на ближайших страницах. Мы проследим эволюцию проблемы о происхождении миров от наивных преданий древности до научных теорий современных ученых, от «крючковатых» атомов Демокрита до теории Шмидта о происхождении солнечной системы. «Неуверенное» на наших глазах постепенно превратится в «вероятное» и даже «достоверное»; соблазнительные гипотезы, подобные гипотезе Лапласа, рухнут под напором критики, чтобы уступить место более солидным теориям. Излагая открытие за открытием, мы придем к современной эпохе, когда возраст Земли уже можно считать известным, когда можно изучать процессы, поддерживающие энергию излучения звезд, и получать сведения о путях звездной эволюции, когда, наконец, мы начинаем получать сведения о превращениях вещества в излучение и излучения в вещество. Мы почувствуем, несмотря на несовершенство гипотез, что решение наиболее общих проблем о непрерывном возрождении миров близко как никогда, и мы только будем сожалеть о тех колебаниях, скажем даже, изменах, к которым приводят многих ученых их с виду научные, но по существу антинаучные соображения.
Глава II
Обзор основных данных о строении вселенной
I. Солнце и солнечная системаВ настоящее время каждому известно, что Земля, на которой мы живем, входит в состав целой системы планет. В центре этой системы находится звезда – Солнце. Вокруг этой звезды обращаются следующие планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон (названия приведены в порядке возрастания расстояний от Солнца). Последняя планета, Плутон, наиболее удаленная от Солнца и пока еще наиболее плохо изученная, была открыта в 1930 г. Вокруг большинства планет движутся небольшие небесные тела, называемые спутниками планет. Например, Луна есть спутник Земли. Спутники движутся вокруг своих планет аналогично тому, как сами планеты движутся вокруг Солнца. К большим планетам, которые мы только что перечислили, следует добавить небесные тела, называемые малыми планетами или астероидами. По своим размерам астероиды гораздо меньше Земли. Их число очень велико (в настоящее время известно около 2000). Что касается расстояний астероидов от Солнца, то их, за редким исключением, следовало бы все поместить в приведенном выше списке планет между Марсом и Юпитером. К солнечной системе следует отнести также небесные тела, весьма отличные от планет по своему физическому строению и носящие название комет.[4]4
К солнечной системе принадлежат также метеорные тела. (Прим. ред.)
[Закрыть]

Рис. 1. Вид участка лунной поверхности. Отчетливо заметны цирки или кратеры
С точки зрения космогонии интересны следующие особенности солнечной системы:
1. Все небесные тела солнечной системы – за исключением комет – имеют почти сферическую форму.[5]5
Многие мелкие астероиды имеют, по-видимому, неправильную обломочную форму. (Перев.)
[Закрыть] Согласно имеющимся данным, эти небесные тела не состоят из других химических элементов, отличных от тех, какие имеются у нас на Земле.
2. Центры различных планет остаются все время в неизменных плоскостях, проходящих через центр Солнца. Эти плоскости располагаются весьма близко друг к другу. В целях простоты изложения мы будем в дальнейшем предполагать, что все эти плоскости совпадают с плоскостью, в которой движется центр Земли и которая называется плоскостью эклиптики. Кривые, описываемые центрами планет в этой плоскости, представляют собой эллипсы] однако эти эллипсы очень мало вытянуты и, следовательно, очень мало отличаются от окружностей (исключение составляют эллиптические пути некоторых малых планет). Таким образом, если мы вырежем на доске вдоль ряда концентрических окружностей канавки, поместим в центр этих окружностей шарик, и пустим катиться по нашим канавкам шарики гораздо меньших размеров, то мы получим приблизительное представление о расположении планет в их движении вокруг Солнца. Если мы захотим оживить нашу модель с целью копировать настоящие движения планет, то обнаружится исключительно важный факт: необходимо заставить катиться все шарики, представляющие планеты, в одном и том же направлении вокруг центра. Действительно, все планеты обращаются вокруг Солнца в одном и том же направлении.
3. Каждая планета вращается вокруг оси, проходящей через ее центр. Направления осей вращения планет в общем мало отличаются от направления перпендикуляра к плоскости эклиптики, и, кроме того, все планеты вращаются в одну и ту же сторону (два последних замечания не применимы к Урану). Например, Земля вращается вокруг оси, составляющей угол в 23° с перпендикуляром к плоскости эклиптики и делает полный оборот менее чем за одни солнечные сутки.

Рис. 2. План солнечной системы
Ось вращения Земли проходит через полюсы Земли; если бы наблюдатель, находящийся на северном полюсе, сам не участвовал бы во вращении Земли, то он бы заметил, что Земля поворачивается против часовой стрелки. Это направление собственного вращения, которое является общим почти для всех планет, называется прямым. Именно в прямом направлении обращаются вокруг Солнца планеты. (В нашей модели, описанной выше, следует предположить, что наблюдатель стоит на доске, а планеты и Земля расположены так, что северный полюс Земли виден над столом.) Направление, противоположное прямому, называется обратным; оно совпадает с направлением вращения стрелок часов.
Солнце также обладает собственным вращением в прямом направлении; его ось вращения составляет 5–6° с перпендикуляром к плоскости эклиптики.
4. Движение большинства спутников планет обладает теми же свойствами, которые перечислены выше. Другими словами, центры спутников перемещаются вокруг своих планет почти по окружностям, оставаясь в плоскостях, наклоненных довольно мало к плоскости эклиптики (за исключением спутников Урана). Направление обращения спутников также прямое. Спутники также обладают собственным вращением в прямом направлении. Однако у спутников далеких от Солнца планет мы встречаемся с существенными отклонениями от этих правил.
5. Близкие к Солнцу планеты имеют примерно ту же среднюю плотность, что и Земля. Более далекие планеты (начиная с Юпитера) имеют гораздо меньшую плотность, хотя по массе они гораздо больше Земли.
6. Каждая комета движется в плоскости, проходящем через центр Солнца, однако в отличие от планет плоскости движения комет располагаются как угодно по отношению к плоскости эклиптики.
Траектории комет, как правило, очень вытянуты; встречаются движения как в прямом, так и в обратном направлении. Сопоставляя эти факты со сделанным выше замечанием об отличии комет от планет в отношении физического строения, мы можем сразу предположить, что и условия происхождения комет были также иными.
7. Все небесные тела солнечной системы подчиняются в своем движении трем законам, открытым Кеплером и сведенным к единому принципу – закону всемирного тяготения – Ньютоном.[6]6
В противоположность впечатлению, которое создается при чтении плохих популярных книг, теория Эйнштейна не опровергла закон тяготения Ньютона. Этот закон содержится в теории Эйнштейна как первое приближение закона взаимодействия между материальными телами, вполне достаточное в подавляющем большинстве случаев.
[Закрыть]
Размеры солнечной системы
Прежде чем расстаться с солнечной системой, мы приведем некоторые числа, позволяющие составить представление о ее размерах.
Радиус Земли равен 6370 км. Расстояние Луны от Земли составляет 60 земных радиусов, т. е. около 380 000 км. Расстояние Земли от Солнца составляет 23 000 земных радиусов или 150 млн. км. Свет, пробегая 300 000 километров в секунду, затрачивает на путь от Солнца до Земли восемь минут. Поэтому говорят также, что Земля находится на расстоянии восьми световых минут от Солнца.[7]7
Расстояния, с которыми имеет дело астрономия, исключительно велики, и их часто измеряют с помощью промежутков времени, за которые свет проходит эти расстояния. В частности, используют световой год, т. е. расстояние, пробегаемое светом за один год. Оно составляет примерно 10 триллионов километров. (Напомним, что один триллион – это тысяча миллиардов.)
[Закрыть]
Расстояние Плутона от Солнца, определяющее внешнюю границу планетной системы (на сегодняшнем уровне наших знаний), в 40 раз больше. Оно составляет примерно шесть миллиардов километров или несколько более пяти световых часов.
По сравнению с этими числами радиус Солнца, составляющий 700 000 км (109 земных радиусов), покажется весьма малым. Юпитер, следующее по своей величине тело солнечной системы, лишь в 11 раз больше, чем Земля.
Если мы захотим, возвращаясь к нашей модели, воспроизвести солнечную систему, сохраняя правильный масштаб расстояний и размеров, то при расстоянии Плутона до Солнца в 60 см Солнце должно представляться маленьким зернышком диаметром в 1/7 миллиметра. Земля же выглядела бы как микроскопическая пылинка размером в сто раз меньше, помещенная на расстоянии полутора сантиметров от Солнца. Глядя на эту модель, можно понять, насколько невелика плотность материи в солнечной системе, которая является, однако, одной из наиболее «занятых» областей вселенной.


