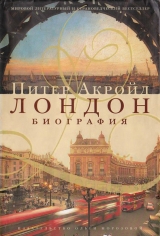
Текст книги "Лондон. Биография"
Автор книги: Питер Акройд
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Глава 25
О самоубийствах
Многие накладывали на себя руки в стенах Ньюгейта, но и среди свободных лондонцев всегда хватало самоубийц, лишавших себя жизни самыми разными способами. Люди бросались вниз с Галереи шепота в соборе Св. Павла, травились на запыленных лондонских чердаках и топились от несчастной любви в Сент-Джеймсском парке. Широкой популярностью среди самоубийц пользовался Монумент, воздвигнутый в память о Великом пожаре; они спрыгивали с верхушки столпа и падали чаще на его основание, чем на мостовую. Гроле пишет в своем «Путешествии по Англии», что 1 мая 1765 года «жена некоего полковника утопилась в канале Сент-Джеймсского парка, на Друри-лейн повесился пекарь, а одна девушка, жившая близ Бедлама, сделала попытку покончить с собой тем же способом». Летом 1862 года внимание общественности привлекла «эпидемия самоубийств». В том же столетии из Темзы постоянно вылавливали утопленников.
По числу самоубийств Лондон занимал первое место среди европейских столиц. Еще в XIV веке Фруассар назвал англичан «весьма мрачным народом», и эта характеристика справедлива в первую очередь по отношению к лондонцам. Француз полагал, что тяга последних к самоубийствам – проявление их «природной эксцентричности», хотя более проницательный наблюдатель объяснял ее «презрением к смерти и отвращением к жизни». Другой француз писал об унынии в лондонских семьях, «где не смеялись в течение трех поколений», и отмечал, что осенью горожане накладывают на себя руки, «дабы спастись от непогоды». Еще один приезжий также выразил уверенность в том, что «стремление покончить с собой, безусловно, вызывается туманами». В качестве другой вероятной причины он назвал употребление в пищу говядины, поскольку «из-за ее вязкой тяжести к мозгу поднимаются лишь желчные и меланхолические пары»; этот диагноз любопытным образом перекликается со старым поверьем лондонцев, считавших, что увиденное во сне мясо «означает смерть друга или родственника». Здесь можно вспомнить и о недавней истории с «коровьим бешенством».
По наблюдениям того же Гроле, «в Лондоне подавленность доминирует везде – в каждой семье, во всех слоях населения, на любом мероприятии, как частном, так и общественном… Печатью этой скорби отмечены самые веселые сборища, даже в низших кругах». Достоевский писал о «мрачном характере», «не оставляющем» лондонцев даже «среди веселья». Вино, которое продавалось в лондонских тавернах, также якобы «порождало эту меланхолию, столь повсеместную». В нарушении у англичан душевного равновесия обвиняли даже театр; один путешественник описывал, как сын его домовладельца, посмотревший спектакль «Ричард III», «вскочил ночью с постели и принялся колотить в стену головой и ногами, вопя как одержимый, а затем стал кататься по полу в страшных корчах, заставивших нас опасаться за его жизнь: ему чудилось, что его осаждают все призраки из трагедии о Ричарде Третьем и все мертвецы с лондонских погостов». Словом, причины недуга видели во всем, кроме разве что тяжелой, изнуряющей атмосферы самой городской жизни.
Глава 26
Места заключения
В Лондоне было больше тюрем, чем в любом другом европейском городе. Он был знаменит своими местами заключения – от пенитенциария в Храме тамплиеров до долговой ямы на Уайткросс-стрит, от тюрьмы на Дедманс-плейс в Банксайде до каунтера на Гилтспер-стрит. Острог был и в Ламбетском дворце, где пытали лоллардов, ранних религиозных реформаторов, и на Сент-Мартин-лейн, где «двадцать восемь человек бросили в яму шесть на шесть футов и продержали там всю ночь», причем четыре женщины были задавлены насмерть. Постоянно строились новые темницы, от «Тана» на Корнхилле в конце XIII до «Уормвуд-скрабз» в Ист-Актоне в конце XIX века. В Пентонвилле – новой «образцовой» тюрьме – узников заставляли носить маски, а Новая тюрьма на Миллбанке была устроена как «паноптикум», в котором можно было наблюдать за всеми камерами и всеми заключенными одновременно.
С начала XVII столетия лондонские тюрьмы, подобно лондонским церквам, стали «воспеваться» в стихах:
В столице и окрест я насчитал
Острогов ровным счетом восемнадцать
Да шестьдесят столбов позорных и клетей.
Первое место в этой скорбной литании занимает вестминстерский Гейтхаус, а затем следует панегирик в адрес тюрьмы Флит.
Флит была старше всех остальных тюрем, древнее Ньюгейта, и когда-то называлась попросту Лондонской тюрьмой; кроме того, она занимала одно из первых каменных зданий средневекового города. Расположенная на восточном берегу речки Флит, она была окружена рвом «с тремя крутыми уступами» – сейчас на этом месте сбегает к Темзе Фаррингдон-стрит. Нижний, «опущенный» этаж ее был известен под названием «Варфоломеевской ярмарки», хотя из тюремных отчетов ясно, что это наименование было ироническим и по жестокости царивших здесь порядков первая лондонская тюрьма не уступала прочим. Но самую широкую известность она снискала благодаря «тайным» незаконным бракам, которые меньше чем за одну гинею заключали в ее стенах лишенные сана священники. К началу XVIII века в тавернах этого района было уже около сорока «брачных заведений», причем по меньшей мере шесть из них носили название «Рука и перо». Женщин, опоенных или одурманенных, можно было привести сюда и женить на себе, чтобы присвоить их деньги; невинных девушек вводили в заблуждение, сочетая их «законным» браком с мошенниками. Здесь жил некий часовщик, прикидывающийся священником, – он называл себя «доктором Гейнемом». Его дом стоял на Брик-лейн, а сам он имел обыкновение прогуливаться по Флит-стрит. Когда он всходил на Флит-бридж, его представительную фигуру в шелковой мантии с белыми лентами можно было опознать издалека; у него было «приятное лицо, однако же с многозначительным румянцем». Местные жители прозвали его «Чертовым епископом».
Несколько раз сама тюрьма Флит подвергалась сожжению; последний сильный пожар произошел в 1780 году по вине злоумышленников, которых возглавлял – что весьма символично – некий трубочист. Она была отстроена по старому проекту, благодаря чему многие ее любопытные особенности сохранились. Например, в одной из стен тюрьмы, выходившей на улицу, которая теперь называется Фаррингдон-стрит, было зарешеченное окно; под ним висела железная кружка для милостыни, а один из заключенных постоянно выкрикивал изнутри: «Помните о бедных узниках!» Именно в эту тюрьму угодил Сэмюэл Пиквик, который, побеседовав с ее обитателями, «забытыми» и «оставленными без внимания», заявил: «Я видел достаточно… У меня голова болит от этих сцен и сердце тоже болит».
Тюрьма Флит была снесена в 1846 году, но место, на котором она стояла, расчистили лишь спустя восемнадцать лет. Там, где раньше были тюремные стены и камеры, возникли «тупики» – узкие и полные народу, они даже в солнечные летние дни оставались «сумрачными и унылыми», так что прежняя атмосфера не исчезла и после разрушения самой темницы.
Возможно, что именно Флит вдохновила Томаса Мора на создание его знаменитой метафоры, в которой мир сравнивается с тюрьмой: «Кто привязан к столбу… кто в подвале, кто в камере на верхнем этаже… кто плачет, а кто смеется, кто трудится, а кто играет, кто поет, кто бранится, а кто затевает драки». В конце концов Мор и сам стал заключенным, но до этого, в свою бытность заместителем шерифа, он посадил в тюрьму многих столичных жителей. Одних он отправил в «Олд-каунтер» на Бред-стрит, других – в «Полтри-каунтер» близ Баклерсбери; в 1555‑м тюрьма на Бред-стрит была перенесена чуть дальше к северу, на Вуд-стрит, где один из ее заключенных вторил Томасу Мору. Его слова цитируются в «Лондоне старом и новом»: «Сия малая темница подобна целому городу, ибо как в городе есть всякого рода чиновники, торговцы и представители самых разных профессий, так и тут имеются весьма похожие на них люди». Сидящих в тюрьме мужчин называли «крысами», а женщин – «мышами». Ее подземные коридоры до сих пор уцелели в маленьком дворике рядом с Вуд-стрит; их камни холодны на ощупь, а в воздухе витает сырость. Некогда новый заключенный выпивал «полную чашу кларета», дабы отметить свое вступление в новое «общество», да и теперь еще в старом каунтере порой устраиваются банкеты и вечеринки.
Образ города как тюрьмы имеет очень глубокие корни. В своем романе «Калеб Уильямс», сочиненном в конце XVIII века, Уильям Годвин описывает «двери, замки, засовы, цепи, массивные стены и зарешеченные окна» острога, а потом утверждает, что «это и есть общество», что тюремная система отражает собой «весь общественный механизм».
Когда в 1852 году была открыта тюрьма Холлоуэй, по обе стороны от ее входа посадили двух каменных грифонов, которые служат и эмблемой самого Лондона. На камне в ее основании высечена надпись: «Да сохранит Господь город Лондон и сей дом во устрашение злодеям». Любопытно, что в работе над нею архитектор Джеймс Баннинг опирался на те же принципы, что и при проектировании Угольной биржи и Столичного рынка скота. Между некоторыми из крупнейших общественных зданий города наблюдается заметное сходство.
В 1970‑х В. С. Притчетт в очередной раз уподобил город «каменной тюрьме», а в 1805‑м Вордсворт проклял его, назвав «тюрьмой, где он был долго заточен»; затем, в 1851‑м, и Мэтью Арнольд назвал его «медной тюрьмою», обитателям которой «грезится ничто за тюремными стенами». В 1884‑м свой голос к этому обвинительному хору добавил Уильям Моррис:
Вот Лондон, мрачная сеть и тюрьма,
Возведенная алчностью многих веков.
Его убогое жилище было «камерой в тюрьме усталого Лондона». Кейр Харди, вернувшись в свой родной Эршир в 1901 году, написал, что «Лондон – это город, о котором я постоянно вспоминаю с ужасом, точно о месте заточения». В своем «Лондонском дне», вышедшем из печати примерно в ту же пору, Томас Холмс говорит о лондонских узниках: «Мы видим множество лиц, приводящих нас в смятение, и сразу же понимаем, что почти все эти люди обделены жизнью и заслуживают не мести, а жалости». В некоторых городских кварталах царила такая бедность, что Холмс заключает: «В остроге этим несчастным живется лучше, чем в собственном доме». Таким образом, они просто перебрались из одной тюрьмы в другую. Но настоящая тюрьма, по выражению кокни, была местом, «где собаки не кусают».
Существовали в Лондоне и места, где люди пользовались «правом убежища», – это были оазисы, куда по видимости не простиралась зловещая тень тюрем. Когда-то они были владениями крупных религиозных организаций; монахи и монашки давно исчезли, но «волшебная сила» этих мест сохранялась по-прежнему. Среди них были Сент-Мартин-ле‑Гранд и Уайтфрайарс; прежде там находились обители кармелитов и белых католиков, но затем в этих местах стали искать спасения от преследователей и ареста «люди самого низкого сорта, мошенники и разбойники, воры, злоумышленники и убийцы». Один из предполагаемых убийц «тауэрских принцев» (племянников короля Ричарда III, по его приказу задушенных в Тауэре в 1483 году), Майлс Форест, пробрался в Сент-Мартин и оставался там, «покуда не сгнил мало-помалу». «Четками Св. Мартина» называли в народе поддельные драгоценности. Право убежища в Сент-Мартин-ле‑Гранд было отменено в начале XVII столетия, но чары Уайтфрайарс действовали в течение более долгого периода. Лондонцы прозвали этот уголок Лондона Эльзасом (по имени знаменитой пограничной области на северо-востоке Франции), потому что туда не отваживались заходить ни приходские, ни муниципальные блюстители порядка: как только они появлялись, вокруг сразу начинали кричать «Убежище!» и «Бей ищеек!», хватали несчастных и безжалостно избивали их. Теперь это место находится между Дорсет-стрит и Мэгпай-элли – оно ограничено Солсбери-сквер и Хэнгинг-Сорд-элли.
История двух других убежищ связана с чеканкой денег. Они находились на монетных дворах в Уоппинге и Саутуорке, словно изготовление денег – столь же священный процесс, как и любая деятельность обитателей монастыря или церкви. В середине 1720‑х годов представители городских властей пытались проникнуть к уоппингским «чеканщикам» и разогнать преступников, но получили отпор. Одного из бейлифов «засунули в яму, куда сбрасывали содержимое отхожих мест», а другого силком провели перед толпой «с говешкой во рту». Здесь наглядно проявилась параллель между деньгами и экскрементами.
Другие убежища по-прежнему действовали близ некоторых церквей, точно традиция милосердия продолжала существовать в менее выраженной форме. Район Блэкфрайарс пользовался дурной славой логова преступников и нищих. Убежище близ Вестминстерского аббатства много веков оставалось «плохим и опасным местом», а Шайр-лейн у церкви Сент-Клемент-Дейнс прозвали «Рогс-лейн» («Разбойничий переулок»). Здесь были притоны «Дом попрошаек», «Нора» и «Монетный двор»: в последнем чеканили фальшивую монету, причем, как утверждается в «Лондоне старом и новом», «в каждой комнате этого дома был свой тайник… все детали оборудования для производства фальшивых денег и сами работники в случае тревоги исчезали в мгновение ока, словно по волшебству». Таким образом, лондонские убежища, как и тюрьмы, пользовались среди жителей города дурной славой, и редко кто отправлялся туда по доброй воле.
Глава 27
Галерея мошенников
Так же как и учреждений, связанных с преступлениями и наказаниями, нарушителей закона хватало в Лондоне от века. Еще в XIV столетии иные лондонцы подделывали документы и занимались шантажом, а в коронерских отчетах за 1340 год можно найти длинный перечень «содержателей публичных домов, ночных грабителей, женщин с дурной репутацией». Уже тогда город был так переполнен ворами, что городские власти пользовались правом «вешать воров, застигнутых на месте преступления (cum manu opere)», без суда и следствия.
Однако литература, посвященная лондонскому преступному миру, стала достаточно богатой лишь в XVI столетии. Роберт Грин и Томас Деккер изобразили перед читателями картину лондонского дна, кишащего ворами и мошенниками, столь же древнего и столь же нового, как и сам город. Несомненно, воровской жаргон, или арго, имел очень глубокие корни, и отдельные, наиболее красочные выражения из его словаря были в ходу как минимум до середины XIX века. «Махнем-ка в Ромвиль щипнуть мошну» можно перевести как «Давай пойдем в Лондон и взрежем у кого-нибудь кошель». Почему Лондон получил прозвище «Ромвиль» (то бишь Рим) задолго до того, как его начали сравнивать с этим могущественным городом, остается загадкой. «Там зябнет смурной малый. Добро бы замесить его» («Там живет мрачный человек с тяжелым характером. Неплохо было бы его ограбить».
Отдельные личности, так же как и их высказывания, оживают на страницах этих старинных хроник преступлений: «Джон Стрэдлинг с трясущейся головой… Генри Смит, который растягивает слова… Джон Браун, заика», – каждый из них избрал своим занятием одну из разновидностей жульничества, бывших в ходу в XV веке. Само их ремесло также выдержало испытание временем. Мошенников, предлагающих зрителям угадать, под каким из стаканчиков спрятан шарик, можно встретить на лондонских улицах и теперь, в XXI веке; таким способом в столице обманывают простаков вот уже больше тысячи лет.
Описывая «авраамов» (людей, притворявшихся сумасшедшими), «шустряков» (тех, кто таскал вещи из открытых окон) и «лихачей» (воров-лошадников), Деккер и Грин, пожалуй, иногда перегибают палку: вряд ли улицы Лондона XVI века и впрямь были такими опасными, какими они их изображают. Однако в некоторых районах преступность действительно процветала. Например, окрестности Чик-лейн и Филд-лейн в Кларкенуэлле всегда пользовались в этом смысле дурной славой. На самой Чик-лейн стоял дом, в котором прежде находилась гостиница «Красный лев», – в XVIII веке, когда его разрушили, обнаружилось, что ему было уже триста лет; Хекторн, автор книги «Памятные места Лондона», сообщает, что там были «замаскированные чуланы, люки, отодвигающиеся панели и тайники». Один из этих люков находился над каналом Флит-дич и «позволял легко избавляться от трупов». Рядом с Рэтклифф-хайвей была путаница мелких улочек с названиями вроде Хог-ярд и Блэк-Дог-элли, Мани-Бэг-элли и Хэрбрейн-корт[54]54
В эти названия входят слова, означающие «боров» и «черный пес», «денежный мешок» и «сорвиголова».
[Закрыть], известных «моральным разложением» их обитателей. Близ Уотер-лейн, рядом с Флит-стрит, стоял еще один притон, который именовали «Кровавой чашей», потому что там «почти ежедневно проливалась кровь и редкий месяц обходился без убийства».
Несколько более сдержанно городской хронист XVII века сообщает об облаве, учиненной в трактире Уоттона на Смартс-ки близ Биллингсгейта. Этот трактир на самом деле был «школой, где малышей учили опорожнять кошельки». Кошельки и мешочки подвешивались на веревочке с прикрепленными к ним «колокольцами»; если ребенок мог вынуть оттуда монету так, чтобы колокольчик не звякнул, «его признавали славным щипалой». В следующем веке другая такая «школа» открылась на Смитфилде, где владелец таверны обучал детей шарить по чужим карманам, красть вещи из лавок, залезая в окна, и проникать в дома простым способом: они притворялись, что спят под стеной, а сами потихоньку расковыривали кирпичи и известку, пока не образовывалась достаточно большая дыра.
В этих описаниях преступлений есть любопытная деталь: сами преступники с удовольствием пользовались словом «закон». «Обманный закон» означал игру фальшивыми костями, «тонкий закон» – распространение фальшивых денег, «ловкий закон» – карманные кражи. Таким образом, на лондонском дне царили свои «законы».
Однако изобретались и новые виды преступлений. Например, в XVII столетии разбойные нападения на дорогах стали известны под названием «дорожного закона». Век карет стал также веком их грабежей, и в последние дни 1699 года Джон Эвелин писал: «В эту неделю нападения на кареты и путников совершались на участках меж фонарей, поставленных по обе стороны дороги от Лондона до Кенсингтона». В то время на перегонах между яркими фонарями, стоявшими вдоль большой дороги, была непроглядная темень, и грабители этим пользовались. На страницах «Лондонских висельников» приводится даже их разговор. Один бродяга, Эдвард Смит, предлагает товарищу «пойти на выгодное дело» (ограбить кого-нибудь на большой дороге). «Ударим по рукам – ведь некому позаботиться об нашем будущем, окромя нас самих». А если их ловили? Есть рассказ и о том, как одного вора поймали и доставили в Лондон: «По пути он проявлял непокорство, дергал под уздцы лошадь, а ежели кто приближался к нему, то он делал знаки руками, как бы стреляя из пистолета, и кричал пу-у!» Хаунслоу-хит и Тернем-грин, Марилебон и Тоттнем-корт-роуд были особенно опасны для неосторожных. Там грабили в основном пеших путников. В начале XVIII века те, кто направлялся в Лондон, старались объединяться в группы для совместной защиты и выходили в дорогу только со звоном колокола; вдобавок по вечерам их сопровождали люди с зажженными факелами.
Такие же факелы требовались и для путешествий по улицам самого города. «Около полуночи одного джентльмена остановили на Холборне двое разбойников, а когда он начал сопротивляться, застрелили его насмерть и ограбили… Некий Ричард Уотсон, сборщик дорожной пошлины, был найден варварски убитым в своей будке». В «Лондоне» Чарлза Найта рассказывается, что женщина, обслуживавшая посетителей в марилебонском трактире, «часто удивлялась, как это я ни разу не пострадал от разбойников с большой дороги, коих было полно в этих краях; а ведь мне приходилось идти до самого Лонг-Эйкра и, стало быть, подвергаться огромному риску». Комментатор в той же книге замечает, что жители Лондона «относились к соседству с ворами примерно так же, как поселенцы в новой стране относятся к соседству диких зверей, наводняющих окрестные чащи».
У «славных щипал» предыдущих веков появились преемники, и в XVIII столетии улицы Лондона «кишели карманниками, столь же дерзкими, сколь хитрыми и пронырливыми». Они крали даже рядом с виселицей, на которой кое-кому из них было суждено окончить свои дни, и «ни одна публичная казнь не обходилась без того, чтобы у кого-нибудь не пропал платок или другая вещь». Если их ловили на месте преступления сами горожане, они волокли пойманных к ближайшему колодцу или источнику «и макали в воду чуть не до утопления». Если же воры попадали в руки властей, их ждало более серьезное наказание. К середине XVIII столетия количество преступлений, за которые мужчине или женщине грозила казнь через повешение, выросло с 80 до 350 и более. Но проку от такой суровости, по-видимому, было немного. Несколькими годами позже в «Трактате о работе столичной полиции» отмечалось, что «в Лондоне регулярно занимаются криминальной деятельностью 115 000 человек». Это составляет около одной седьмой тогдашнего городского населения. Так, в 1774 году в «Джентлменс мэгэзин» писали, что «газеты более чем когда-либо переполнены сообщениями о грабежах и кражах со взломом, а также историями о жестокостях, учиненных грабителями». Отсюда мы можем заключить, что в пору благоденствия и «значительного» достатка преступления против собственности были столь же частыми, как и преступления против людей, – и это несмотря на то, что с ростом ценности украденного имущества соответственно возрастал и риск быть повешенным.
Питер Лайнбо тщательно изучил статистику казней через повешение на протяжении всего XVIII века и пришел к любопытным выводам. Коренные лондонцы попадали на виселицу, как правило, в возрасте двадцати с небольшим лет, тогда как приезжие – несколько позже. По профессии те, кто всходил на эшафот, были в основном мясниками, ткачами и сапожниками. Между мясниками и грабителями с большой дороги просматривалась явная связь (сам Дик Терпин в свое время работал подручным у мясника). С культурной и социологической точек зрения эту связь интерпретировали по-разному, но, в общем, лондонские мясники всегда отличались несдержанностью и эгоизмом, а порой и склонностью к насилию. Они определенно пользовались наибольшим почетом среди всех столичных торговцев, и один посетивший Лондон иностранец писал, что «удивительно видеть такое количество мясницких лавок во всех приходах – ими буквально забиты все улицы». Они зачастую становились лидерами местных сообществ; например, мясники с Клэр-маркет, близ которого было множество театров, описывались как «выразители мнения галерки и всей театральной публики, музыканты на свадьбах актрис, главные плакальщики на похоронах актеров». Они же возглавляли народ во времена бедствий и беспорядков. Например, об одной кровавой расправе сообщалось: «Мясники начали смуту первыми, и вскоре все остальные также поднялись против сборщика акциза». Неудивительно, что именно мясники и их подмастерья оказались наиболее склонными к совершению дерзких и жестоких преступлений.
В 1751 году Генри Филдинг опубликовал свое «Исследование причин роста преступности в наше время», а годом позже в уголовном кодексе добавилось новое положение, призванное застращать потенциальных убийц: теперь тела повешенных должны были подвергаться публичному вскрытию. Возможно, непосредственным поводом к принятию этой меры стал рост числа преступлений, но в любом случае она была выражением паники среди легковерных и опасающихся за свою жизнь горожан.
Лондон всегда был главным очагом распространения паники и слухов. Например, в одном официальном отчете конца XX века указывалось, что «страх перед преступниками сам по себе является социальной проблемой», и приводились данные, свидетельствующие, что гораздо большее относительное количество лондонцев – по сравнению с жителями других районов – не чувствует себя в безопасности как дома, так и на улице. Пожалуй, это подтверждает мнение одного лондонца, который еще в 1816 году писал: «Собственный опыт автора, объездившего почти всю Европу… позволяет ему заключить, что нигде в ней нет более опасных районов, нежели окраины Лондона». Конечно, в ту пору это был еще относительно компактный и замкнутый город – с ростом столицы жить в ней стало чуть менее опасно, – а нравы и поведение тогдашних преступников явно были унаследованы ими от их предшественников XVIII века.
Например, уличные грабители в начале XIX столетия стали называться иначе, чем в XVIII, но манеры их от этого не изменились. Взломщики этого периода назывались «скокарями», а те, кто обчищал карманы пьяных, – «охотниками на бабочек»; вор, селившийся в гостинице, прежде чем обокрасть постояльцев, именовался «лодырем», а так называемые «обходчики» проверяли задние двери домов в надежде найти их открытыми и без присмотра. Все это были типичные городские преступления, а совершали их в основном профессиональные воры, карманники, грабители и те ловкачи и бессовестные торговцы, которые пользовались доверчивостью и неосмотрительностью отдельных представителей многоликой толпы.
Хотя утверждение автора «Улиц Лондона» Томаса Берка о том, что «истинный знаток города может отличить представителя каждого человеческого типа по его одежде и манерам», кажется слишком смелым, преступники действительно составляли неотъемлемый и узнаваемый элемент городской жизни вплоть до середины XIX столетия. Их язык, подобно жаргону «авраамов» предыдущего века, тоже был весьма своеобразен и выразителен: «хожу жохом… выначиваю что подвернется… влопаюсь – сгорю». В этой «блатной музыке» были и свои музыкальные термины: жуликов называли «диезами», а их жертв – «бемолями».
В 1867 году, по тогдашним отчетам, численность «криминального класса» достигла 16 000 человек. Однако на улицах к тому времени стало гораздо безопаснее, чем прежде. Пятью годами раньше в столице резко участились жестокие уличные нападения с целью грабежа, но эта вспышка насилия была успешно подавлена с помощью не менее жестоких мер наказания. Таким образом, уже нельзя было пожаловаться, как сорок лет назад жаловался герцог Веллингтон, что «по ночам на главных улицах Лондона полно бродяг и пьяных женщин», а также «организованных воровских шаек». На протяжении всей прежней истории города воры и бродяги собирались на множестве «островков» близ главных столичных магистралей, тогда как к середине XIX века они оказались вытесненными на окраины метрополиса, ставшего заметно более цивилизованным. Больше всего их скопилось на восточных окраинах, в районе, вскоре получившем название Ист-энда. Этот район уже за шестнадцать лет до того, как Джек-потрошитель прославил Уайтчепел, был известен своими воровскими притонами и низкопробными трактирами, «из которых постоянно несло какой-то затхлой сыростью», извечными спутниками уличной преступности. На Бетнал-грин тоже были пабы и частные дома, «служившие удобными и укромными „биржами“, куда стекались проститутки и мошенники всех сортов, так называемые „деловые люди“». Это слова Артура Моррисона, написавшего свою книгу «Дитя Джейго» в конце XIX века, когда воровской сленг изменился в очередной раз и традиционные лондонские преступления получили еще более красноречивые наименования. В насмешку и, возможно, с оттенком скрытой почтительности терминология финансового и торгового Лондона пародировалась людьми, которые по-своему – менее открытыми, хотя и более одиозными способами – также способствовали кругообороту товаров и городского капитала.
Моррисон сообщает, что в конце XIX века на Бетнал-грин и в ее окрестностях хозяйничала бандитская группировка, объединявшая самых авторитетных преступников. По сути, он описывает типично лондонское образование – организованную банду, куда входили наиболее ловкие и наиболее жестокие представители криминальных кругов, возглавляемые одним или двумя лидерами. Подобные банды контролировали определенные районы или конкретные области деятельности. В 1730‑х Дик Терпин возглавлял «Эссексскую банду», состоявшую из воров и контрабандистов, а десятилетием раньше такие одаренные личности, как Джонатан Уайлд, умудрялись доминировать над всем преступным миром Лондона. Но по мере своего роста город начинал делиться на территории, контролируемые разными группировками.
В XIX веке соперничающие банды вели борьбу за территории и области влияния. В начале XX века восточный Лондон вновь стал ареной кровавого конфликта. Противостояние двух банд – Гардинга и Богарда – разрешилось жестокой стычкой в баре «Блюкоут бой» на Бишопсгейте. В 1920‑е и 1930‑е годы преступные кланы Сабини и Кортези воевали друг с другом на улицах Кларкенуэлла за контроль над ночными клубами и ипподромом, а в следующем десятилетии «семья» Уайта из Излингтона бросила вызов Билли Хиллу и его «крутым парням» с Севен-Дайалс.
Были и другие криминальные объединения – например, «Слоны», «Ангелы» и «Титаны». Они организовывали кражи и налеты на магазины, а также торговали наркотиками и получали доходы от проституции и предоставления «крыши» (иначе говоря, занимались рэкетом). В 1950‑х и 1960‑х годах свои районы эффективно контролировали братья Крей из Ист-энда и Ричардсоны «с того берега», то есть из южных пригородов. На территории, находившейся под властью Креев, народ, если воспользоваться выражением середины XIX века, «всегда глубоко почитал великих воров». Похороны Ронни Крея в 1995 году (процессия двигалась по Бетнал-Грин-роуд и Валланс-роуд) стали крупным общественным событием; как написал о жителях Ист-энда автор книги «Темная сторона» Иэйн Синклер, «у них необычайно развито чувство традиции». Воспоминания об «Эссекской банде» Дика Терпина и даже о знаменитых преступниках более раннего периода живы здесь и поныне.
Трудно назвать какую бы то ни было разновидность преступления абсолютно новой. Например, налеты на витрины магазинов стали особенно популярными в 1940‑е и 1950‑е годы, хотя случались они и гораздо раньше: существуют письменные свидетельства о совершении подобных налетов в XVII и XVIII веках. На смену бандам Креев и Ричардсонов пришли этнические группировки – к примеру, ямайская «Ярди» и китайская «Триада», – имеющие свои особые сферы влияния. В 1990‑х, когда торговля такими наркотиками, как героин, кат, крэк и экстази, стала еще более прибыльной, в городе развернули свою деятельность криминальные группы из Нигерии, Турции и Колумбии. Члены клана «Ярди» считаются виновными в том, что в XXI веке относительный процент убийств в городе, известном своей кровавой историей, вырос до невиданно высокой цифры. Убийство же, если перефразировать Томаса Де Куинси, – это одно из лондонских изящных искусств[55]55
Название знаменитого эссе Т. Де Куинси – «Убийство как одно из изящных искусств».
[Закрыть].








