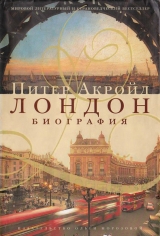
Текст книги "Лондон. Биография"
Автор книги: Питер Акройд
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Гравюра Хогарта имеет вихреобразную композицию: циклическая комплементарность ее деталей напоминает круги жизни Тома Ниро в аду Лондона. Кроме того, она словно демонстрирует связь между жестокостью самого Ниро и бессердечием врачей, которые потрошат его тело. Характер Ниро сложился под влиянием жестокой улицы, так что он стал образчиком худшего лондонского типа. Однако он не столь уж сильно отличается от хирурга, с наслаждением погружающего скальпель в его глазницу. Хогарт писал этот персонаж с хирурга по имени Джон Фрик. В этом городе все связано между собой.
Скелеты двух знаменитых преступников, некогда висевшие в нишах анатомического театра, можно и теперь увидеть в музее Королевского хирургического колледжа. Джонатан Уайлд, самый известный лондонский злодей XVIII века, и Уильям Кордер, убийца Марии Мартин (его преступление нарекли «убийством в красном амбаре»), нынче висят рядом как участники старинного лондонского спектакля. В той же галерее можно найти и великана-ирландца Чарлза Бирна: его гигантский скелет высотой в семь футов десять дюймов помещен бок о бок с крохотными останками Каролины Кречеми, рост которой составлял всего один фут и десять с половиной дюймов. Они были лондонскими «уродами» и после своей смерти продолжают тешить публику, охочую до зрелищ.
Лондонские аптекари, как и анатомы, любили сценические эффекты. Обычно они одевались в черное, а в каждой аптеке, пусть даже самой скромной, непременно хранились череп и большая книга, написанная на каком-нибудь древнем языке. Здесь торговали травами и порошками, эликсирами и пилюлями, микстурами и зубным порошком, помадой и приворотным зельем. Самый богатый выбор травяных снадобий предлагался на Камомайл-стрит и Баклерсбери. В «Приключениях Родрика Рэндома» Смоллетта (1748) имеется перечень профессиональных уловок: «Устричные раковины он умел превращать в глаза краба, простое растительное масло в сладкое миндальное… воду из Темзы в aqua cinnamomi [настой из листьев и цветов корицы и коричного лавра]… если же пациенту было предписано какое-нибудь самое обыкновенное лекарство, он всегда заботливо изменял его цвет, либо вкус, или и то и другое так, чтобы невозможно было его распознать»[42]42
Перевод А. Кривцовой.
[Закрыть].
Сами снадобья менялись в соответствии с модой. В XVII веке среди них были мох, копченые конские яички, майская роса и белена. В XVIII столетии нам встречаются мускатный орех и пауки, обернутые в собственную паутину. В книгах XIX века мы читаем о «турецком ревене и серной кислоте». В начале XX в Ист-энде продавались «железное желе, мазь „Замбук“, соль плода Ино, легочный тоник Оубриджа, кровяная микстура Кларка». Шотландские пилюли Андерсона, впервые предложенные миру в 1635 году, «находились в продаже вплоть до 1876‑го».
Повествуя о Великой чуме, Дефо подчеркивает легковерие простых лондонцев, которые в надежде отпугнуть подкрадывающуюся заразу носили на себе «амулеты, талисманы, пузырьки с волшебными эликсирами». У некоторых в карманах лежали бумажки или печати со знаками зодиака или словом «абракадабра». Люди вновь вернулись к язычеству, властвовавшему над городом с тех пор, как в Дагнеме был вырезан первый деревянный идол (2200 год до н. э.).
К югу от реки, близ Уолуорт-роуд, есть музей, где хранится так называемая «коллекция Ловетта» – собрание лондонских талисманов, амулетов и прочих вещиц того же рода. Это настоящая выставка лондонских суеверий, и разнообразие ее экспонатов свидетельствует о том, что город впитал в себя все традиции, связанные с магией и ритуалом, как местные, так и привозные. В 1916 году из Ист-энда были доставлены «пять камешков неправильной формы на одной нитке» – согласно музейному каталогу, их следовало «вешать на угол кровати, чтобы отогнать кошмары». В том же году поступила и «серовато-белая трубочка, накрепко завязанная с обоих концов и наполненная ртутью». Она служила средством от ревматизма. Шкура серой кошки излечивала от коклюша, а «кожаная туфелька, выкрашенная в золотой цвет», приносила удачу. Из Клэпема прибыла подушечка для булавок, сделанная в форме костяшки для домино с семью точками, а из восточного Лондона – ключик на шнурке, охранявший своего хозяина от ведьм, и ожерелье из янтаря и других камней, которое носили в 1917 году, «чтобы вернуть себе здоровье». В Баркинге искали корни мандрагоры, которые, когда их вынимают из земли, кричат, точно малые дети. В музее есть монетки, приносящие богатство, кусочки пирита, отвращающие удар молнии («желуди с дерева бога грома»), коровьи сердца, бараньи рога и ослиные подковы, когда-то служившие амулетами. Здесь же хранится и набалдашник волшебной палочки, или посоха, одного лондонского волшебника, с выгравированной на нем соломоновой печатью: он был сделан в XIV веке, а потом, утерянный, очутился на дне реки. Вплоть до 1915 года в Ист-энде бытовал обычай отрезать прядь волос у больного ребенка. Эту прядь клали в сандвич и отдавали его первой встречной собаке; тогда хворь покидала ребенка и поселялась в организме невезучего животного. В том же Ист-энде многие женщины и девочки носили на шее синие бусы «как талисман, предохраняющий от бронхита»; такие бусы по цене в полпенни за штуку сотнями продавались в мелких лавчонках, «где торговали обыкновенно женщины преклонного возраста». Как правило, умерших хоронили прямо в этих бусах. В начале XX века молодые жительницы Лондона часто посещали травников с целью приобрести у них корень дубровки или «драконью кровь» – камедь с Суматры – в качестве приворотного зелья.
В любопытной книге Эдварда Ловетта «Магия в современном Лондоне», опубликованной в 1925 году, сообщается, что акульи зубы, найденные в лондонской глине, считались хорошим средством от колик. В Камберуэлле было принято заворачивать подковы в красные тряпки, чтобы избавиться от кошмаров, а Майл-энд был известен как место, где можно «заговорить» болезнь ребенка. Когда у ист-эндского рыночного торговца не ладились дела, он восклицал: «Ах! Наверное, я забыл поклониться молодой луне!» Логично, что у жителей города, почти поголовно занятых коммерцией, вошло в привычку просить у судьбы денег при виде падающей звезды. Камешки необычной формы лондонцы держали на своих каминных полках как талисманы, и с той же целью они вешали в церквах средневекового города серебряные подобия человеческих конечностей. Одна женщина из Уайтчепела рассказала исследователю, что при переезде полагается заставить кошку обежать одну из комнат, чтобы она «привыкла» к новому месту. Есть также интересные сообщения о «кошачьих захоронениях» в стенах некоторых домов. Плодные оболочки продавались по восемнадцать пенсов за штуку – считалось, что они не позволяют их обладателю утонуть, – но в годы Первой мировой войны, когда опасность внезапной гибели возросла, их цена подскочила до двух фунтов. На лондонских рынках до недавнего времени можно было приобрести неолитические каменные топоры и кремневые наконечники для стрел, служившие громоотводом.
Лондон смахивает на острог, и потому совсем неудивительно, что ключи здесь всегда почитались священным предметом. Они ассоциировались с магией и демонами; согласно Питеру Лайнбо, автору книги «Лондонские висельники», искусство взламывания замков называли «черным ремеслом», а самый ходовой инструмент взломщиков – «талисманом» (charm). Ключи применялись для проверки подозреваемых: на стержень ключа помещали имя человека, и его вина считалась доказанной, если ключ сдвигался или «вздрагивал». На дверях проституток часто красовался «большой нарисованный ключ», и многие ночные охотницы носили на шее ключик как символ своей профессии.
В одном отчете XVIII века, где идет речь о штурме Ньюгейтской тюрьмы, есть характерный эпизод. Вернувшись к себе домой, один из мятежников заявляет: «Я добыл ключи от Ньюгейта». Позже, во время процесса, судья задает вопрос об этих ключах его соседу по квартире: «Значит, вы не стали трогать их, поскольку боялись порчи?» – «Да я бы и близко к ним не подошел».
Пациентам Бедлама, отказывавшимся принимать лекарства, разжимали челюсти специальным металлическим ключом.
Во время чумы на главных улицах города видели призраков; впрочем, привидения беспокоили лондонцев испокон веку. Прекрасный кирпичный дом на южной стороне церковного двора в Кларкенуэлле редко удавалось сдать из-за его плохой репутации. Дом номер семь по Паркер-стрит, близ Друри-лейн, тоже пользовался дурной славой и в конце концов был снесен. В одной из комнат дома номер 23 на той же улице кто-то умер, и с тех пор там иногда раздавался «пугающий шум». Дом с привидениями, «пустовавший долгое время», был на Беркли-сквер, а еще один – на Куинс-гейте.
Ж. П. Гроле, посетивший город в XVIII столетии, отмечает, что «на практике лондонцы сильно боятся привидений, хотя в теории они их высмеивают». Другой путешественник того же периода бывал в лондонских театрах и заметил, что призраки в шекспировских трагедиях вызывают у зрителей «изумление, испуг и даже ужас… достигающие такой степени, словно все это происходит в действительности». Часто писали, что в силу особенностей своего города лондонцы с трудом отличают сценический вымысел от реальности, но более важно то, что подобные сообщения свидетельствуют об их поразительном легковерии. В середине XVI века была схвачена девушка, которая намеренно говорила «потусторонним» голосом в доме близ Олдерсгейта, что «весьма угнетало жителей всего города». Можно представить себе молву, рассказы, передававшиеся из уст в уста, и посеянный ими страх.
Лондонский писатель Алеф передает другую историю. В начале 1762 года жители города были твердо убеждены, что в одном доме на Кок-лейн, в ту пору «шумной, узкой и полутемной улочки», обитает дух, умеющий издавать скрипы и стуки, – он получил прозвище «Непоседа Фанни». Этот дух вселился в жившую там девушку, которая «постоянно производила загадочные звуки, хотя руки и ноги ее были связаны и закутаны». Тысячи лондонцев стекались на Кок-лейн, и тем, кто был не самого низкого звания, дозволялось посещать спальню девушки по пятьдесят человек зараз, «так что она едва не задыхалась от смрада». Для проверки поступивших жалоб была создана комиссия из уважаемых лондонцев – в их число входил и суеверный Сэмюэл Джонсон, – объявившая в своем отчете, что девушка «обладает удивительным умением изображать шумы». Ее отца приковали к позорному столбу в конце Кок-лейн, однако «люди выражали ему сочувствие». Тем дело и кончилось – так Лондон пережил еще одно странное приключение. Иногда кажется, будто он и сам превратился в призрачный город, столь полный образами прошлого, что они не дают покоя его нынешним обитателям.
«Излингтонский призрак» посещал участок земли рядом с церковью Троицы на Клаудсли-сквер, вызывая «чудесное сотрясение во многих местах, так что земля вспухала и подымалась со всех сторон»; Майкл Фарадей якобы и теперь заглядывает на телефонную станцию на Брайд-стрит – прежде она была молитвенным домом, где встречались его собратья по вере, гласситы. В разных уголках Лондона видели лорда Холланда и Дэна Лино, Дика Терпина и Анни Чапмен. Старинные больницы и городские церкви оказались весьма подходящей территорией для прогулок потусторонних существ; на отрезке Суэйнс-лейн в Хайгейте близ кладбища их также замечали многократно. Свой призрак есть в Отделе Востока Британского музея, а в один из домов на Дин-стрит залетает призрачный дрозд, которого наблюдали представители многих поколений. Дочь графа Холланда, прогуливаясь по Кенсингтон-гарденс, встретила «призрака, имеющего ее собственное обличье и манеры, словно бы ее отражение в зеркале»; месяц спустя она умерла. Приходский священник увидел на своей кафедре в церкви Сент-Бартоломью в Смитфилде призрачного проповедника «в черной кальвинистской сутане… он обращался к невидимой пастве с величайшим пылом, неистово жестикулируя, наклоняясь над кафедрой то вправо, то влево и стуча рукой по подушечкам, лежавшим перед ним, и во все это время уста его двигались, словно речь лилась из них потоком».
Лондонский Тауэр, конечно, оказался естественным приютом для многих духов. Здесь можно было встретить знакомых персонажей – среди них Уолтера Рэли и Анну Болейн. Последнюю опознали в «белой фигуре» сразу три человека, и солдат, стоявший на часах у квартиры лейтенанта, «упал замертво, потеряв сознание». Его отдали под трибунал, но впоследствии оправдали. Призрак медведя «просочился из-под двери» сокровищницы британской короны, и увидевший его караульный умер через два дня. Здесь стоит вспомнить, что некогда в Тауэре действительно размещался зверинец. Один из самых необычных призраков явился хранителю сокровищницы и его жене: они сидели за столом в главной комнате этой пресловутой сокровищницы, и вдруг в воздухе возникла «стеклянная трубка толщиной с мою руку». В ней была «какая-то густая жидкость, белая и светло-лазурная… она постоянно перекатывалась и смешивалась внутри цилиндра». Предмет приблизился к жене хранителя, которая воскликнула: «Боже! Оно меня схватило!» – а затем пересек комнату и растаял.
Есть и другие места, внушающие лондонцам страх. Говорят, что во время отлива близ Грейвсенда до сих пор раздаются крики евреев, утопленных в 1290 году, когда они подверглись массовому истреблению. «Поле сорока шагов», теперь находящееся около Гордон-сквер, считалось «зачарованным» или «проклятым» – как кому нравится. Когда-то здесь собирали подорожник, листья которого помогали увидеть вещий сон, но более важно то, что на этом самом месте двое братьев убили друг друга на дуэли. Следы их роковых шагов якобы не стерлись до конца, а там, где произошло это двойное убийство, не росла трава. Саути действительно удалось рассмотреть очертания семидесяти шести отпечатков «размером с крупную человеческую ногу и примерно трех дюймов в глубину», а летом 1800 года, как раз перед застройкой поля, Моузер «насчитал их более сорока».
В 1830‑х Вашингтон Ирвинг изучал нравы обитателей «Малой Британии» – района, расположенного за Смитфилдом, близ Олдерсгейта. «У них вызывают тревогу кометы и затмения, – писал он под псевдонимом „Джеффри Крейон, джентльмен“, – а если ночью уныло завоет собака, это почитается верной приметой смерти». Он также перечислил «игры и обычаи» населения. Мы можем включить сюда древний ритуал «обивания границ» прихода, изначальная цель которого состоит в том, чтобы ударами прогнать дьявола; когда-то приютских детей хлестали на каждой границе веточками белой ивы, но ближе к нашему времени стали просто стучать палками по стенам. Всего в городе ежегодно происходит около пятидесяти шести различных церемоний, от «Клятвы на рогах» в Хайгейте до «Вынесения вердикта после пробы монет» в Голдсмитс-холле, но самыми долгоживущими (хотя, пожалуй, и не самыми привлекательными) являются ритуалы Майского праздника.
Во время церемоний, о которых мы имеем первые письменные упоминания, лондонские «веселые молочницы» шествовали, держа на головах вместо своих обычных бадеек «пирамиды из серебряных блюд»; это звучит странно, однако указанный обычай имеет весьма древние, «варварские» корни. Молочницы вряд ли были так уж веселы – из всех городских занятий их профессия была самой тяжелой и малооплачиваемой, – и в этих серебряных блюдах, взятых под залог в ломбарде, можно увидеть символ их финансового закрепощения в течение всего остального года. Первое мая было также днем половой свободы, и этот знаменательный факт нашел отражение в позднейших шествиях, когда к молочницам присоединились молодые трубочисты. Гроле сообщает, что их черные лица «выбелены мукой, головы покрыты париками, напудренными и белыми как снег, а одежда украшена бумажными кружевами; и все же, несмотря на сей шутовской наряд, они серьезны, как гробовщики на похоронах». Подобно шахтерам, трубочисты всегда ассоциировались с темными силами и половой распущенностью; отсюда и их появление в Майский день. Но кроме того, жизнь обходилась с юными трубочистами суровее, чем со всеми прочими лондонскими детьми (неудивительно, что они были так серьезны!). Многие получали на своей работе ожоги и увечья, а то и погибали: ведь им приходилось карабкаться вверх по дымоходам, счищая по дороге сажу и копоть. И в награду за этот тяжелый труд и мучения им доставался лишь один день беззаботных игрищ в году.
Есть очень интересная картина, написанная около 1730 года, – она называется «Продавщица сыворотки и творога на Чипсайде». На ней изображена слепая девушка, сидящая у источника, где горожане набирали воду, и протягивающая руку трем мальчикам-трубочистам. Этот уличный источник был обычным местом их сборищ, и на картине они выглядят буквально как живые. У двоих лица такие черные, что видны лишь глаза и рты. Все они очень маленькие, и у одного, похоже, покалечена спина. Они кажутся гротескными порождениями города, и в их фигурах чувствуется подспудная угроза, направленная против слепой и очень бледной уличной торговки. Поэтому можно предположить, что во время майского шествия трубочистов подобная угроза как бы символически уничтожалась смехом. Впрочем, как и все лондонские обряды, эта церемония со временем стала более причудливой, и в XVIII веке в ней появилось новое действующее лицо – «Зеленый человек», покрытый ветками и листьями. Его называли еще Зеленым Джеком или просто Зеленым, – в компании молочниц и трубочистов он разгуливал по разным приходам как живописный провозвестник весны. Постепенно майские шествия стали разыгрываться только бродячими артистами, а затем и вовсе исчезли.
Однако лондонцы не окончательно расстались с суевериями. Город по-прежнему остается загадочным: в нем царят мистический хаос и сумятица, и внести в них порядок, обуздать их помогают горожанам приметы. Сэмюэл Джонсон, этот великий приемный сын Лондона, проходя по Флит-стрит, непременно дотрагивался до каждого столба на ее обочине. На многих лондонских улицах нет домов под тринадцатым номером – в число таких улиц входят Флит-стрит, Парк-лейн, Оксфорд-стрит, Прейд-стрит, Сент-Джеймс-стрит, Хеймаркет и Гроувенор-стрит.
Но и само направление улицы имеет, на взгляд некоторых, магическую подоплеку. Предпринималось множество попыток выявить структуру города с помощью «связующих линий», или «связок» (leys), соединяющих места, расположенные на одной прямой. Одна такая линия соединяет Хайгейт-хилл на севере с Поллард-хиллом в Норбери, на юге, – вдоль нее выстроилось огромное количество церквей и молитвенных домов. Были попытки соединить церкви, построенные Николасом Хоксмуром, или уловить закономерность в расположении церкви Сент-Панкрас, Британского музея и Гринвичской обсерватории на фоне общего топографического рисунка. В каком-то смысле это возрождение магии земли, которую практиковали кельтские племена, обитавшие в здешних краях, однако тут сказываются и могучие чары самого места.
Именно эти чары воспевал Уильям Блейк, описывая, как идет по городу мифический Лос: «Покуда не достиг он Стратфорда, а после – Степни, / Острова Псов Льюты и переулков на брегу реки, – / Так шел он, примечая любую мелочь на пути». Такие «мелочи», касающиеся, в частности, скорбных дней Великой чумы, и помогают возродить жизнь и историю города.
Глава 21
Красный город
Цвет Лондона – красный. Кебы в начале XIX века были красными. Почтовые ящики – красные. До недавних пор красными были телефонные будки. Автобусы остаются красными и сейчас. Такого же цвета (по большей части) были одно время и поезда подземки. Черепица римского Лондона была красной. Первая Лондонская стена была сложена из красного песчаника. Даже про Лондонский мост говорили, что он имеет красный оттенок: якобы, согласно древнему ритуалу строительства, он был «спрыснут кровью маленьких детей». Красный – это также и цвет насилия.
Крупнейшие лондонские капиталисты, члены гильдии торговцев шелком и бархатом, носили красные костюмы. В «Лондонских хрониках» за 1399 год фигурируют «мэр, архивариус и олдермены Лондона в их парадном наряде алого цвета», а в оде, воспевающей торжественное вступление в город Генриха VI в 1432 году, упоминается «благородный мэр, весь в красном бархате». Обитатели больницы в Челси до сих пор носят красную одежду.
На картах Лондона красным цветом отмечались места, где шли работы по реконструкции улиц, и фешенебельные районы, где селились богатые люди. На языке кокни «красным» называлось золото. Лондонские портовые рабочие, поддержавшие недовольных, которые хлынули на городские улицы весной 1768 года, подняли красный флаг в знак своей решимости идти до конца.
Романисты тоже считали красный цвет отражающим природу города. В своем «Наполеоне Ноттингхилльском» (1904) Честертон рисует Лондон будущего, и его главный герой спрашивает: «Да есть ли в ком-нибудь из вас хоть немного красного?» – после чего пронзает себе ножом левую ладонь: «кровь хлынула так сильно, что ударилась о камни сплошной струей, не распавшись на капли». Это стало прелюдией к успеху «красных ноттингхилльцев» в романе.
Красные кресты рисовали на дверях домов, пораженных чумой, подтверждая таким образом символическую связь этого цвета с той лондонской болезнью, которая прежде считалась «вечно тлеющей», как угли под слоем золы. Лондонские пожарные носили красную форму, или «алые мундиры». Их командир, погибший во время Великого пожара 1861 года, совершил символический поступок, «остановившись лишь на секунду, дабы развязать свой красный шейный платок». Этот цвет есть повсюду, даже в городской почве: светло-красные прослойки окиси железа в лондонской глине хранят память о пожарах, бушевавших почти две тысячи лет тому назад. Но одного пожара лондонцы не забудут никогда – этот пожар охватил весь город и был виден даже из окна оксфордской библиотеки Джона Локка, заметившего, что «солнечные лучи приобрели странный мутно-красный оттенок».
«Великий Лондонский пожар» 1666 года считается самым крупным из всех пожаров, но на самом деле он был лишь одним из целого ряда подобных бедствий. Например, пожары 60 и 125 годов н. э. разрушили большую часть города, создав то, что археологи называют «пластом послепожарных разрушений». Город и сам представляет собой такой пласт. Лондон горел в 764, 798, 852, 893, 961, 982, 1077, 1087, 1093, 1132, 1136, 1203, 1212, 1220 и 1227 годах. Р. С. Фиттер, автор «Естественной истории Лондона», написанной после Второй мировой войны, замечает: «Почти никому не приходит в голову, что из-за постоянных пожаров средневековый Лондон часто выглядел еще более опустошенным, чем Лондон после бомбежек 1945 года». Создатель книги, посвященной этим военным разрушениям, Джеймс Поуп-Хеннесси, говорит, что развалины церквей «привычны» взору лондонского жителя. «Городской пожар в декабре 1940 года, – пишет он, – напомнил мне знаменитое описание пожара 1666 года, сделанное Пипсом. Оранжевое зарево, дрожащее в ночном небе, показалось мне очень похожим на его „огненную дугу“».
Лондон словно притягивает к себе огонь и разрушение со времен атак Боудикки до нынешних выступлений ИРА. В литературе, посвященной этому предмету, упоминается об особенно «горячих» районах. Артур Хардвик в книге «Знаменитые лондонские пожары» сообщает, что Уотлинг-стрит – «одна из тех улиц в центре города, что всегда были самыми „жаркими“». Олдерсгейт и Силвер-стрит имеют репутацию «зоны риска»; пожары часто бушевали на Чипсайде и Бред-стрит. Вуд-стрит – возможно, из-за своего названия[43]43
Wood – дерево (англ.).
[Закрыть] – также заслужила «дурную славу вечного пекла»; загадочные пожары неоднократно вспыхивали на Патерностер-сквер. Район Сент-Мэри-Экс был объят пламенем в 1811, 1883 и 1940 годах, а затем снова – в 1993‑м. Характерно и то, что в Лондоне, этом городе зрелищ, постоянно горят театры: за 130 лет, с 1789‑го по 1919‑й, в огне погибло тридцать семь театральных зданий, и лондонская публика, таким образом, вряд ли может пожаловаться на недостаток драматических сцен. В описаниях городских пожаров нередко сквозит некая театральность. Во время пожара на Патерностер-сквер в 1883 году «пламя прорывалось сквозь крышу и заливало город ярким светом»; два года спустя над пылающим Чартерхаусом висело зарево, «освещавшее все вокруг, точно солнце».
В разное время пожары губили Лондонский мост и Королевскую биржу, Гилдхолл и здание парламента. За девять лет, с 1833‑го по 1841‑й, в городе произошло 5000 пожаров, что соответствует «в среднем 556 случаям в год, или трем пожарам за каждые два дня». В 1833 году в городе было 750 пожаров; в 1993 году на территории «Большого Лондона» возникло 46 000 пожаров. В 1883‑м было примерно 180 возгораний в печных трубах, в 1993‑м – 215. Чаще, чем в остальные месяцы, пожары случаются в декабре и реже всего в апреле; самым плохим днем недели в этом смысле является пятница, а самым благополучным – суббота. Самое опасное время суток – десять часов вечера, самое спокойное – семь утра. Некоторые пожары случаются вследствие поджогов, но главной причиной их возникновения остается неосторожность: свирепый пожар 1748 года, разрушивший более сотни домов на улицах и в переулках близ Эксчейндж-элли и погубивший дюжину человек, начался из-за того, что «служанка забыла в сарае зажженную свечу, уйдя слушать музыкантов, которые играли в трактире „Лебедь“». У печатника со Сколдинг-элли мигом появились в продаже гравюры с изображением обгорелых руин.
Но иногда пожары помогают обнаружить незамеченные следы городской истории. Раскопки на месте Винчестерского дворца на южном берегу Темзы начались после пожара в Мастард-миллс. В 1794 году после пожара в Ладгейте, на Сент-Мартинс-корт, были найдены остатки барбикана, или дозорной башни, относящиеся к XIII веку. Таким образом, пламя не только разрушает город, но и помогает воссоздавать его прошлое. Пожалуй, не случайно то, что увиденный во сне пожар сулит, по лондонским поверьям, «здоровье и богатство» или «брак с милым сердцу человеком».
Один из корреспондентов газеты «Тан» в XIX веке заметил, что лондонцы, в отличие от парижан, «невероятно быстро» реагируют на крик «Пожар! Пожар!». Это поистине боевой клич города. В I веке н. э. Лондон еженощно патрулировали специальные дозорные (vigiles), или «люди с ведрами»; уже в ту пору пожары обладали некой загадочной притягательностью, ибо отличительными чертами этих дозорных были «бодрость и бесшабашность». В последующие столетия эта налаженная система разрушилась, но можно с большой степенью вероятности предположить, что в эпоху раннего Средневековья поиск очагов пожара и тушение огня входили в обязанности районных караульных отрядов. Другой мерой предосторожности был обычный вечерний звон, или couvre-feu[44]44
Couvre'feu–«туши огонь»; от этого французского слова происходит английское curfew – вечерний звон, комендантский час.
[Закрыть]; когда по Лондону XI века разносился звон вечернего колокола, все жители обязаны были потушить огонь в печи и разгрести угли. Если пожар все же вспыхивал, на колокольнях били тревогу, звоня в колокола «наоборот», то есть начиная с басов, – и казалось, будто в реве пламени оживает сам дьявол. Около больших домов стояли бочки с водой, а к XII столетию появились подробные правила насчет тушения огня и стаскивания с крыш горящей соломы.
В XV веке вышло распоряжение, гласившее, что каждый новый шериф или олдермен в течение месяца после своего вступления в должность обязан «обеспечить выделку 12 новых кожаных бурдюков для тушения огня». На смену скромному бурдюку, или ведру, пришло нечто вроде «шприца, или поливателя»; который, в свою очередь, уступил место примитивному насосу: им орудовали пожарные с привычным для уха лондонцев криком: «Раз, два – взяли!» – и он удостоился звания «первого пожарного механизма на улицах Лондона». Это случилось в начале XVII века, когда мы встречаем упоминание о «механизме, или орудии», которое «при помощи десяти работников может перекачать воды более, нежели способны принести в ведрах и ковшах пятьсот человек». Эту машину воспел Драйден в своей поэме «Annus Mirabilis» («Чудесный год»): он описал языки пламени и «улицы со множеством народу, как среди бела дня». Здесь снова возникает уподобление пожара солнцу, заливающему город своими лучами. Одна из первых компаний, занимавшихся страхованием от огня, называлась «Солнце», и ее фирменный знак до сих пор можно видеть на многих домах. Таким образом, благодаря любопытному метафорическому скачку пожар превратился в источник силы и энергии, стал восприниматься как мощные спорадические вспышки, своего рода «разрядка» перегретого города. Одна из лучших карт Лондона, «План Хорвуда», была изготовлена для компании «Феникс» на Ломбард-стрит, специализировавшейся на страховании от огня и возникшей вскоре после пожара 1666 года, – это еще одно свидетельство важности той роли, которую играли в столице люди, борющиеся с пожарами. Забавно, что первый руководитель компании «Феникс» носил фамилию Стоунстрит («каменная улица»).
С течением времени крики пожарных сменил бой ручных колоколов; затем эти колокола стали механическими и электрическими. Потом появилась сирена, а ее в свою очередь заменило устройство, способное подавать сигналы двух типов – «вой» и «визг». Сами пожарные облеклись в яркие мундиры. Например, в одной компании форма пожарных состояла из «синих курток с золотыми манжетами и золотым позументом», а также «черных панталон, белых чулок и золотых подвязок»; в дни торжеств к этому наряду добавлялись еще серебряные жезлы и значки. Пожарные были преисполнены сознания своего долга – по удачному выражению Хилэйра Беллока, у них были «пламенные сердца». Они пользовались таким уважением, что кабинеты начальников пожарных служб порой «напоминали чертоги роскошных дворцов».
В романе Эдит Несбит мимо конторы «Феникса» проходят двое детей. «Огонь? – спрашивает один. – Алтарный, что ли?» Да – на великом жертвенном алтаре Лондона.
Пожар стал одним из главных спутников города. Его даже нарекли «Огненным королем». В течение XVIII и XIX столетий пожары росли «по частоте и по охвату», и – возможно, как следствие этого – увеличивались также толпы зрителей. Пожар на Тули-стрит удалось потушить лишь через месяц с небольшим; Палата общин была погублена огнем, благодаря чему на свет появилось несколько очень выразительных полотен. Пожар в Вестминстере, согласно авторам альбома «Лондон в произведениях живописи», удостоился «наибольшего количества изображений среди всех лондонских видов XIX века… ибо к месту события устремились бесчисленные граверы, акварелисты и живописцы», среди которых были Констебл и Тернер. Эти художники чувствовали, что в бушующем пламени каким-то образом присутствует дух самого города. В 1936 году при большом стечении народа был уничтожен огнем Хрустальный дворец; множество зрителей привлекали также возгорания в портах и на складах – там, где, по выражению одного исследователя, «бродил призрак викторианских пожаров».








