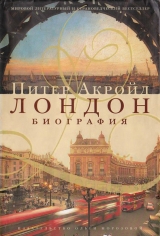
Текст книги "Лондон. Биография"
Автор книги: Питер Акройд
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Дальше и выше

Карта середины XVI в., изображающая поля Мурфилдс к северу от Лондона. Иные из женщин раскладывают на земле белье для сушки, мужчины упражняются в стрельбе из лука. Линия домов за городской стеной вдоль Бишопсгейт-стрит – показатель ускоряющегося роста города.
Глава 8
Довольно мрачные и узкие
Чрезвычайно живое и подробное описание Лондона эпохи Тюдоров оставил Джон Стоу, великий антиквар-историограф XVI века. Он писал о беспрерывно возникающих вне городских стен новых улицах и зданиях, о «посягательствах застройщиков на большие и малые дороги, на общинные земли». Где прежде теснились сараи или лавчонки, в одной из которых некая старая женщина торговала «семенами, кореньями и травами», теперь стояли новые дома, «во множестве возводимые по обе стороны все дальше и все выше, иные в три, в четыре, в пять этажей». Рост – это неизменное, исконно присущее городу состояние, но, когда оказалась затронута старинная топография окрестностей Кордуэйнер-лейн, знакомых Стоу с детства, он на этот рост посетовал.
Вслед за Джоном Стоу мы можем пройти по Бутчерз-элли (Мясницкому переулку) близ бойни Сент-Николас и Стинкинг-лейн (Вонючего переулка), где он пустился в рассуждения по поводу растущих цен на мясо. В старые дни, писал он, упитанного быка продавали «самое большее» за 26 шиллингов 8 пенсов, а упитанного ягненка – за шиллинг, ну а «теперешнюю цену все знают, и ее нет нужды приводить». Обилие подобных местных примет резко выделяет Стоу среди хронистов и историков города. О нем было сказано, что «он описывает res in se minutas[19]19
Предмет в его мелочах (лат.).
[Закрыть], описывает игрушки и безделицы, будучи столь жадным до угощения, что не может пройти мимо Гилдхолла без того, чтобы его перо отведало добрых тамошних чернил». Именно это делает его выдающимся наблюдателем городской жизни и выдающимся лондонцем. В его книге «Обзор Лондона» содержится подробный, навеянный непосредственными впечатлениями рассказ о больших и малых улицах, по которым он ходил всю жизнь.
Он родился в 1525 году. Его отец и дед, как, возможно, и более далекие предки, торговали сальными свечами и жили то ли на Треднидл, то ли на Тринидл-стрит; Томас Кромвель, приближенный и советник короля Генриха VIII, захватил там часть сада, принадлежавшего отцу Стоу, и Стоу с горечью отметил, что «внезапное возвышение некоторых лиц побуждает их в иных случаях забываться». Указаний на то, где Стоу мог получить образование, почти нет – известно лишь, что он, скорее всего, посещал одну из бесплатных лондонских классических школ. Он вспоминал, как ходил на ферму, принадлежавшую женскому монастырю Майнориз, откуда «я многажды приносил домой молоко, платя по полпенса». Это означает, что в ту пору еще существовали пастбища, подходившие к самым городским стенам. Более о своем детстве и юности он не сообщает ничего. Нам известно, впрочем, что он занимался портняжным делом и приобрел дом у колодца близ городских ворот Олдгейт и недалеко от фермы, где он мальчиком покупал молоко; подлинные его труды тогда, однако, еще не начались.
Антикварные штудии – инстинктивная страсть многих лондонцев, и Стоу остается величайшим образцом лондонского антиквара. Уместно и показательно, что первым его книжным трудом было издание Чосера; наследие этого великого лондонского поэта стало начальным предметом его внимания, после чего он обратил взгляд на город, взрастивший чосеровский гений. Он занялся изучением лондонских архивов, первоначально хранившихся в Гилдхолле, на правах «платного хрониста»; его легко представить себе среди полос пергамента, рукописных свитков и томов с потрескавшимися корешками прилежно пытающимся разобраться в истории родного города. В «Кратком переложении английских хроник», ставшем одним из его первых трудов, он писал: «Вот уже восемь лет как я, видя плачевное состояние наших английских хроник последнего времени, позабыв о личных своих выгодах, посвящаю себя исследованию наших знаменитых древностей». Это может навести на мысль, что ради исторических штудий он оставил портняжное ремесло, однако дошедшие до нас документы показывают, что он некоторое время продолжал прежнюю деятельность. Он сетовал на то, что его кличут «паршивой колючкой», как уничижительно называли людей, зарабатывающих на жизнь шитьем, и он пожаловался однажды в суде, что сосед швырялся в его ученика камнями и кусками черепицы.
«Древности» встречались вокруг него повсюду. В нескольких шагах от его дома, между Биллитер-лейн и Лайм-стрит, «примерно в двух фатомах глубины» под землей были погребены стена и каменные ворота. Их обнаружили в 1590 году во время сноса строений; Стоу иследовал любопытную находку и пришел к выводу, что старинная кладка относится ко временам короля Стефана, правившего с 1135 по 1154 год. Уровень лондонской земли постоянно повышался – город снова и снова застраивался на прахе и руинах былых своих воплощений. Стоу исходил его вдоль и поперек; он признался однажды, что его труды стоили ему «многих миль изнурительных хождений, многих тяжким трудом заработанных пенсов и фунтов, многих бдений над книгами холодными зимними ночами». Он был высоким и худощавым человеком, «приятным и приветливым на вид; его зрение и память были изрядно хороши; он был весьма рассудителен, мягок и любезен со всеми, кто обращался к нему за сведениями».
Сообщать сведения было о чем, ибо в начале XVI века Лондон воистину был раем для исследователя древностей. Стоу многократно упоминает о больших зданиях «былых времен со сводчатыми подвалами и каменными воротами», датируемых XI–XII веками; кое-где сохранились стены, колонны и мостовые эпохи римского владычества. Немалая часть кирпичей и каменной кладки, оставшихся от тех ранних времен, уже была использована для нового строительства, но нет сомнений, что многие вещественные памятники I века в изрядном числе так или иначе продолжали существовать в последующие периоды лондонской истории. Однако многое разрушалось – в частности, и в то время, когда Стоу вел свои наблюдения. Религиозная Реформация Генриха VIII стала причиной резкой перемены не только в верованиях лондонцев, но и в строениях, которые их окружали. Расшатывалась структура католического сообщества, которую горожане в прошлом так рьяно поддерживали; неуверенность и замешательство лондонцев, в свою очередь, имели следствием изменения в структуре самого города, где монастыри, часовни и приделы Богоматери подвергались разграблению или разрушались совсем. Ликвидация аббатств, церквей и странноприимных домов при монастырях, в частности, означала, что весь город пребывал в лихорадочном состоянии сноса и строительства. Иные его части, судя по всему, напоминали обширные строительные площадки, тогда как другие районы медленно загнивали, приходя, по словам Стоу, «в плачевный упадок».
Лондон, помимо прочего, был городом руин. Стоу упоминает об останках «старинного здания суда» на Олдерменбери-стрит, которые использовались теперь как «плотницкий склад». Большой дом мэра на улице Олд-Джури последовательно становился синагогой, монастырем, жилищем знатного господина, домом купца и, наконец, «винной таверной» под названием «Ветряная мельница». Часовня превратилась в «склад и лавки, выходящие на улицу, с жилыми покоями над ними», жилища епископов становились доходными домами, и так далее. Согласно другим документальным источникам, обитель цистерцианцев была «разрушена до основания» и на ее месте выросли склады, доходные дома и «печи, где пекутся морские галеты». На месте снесенного монастыря Майнориз, где жили монахини Ордена св. Клары, были возведены склады; церковь, принадлежавшая Братству крестоносцев, превратилась в плотницкую и теннисный корт; храм доминиканцев был переделан в сарай, где хранились повозки и реквизит для уличных представлений (знаменательно, что на этом месте впоследствии возник театр Блэкфрайарс). Монастырь Сент-Мартин-ле‑Гранд также снесли, и на его развалинах построили таверну.
Примеров можно привести еще немало, но главное заключается в том, что после Реформации немалая часть Лондона, каким он был в конце тюдоровской эпохи, лежала в руинах, и среди лавок и жилых домов, тянувшихся по сторонам больших и малых улиц, нередко можно было увидеть кусок стены, ворота или старинную сводчатую оконницу. Даже за пределами стен Сити, там, где между Стрэндом и рекой стояли дворцы епископов и знати, вся эта роскошь была, по словам венецианского посла, «обезображена развалинами множества церквей и монастырей».
Но, при всех сетованиях из-за утраченного, обновление давало повод и для похвалы. Стоу с одобрением отмечает, что на Голдсмитс-роу между Бред-стрит и Чипсайд-кроссом лавки и жилые дома, построенные всего за тридцать пять лет до его рождения, были теперь «украшены с фасада гербами гильдии золотых дел мастеров… установленными на спинах громадных зверей. Все это отлито из свинца, богато раскрашено и вызолочено». Путешественник XV века Доменико Манчини обратил внимание в этом же районе Лондона на «золотые и серебряные кубки, яркие ткани, разнообразные шелка, ковры, гобелены». Все это – характерные черты тюдоровского Лондона. К примеру, снесли старинную церковь, но на ее месте, отмечает Стоу, воздвигли «превосходное прочное деревянное строение… где проживают люди разнообразных родов занятий». Ликвидировали древний крест, и там, где он стоял, соорудили великолепный питьевой фонтан. Жилище знатного человека превращается в торговое здание, где продают «сукна, грубую шерсть, фланель и тому подобное». Большое каменное строение, возведенное в глубокой древности, постепенно сносится, и на его месте вырастают «различные красивые дома».
Таков образ жизни Лондона эпохи Тюдоров, такова его энергия. Лондонец до мозга костей, Стоу не может удержаться от перечисления садов, мельниц, каменных и деревянных жилых строений, таверн, питьевых фонтанов, конюшен, складов, постоялых дворов, рынков, доходных домов и помещений для собраний гильдий, где протекала жизнь города.
Былой стереотип богатой лондонской усадьбы, центром которой является дом с внутренним двором, уже не соответствует изменившимся условиям; усадьбы такого рода сносятся ради новой застройки или ужимаются под натиском меньших строений, образующих улицы, которые уже в то время характеризовались как «довольно мрачные и узкие». Даже дома богатых купцов стали компактнее: на первом этаже – лавка и склад, на втором – зал и гостиная, выше – другие жилые помещения. Сплошь и рядом такие дома насчитывали по пять-шесть этажей с двумя комнатами на каждом; строительными материалами были обычные дерево и известка. В бурлящем городе дефицит пространства был таким острым, что беднота готова была жить в подвалах и на чердаках. Оценки численности лондонского населения могут быть только приблизительными, но приводятся такие цифры: в 1565 году 85 000 человек, а спустя сорок лет – уже 155 000; если добавить сюда жителей той зоны вне городских стен, на которую распространялись лондонские «вольности», цифры увеличатся еще более чем на 20 000. Они указывают, выражаясь по-современному, на демографический взрыв.
Цены на недвижимость поднялись так резко, что на снос даже крохотной лавчонки или домика решались очень неохотно. Рост города имел следствием то, что древние рвы, служившие как для обороны, так и для сброса мусора, были засыпаны и застроены. Главные дороги, ведущие к городским воротам, были «улучшены» и вымощены и в самом скором времени обросли лавками и жилыми домами. Дорога к Олдгейту, к примеру, была, по словам Стоу, «не только полностью вдоль обстроена зданиями», но и «по обе стороны от заставы густо уснащена всяческими ответвлениями». Даже поля за городской чертой, где в прошлом молодые горожане упражнялись в стрельбе из луков или прогуливались среди ручейков, «ныне, хотя миновало всего несколько лет, уже сплошь застраиваются небольшими коттеджами и домами с садиками, а поля по обе стороны отведены под сады, сушильни для тканей, места для игры в шары и прочее».
Перенаселенность стала настолько серьезной проблемой, что в 1580 году Елизавета I издала специальный указ, где констатировалась «склонность города Лондона [по-старинному названного здесь ею chamber – „стольным градом“], его предместий и рубежей к медленному расширению через приток людей, желающих в поименованном городе обитать», из-за которой не стало возможности добывать «пищу и иное необходимое для человеческой жизни по умеренным ценам, без чего ни один город долгое время существовать не может». Другой повод для озабоченности давал рост плотности населения в черте города, «где великие множества обитают в тесных покоях, и в большинстве своем люди эти очень бедны и даже принуждены нищенствовать или прибегать ради пропитания к еще худшим средствам, и они скапливаются вместе и в своем роде задыхаются от обилия взрослых детей и слуг, живущих с семьями в том же доме или в той же небольшой части его». Этот указ – одно из самых ранних письменных свидетельств перенаселенности Лондона, и его можно считать первым более или менее пространным вариантом мрачной характеристики, дававшейся городу во все последующие времена. Средством, которое решила применить королева, был запрет на «всякое новое строительство домов как для собственного житья, так и для сдачи внаймы на расстоянии трех и менее миль от любых ворот поименованного города Лондона». Высказывалась мысль, что это была первая попытка создать вокруг Лондона «зеленый пояс». Это предположение имеет по крайней мере то достоинство, что оно подчеркивает историческую преемственность в общей массе всех по видимости «современных» планов усовершенствования города; впрочем, скорее указ Елизаветы можно счесть попыткой защитить торговую и промышленную монополию лондонцев, живших внутри городских стен, которых отнюдь не радовало появление новых лавок и мастерских, не подлежавших юрисдикции их властей.
В этом документе обращает на себя внимание и другое: королева и ее советники по лондонским делам запрещают «размещение и жительство более чем одной семьи во всяком доме, какой до сей поры был обитаем». Идея, выражаемая словами «одна семья – один дом», несомненно, была целью, причем недвусмысленно зафиксированной, немалой части усилий по развитию города в XVII и XVIII веках; ее даже характеризовали как специфически лондонское решение вопроса. Решение это специфично, потому что оно исторично по духу; как пишет С. Э. Расмуссен в книге «Лондон: уникальный город», примененное Елизаветой средство отражает «консервативное тяготение к средневековому способу расселения». Подобным же духом проникнут запрет на любое новое строительство, если только дом не возводится «на старом фундаменте». Это пример той преемственности и того ощущения неразрывности и постоянства, что свойственны Лондону по сию пору.
Указ, однако, не достиг цели. Не прошло и трех лет со дня его появления, как городские власти с прискорбием признали неуклонный рост числа сараев и жилых строений за пределами городских стен. Преемники Елизаветы регулярно издавали новые указы и распоряжения на этот счет, но ни один из них не был исполнен и не имел ни малейшего успеха в сдерживании роста города.
Истина состоит в том, что рост Лондона не мог – и не может до сих пор – сдерживаться чем бы то ни было. На восток город распространялся вдоль Уайтчепел-Хай-стрит, на запад – вдоль Стрэнда. На севере он прирастал, захватывая Кларкенуэлл и Хокстон; на юге Саутуорк и его окрестности становились, выражаясь словами Стоу, «густо уснащены» местами народных развлечений, тавернами, борделями, площадками для игр и театрами. В свою очередь, Судебные инны, расположенные в Холборне, «предместье» между городом и королевскими дворцами Вестминстера, были расширены и украшены.
Однако сообщение между городом и предместьями оставляло желать лучшего. В последние годы правления Генриха VIII большая дорога от Темпла к «деревне Чаринг», впоследствии ставшая Стрэндом, была, как отмечено в парламентских документах, «чрезвычайно ухабиста и топка, очень опасна… очень плоха и грязна, во многих местах весьма опасна для всех следующих в ту или иную сторону, будь то верхом или пешим ходом». Усовершенствованные средства передвижения не всегда, однако, приветствовались. Появление наемных экипажей, называемых «каретами» или «колясками», дало Стоу повод заметить, что «все теперь перемещаются на колесах – даже те, чьи отцы были вполне довольны пешим хождением».
В XVI веке, как и во все последующие времена, состояние столичного транспорта было источником постоянных жалоб. Стоу замечает, опять-таки с неудовольствием, что «непривычное обилие карет, подвод, повозок и экипажей при узости улиц и переулков не может не быть опасным, и каждодневный опыт это подтверждает»; опасности эти возрастали, когда кучера принимались гнать лошадей, не интересуясь тем, что впереди, или в тех нередких случаях, когда нетрезвые возничие затевали яростные уличные споры о том, кому проехать первым. А шум стоял такой, что «сама земля дрожит и трясется, окна стучат, гремят и дребезжат».
Условия городской жизни, однако, значительно улучшились – по крайней мере для тех, кому пришлись по карману новые «роскошества». Там, где раньше стояли лавки, покрытые соломенными тюфяками, теперь имелись подушки и прочие постельные принадлежности; даже небогатые горожане ели уже не из деревянной, а из оловянной посуды, и даже дома средней руки могли похвастаться внутренней обшивкой стен, медными светильниками, полотном тонкой выделки и буфетами, полными изделий из зеленого глазурованного фаянса – блюд, кувшинов, горшков. Развилась также мода на кирпичные и каменные камины, что, в свою очередь, повлияло на облик и атмосферу Лондона.
Город отдал часть своей независимости парламенту и королю – вплоть до того, что принимал рекомендации Генриха VIII по поводу кандидатуры на пост мэра; зато он стал признанной столицей единого государства. Муниципальный идеал уступил место национальному – и как могло быть иначе в городе, где немалую часть населения составляли теперь пришлые люди? Новые горожане прибывали из всех частей Англии, от Корнуолла до Камберленда (было подсчитано, что во второй половине XVI века уже каждый шестой англичанин был лондонцем), и число приезжих из других стран росло все быстрей и быстрей, что делало город воистину космополитическим. Смертность была так высока, а рождаемость так низка, что без этого притока торгового и рабочего люда население города неуклонно сокращалось бы. Однако оно все росло и росло за счет пивоваров и переплетчиков из нидерландских провинций, портных и вышивальщиков из Франции, оружейников и красильщиков из Италии, ткачей из Нидерландов и других стран. На Чипсайде жил некий «мавр» (то есть африканец), изготовлявший стальные швейные иглы и никому не желавший выдавать секреты своего ремесла. Мода следовала за людьми, а люди, как могли, старались следовать моде. В годы правления Елизаветы I (1558–1603) возникло бесчисленное множество шелковых лавок, торговавших разнообразными товарами, от золотых ниток до шелковых чулок, и ко времени ее восшествия на престол относится сообщение о том, что ни один сельский джентльмен не рад «головному убору, плащу, камзолу, чулкам, сорочке… если только вещи эти не куплены в Лондоне».
Став средоточием моды, Лондон стал также и средоточием смерти. Смертность была здесь выше, чем в любой другой части страны; двумя главными убийцами были чума и «потница». В бедных приходах ожидаемая продолжительность жизни равнялась двадцати – двадцати пяти годам, в более богатых – тридцати – тридцати пяти. Разгул смертельных болезней – одно из объяснений того очевидного факта, что Лондон XVI века был молодым городом. Люди, которым не было тридцати, составляли очень большую часть городского населения, и приведенная статистика помогает понять ту неуемную энергию, какой отличалась городская жизнь во всех ее формах.
Самый яркий пример этой неуемности дает буйное племя молодых людей, состоявших в учениках у ремесленников. То был чисто лондонский феномен. Ученики были связаны строгими договорными статьями, и вместе с тем их отличали пыл и чуть ли не лихорадочная возбудимость, то и дело выплескивавшиеся на улицы. Они «либо рассиживаются в тавернах, дурманя головы вином, либо набивают в чипсайдском „Кинжале“ животы пирогами с рубленым мясом; но главная их потеха, как водится у лондонских учеников, – провожать по воскресеньям своих мастеров до церковных дверей, а там покидать их и разбегаться по тавернам». Сохранились сообщения о разнообразных потасовках и «буйствах», жертвами которых становились обычно иноземцы, «ночные прохожие» и слуги знатных людей, перенимавшие, как считалось, господскую спесь. Распоряжение 1576 года предостерегало учеников от того, чтобы «обидеть, подвергнуть нападению или дурному обращению идущего по улице слугу, пажа или лакея любого господина или знатного лица». Часто возникали беспорядки после футбольных матчей; например, за «возмутительное и буйное поведение во время игры в футбол на Чипсайде» трое молодых людей были посажены в местную тюрьму. Но в пьяные головы могло прийти и нечто более жестокое и угрожающее. Ученики, ремесленники и городские подростки приняли участие в беспорядках 1 мая 1517 года, когда были разграблены дома иностранцев. В последнем десятилетии XVI века смут и мятежей было еще больше, но, в отличие от других крупных европейских городов, Лондон никогда не становился нестабильным или неуправляемым в целом.
Записи, сделанные заграничными путешественниками, свидетельствуют об уникальности тогдашнего Лондона. Человек, приехавший из Греции, отметил, что сокровища Тауэра, «как утверждают, превосходят знаменитые с древних времен богатства Креза и Мидаса»; швейцарский студент-медик написал, что «не Лондон находится в Англии, а наоборот, Англия в Лондоне – так здесь говорят». Посетителям столицы предлагали стандартную поездку по городу в сопровождении гида: вначале им показывали Тауэр и Королевскую биржу, затем их препровождали в западную часть Лондона осматривать Чипсайд, собор Св. Павла, Ладгейт и Стрэнд, а напоследок их взорам открывалось величественное зрелище Вестминстера и Уайтхолла. Улицы были вымощены не всюду, однако поездка верхом была все же, как правило, предпочтительней плавания по Темзе. Джордано Бруно, мистик и зоркий наблюдатель, оставил яркое описание своих попыток нанять в Лондоне гребное судно. Он и его спутники, желая попасть в Вестминстер, вначале очень долго искали лодку и тщетно кричали: «Гребцы, сюда!» Наконец подошла лодка, где на веслах сидели двое мужчин в возрасте. «После многих вопросов и ответов – откуда, куда, почему, как и когда – они подвели корму к причалу». Итальянцы решили было, что наконец недалеки от цели, но вдруг, одолев примерно треть пути, перевозчики погребли к берегу. Они, мол, достигли своей «остановки» и дальше не поплывут. Эпизод, конечно, незначительный, но он отражает грубость и упрямство, которые иностранцы считали характерными чертами лондонского поведения. Столь же типично, по-видимому, то, что, выйдя на берег, Бруно обнаружил только чрезвычайно грязную и топкую тропу, по которой он вынужден был двигаться, словно сквозь «мрачную преисподнюю».
В других дошедших до нас свидетельствах подчеркиваются склонность лондонской черни к насилию и ее нелюбовь к иноземцам. Один французский врач, побывавший в Лондоне в 1552 или 1553 году, отметил, что «здешние простолюдины горды и мятежны… эти мерзавцы ненавидят всех чужаков, откуда бы они ни прибыли», и даже «плюют нам в лицо». На иностранцев нападали также банды учеников и подмастерьев; как-то раз один путешественник увидел некоего испанца, который, осмелившись выйти на улицу в национальном костюме, вынужден был искать убежища в чьей-то лавке. Уже упомянутый швейцарский студент-медик выразился, возможно, слишком мягко, когда заметил, что «простонародье отличается некоторой грубостью и недостатком культуры… они знать не желают ничего, что находится за пределами Англии».
Детали, подмеченные иностранцами, помогают получить живое представление о характере города. Один приезжий обратил внимание на обилие коршунов, которые, будучи «совсем ручными», по-хозяйски расхаживали по улицам; они очищали город от падали и отбросов, и мясники швыряли им потроха. С количеством мясных лавок могло сравниться только количество таверн. Было также отмечено стремление горожан обособиться друг от друга. Домовладельцы отгораживались от соседей каменными стенами; нечто подобное наблюдалось в тавернах, где устанавливались деревянные перегородки, «дабы сидящие за одним столом не видели, что делается за другим». В кипучей городской тесноте, в лондонском многолюдье подобные попытки защитить свою частную жизнь были, возможно, естественны и закономерны, однако, сверх этого, они указывают на существенную и постоянную отличительную черту лондонцев.
Другой автор путевых заметок сообщает, что «на улицах мужчины, женщины и дети вечно что-то жуют между обычными трапезами». Те же дети, отвлекаясь от грызения яблок и щелкания орехов, «собирали кровь, протекшую между досками эшафота», после казни отсечением головы на площади Тауэр-хилл. Палач при этом был в белом фартуке, «похожем на мясницкий». Круг, таким образом, замыкается: нашим глазам предстает город, где владычествуют насилие, кровь, мясо и неуемный всепожирающий аппетит.








