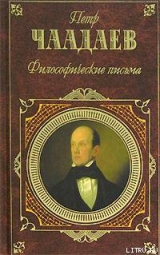
Текст книги "Философические письма (сборник)"
Автор книги: Петр Чаадаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Комментарии
Восемь философических писем, написанных по-французски в 1828—1830 гг., составляют одну непрерывную серию, имеют внутреннюю логику развития мысли, что предполагает единство их последовательного восприятия. Непосредственным толчком для оформления выраженных в них идей послужило одно из посланий Екатерины Дмитриевны Пановой, сестры современника Пушкина и члена литературно-театрального общества «Зеленая лампа», а впоследствии известного музыковеда А. Д. Улыбышева.
Биограф Чаадаева М.Н. Лонгинов так описывает их взаимоотношения: «Они встретились нечаянно. Чаадаев увидел существо, томившееся пустотой окружавшей среды, бессознательно понимавшее, что жизнь его чем-то извращена, инстинктивно искавшее выхода из заколдованного круга душившей его среды. Чаадаев не мог не принять участия в этой женщине; он был увлечен непреодолимым желанием подать ей руку помощи, объяснить ей, чего именно ей недоставало, к чему она стремилась невольно, не определяя себе точно цели. Дом этой женщины был почти единственным привлекавшим его местом, и откровенные беседы с ней проливали в сердце Чаадаева ту отраду, которая неразлучна с обществом милой женщины, искренно предающейся чувству дружбы. Между ними завязалась переписка, к которой принадлежит известное письмо Чаадаева, напечатанное через семь лет и наделавшее ему столько хлопот».[144]144
Лонгинов М. Воспоминание о П. Я. Чаадаеве// Русский вестник. 1862. № 11. С. 141—142.
[Закрыть]
Приводим текст послания Пановой, важного для понимания первого философического письма.
«Уже давно, милостивый государь, я хотела написать вам; боязнь быть навязчивой, мысль, что вы уже не проявляете более никакого интереса к тому, что касается меня, удерживала меня, но наконец я решилась послать вам еще это письмо; оно вероятно будет последним, которое вы получите от меня.
Я вижу, к несчастью, что потеряла то благорасположение, которое вы мне оказывали некогда; я знаю: вы думаете, что в том желании поучаться в деле религии, которое я выказывала, была фальшь: эта мысль для меня невыносима; без сомнения – у меня много недостатков, но никогда, уверяю вас, притворство ни на миг не находило места в моем сердце; я видела, как всецело вы поглощены религиозными идеями, и мое восхищение, мое глубокое уважение к вашему характеру внушили мне потребность заняться теми же мыслями, как и вы; я со всем жаром, со всем энтузиазмом, свойственным моему характеру, отдалась этим столь новым для меня чувствам. Слыша ваши речи, я веровала; мне казалось в эти минуты, что убеждение мое было совершенным и полным, но затем, когда я оставалась одна, я вновь начинала сомневаться, совесть укоряла меня в склонности к католичеству, я говорила себе, что у меня нет личного убеждения и что я только повторяю себе, что вы не можете заблуждаться; действительно, это производило наибольшее впечатление на мою веру, и мотив этот был чисто человеческим. Поверьте, милостивый государь, моим уверениям, что все эти столь различные волнения, которые я не в силах была умерить, значительно повлияли на мое здоровье; я была в постоянном волнении и всегда недовольна собою, я должна была казаться вам весьма часто сумасбродной и экзальтированной… вашему характеру свойственна большая строгость… я замечала за последнее время, что вы стали удаляться от нашего общества, но я не угадывала причины этого. Слова, сказанные вами моему мужу, просветили меня на этот счет. Не стану говорить вам, как я страдала, думая о том мнении, которое вы могли составить обо мне; это было жестоким, но справедливым наказанием за то презрение, которое я всегда питала к мнению света… Но пора кончить это письмо; я желала бы, чтоб оно достигло своей цели, а именно убедило бы вас, что я ни в чем не притворялась, что я не думала разыгрывать роли, чтобы заслужить вашу дружбу, что если я потеряла ваше уважение, то ничто на свете не может вознаградить меня за эту потерю, даже сознание, что я ничего не сделала, что могло бы навлечь на меня это несчастье. Прощайте, милостивый государь, если вы мне напишете несколько слов в ответ, я буду очень счастлива, но решительно не смею ласкать себя этой надеждой.
Е. Панова».[145]145
СП. Т. 2. С. 311—312.
[Закрыть]
Пытаясь разрешить мучительные сомнения корреспондентки, Чаадаев продумывает разнородные идеи, в которых проблемы его собственного сознания и душевное неустройство Пановой, различные общественно-исторические ситуации и мировые цели как бы перекликаются и просматриваются друг через друга. Все это подсказывает ему искомый жанр, соответствующий не только своеобразию адресата, но и характеру его философии, ее широкому предназначению, и личное послание в процессе работы превращается в знаменитое первое философическое письмо, представляющее собой как бы введение ко всем остальным. В нем автор постепенно отходит от личных проблем и обращается, углубляя сравнительную характеристику России и Европы, к истории, являющейся, по его словам, «ключом к пониманию народов» и открывающей разным народам их роль в мировом процессе.
Чаадаев довольно долго работал над расширенным ответом Пановой, к моменту его окончания уже прервал с нею знакомство и не отправил письма. Но эпистолярная форма решительно выбрана, и последующие письма, по его уточнению, написаны «как будто к той же женщине».
Если в первом философическом письме вопрос о благой роли провидения как в индивидуальной, так и в социальной жизни ставится в религиозно-публицистическом плане, то во втором, третьем, четвертом и пятом письмах автор переходит к его многостороннему рассмотрению «аргументами разума», используя достижения философии и естествознания. Теперь он, говоря его собственными словами, стремится «сочетаться с доктринами дня», применить «рациональную манеру», физический, математический и биологический «маневр» для доказательства того, что христианство заключает в своем лоне науку, философию, историю, социологию и самую жизнь в единстве ее таинственной непрерывности и беспредельной преемственности. И только в таком религиозно обусловленном единстве возможен, по его мнению, прогресс, долженствующий, если он подлинный, основываться на христианской идее бесконечности.
По мнению Чаадаева, провиденциалистская точка зрения необходима и исторической науке, погрязшей в фактособирательстве и в бесплодных выводах либо о необъяснимом «механическом совершенствовании» человеческого духа, либо о его беспричинном и бессмысленном движении. Следовательно, историческая наука, считает он, должна стать составной частью религиозной философии и получать характер истины не от хроники, а от нравственного разума, улавливающего проявления и воздействия «совершенно мудрого разума». История, в понимании автора, обязана не только уяснить «всеобщий закон» смены эпох и суметь выделить в них традиции продолжения «первичного факта нравственного бытия», но и тщательно перепроверить в этом свете «всякую славу», совершить «неумолимый суд над красою и гордостью всех веков». В шестом и седьмом философических письмах Чаадаев переоценивает различные исторические репутации и рассматривает важные эпохи мировой истории в русле своей религиозно-прогрессистской логики. Каждому народу, заключает он, необходимо, глубоко уяснив своеобразие своего прошлого и настоящего, проникнуться предчувствием и «предугадать поприще, которое ему назначено пройти в будущем» для установления грядущей вселенской гармонии.
Чаадаев как бы возвращается к проблемам первого философического письма, но уже на основе всего круга размышлений. Поэтому первое философическое письмо, с его тезисами и выводами, может быть прочитано вслед за седьмым, как его логическое продолжение; поставив ряд волнующих его проблем в эмоционально-публицистическом ключе, автор словно требует их повторного и более широкого рассмотрения в холодном свете беспристрастного знания.
В восьмом, и последнем, философическом письме, отчасти носящем методологический характер, он пытается объяснить необходимость этого приема в своей проповеди уже не только индивидуальным своеобразием корреспондентки, как в первом, но и особенностями современного духовного состояния человека вообще. Сейчас, в эпоху хиреющего чувства и развившейся науки, нельзя, по его убеждению, ограничиваться упованием сердца и слепой верой, а следует «простым языком разума» обратиться прямо к мысли, «говорить с веком языком века, а не устарелым языком догмата», чтобы с учетом всевозможных настроений и интересов «увлечь даже самые упорные умы» в лоно «христианской истины».
Апология сумасшедшего
Милосердие, говорит ап. Павел, все терпит, всему верит, все переносит[147]147
Слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам (I Кор., XIII, 17).
[Закрыть]: итак, будем все терпеть, все переносить, всему верить, – будем милосердны. Но прежде всего, катастрофа, только что столь необычайным образом исказившая наше духовное существование и кинувшая на ветер труд целой жизни, является в действительности лишь результатом того зловещего крика, который раздался среди известной части общества при появлении нашей статьи, едкой, если угодно, но, конечно, вовсе не заслуживавшей тех криков, какими ее встретили.
В сущности, правительство только исполнило свой долг; можно даже сказать, что в мерах строгости, применяемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так как они, без сомнения, далеко не превзошли ожиданий значительного круга лиц. В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями, как не следовать тому, что оно искренно считает серьезным желаньем страны? Совсем другое дело – вопли общества. Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова; и без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов. Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что́ – истина и что – ложь, поэтому нельзя и сердиться на общество, если несколько язвительная филиппика против его немощей задела его за живое. И потому, смею уверить, во мне нет ни тени злобы против этой милой публики, которая так долго и так коварно ласкала меня: я хладнокровно, без всякого раздражения, стараюсь отдать себе отчет в моем странном положении. Не естественно ли, скажите, чтобы я постарался уяснить по мере сил, в каком отношении к себе подобным, своим согражданам и своему богу стоит человек, пораженный безумием по приговору высшей юрисдикции страны?
Я никогда не добивался народных рукоплесканий, не искал милостей толпы; я всегда думал, что род человеческий должен следовать только за своими естественными вождями, помазанниками бога, что он может подвигаться вперед по пути своего истинного прогресса только под руководством тех, кто тем или другим образом получил от самого неба назначение и силу вести его; что общее мнение отнюдь не тождественно с безусловным разумом, как думал один великий писатель нашего времени[148]148
…один великий писатель нашего времени… – французский религиозный философ и публицист Ламенне.
[Закрыть]; что инстинкты масс бесконечно более страстны, более узки и эгоистичны, чем инстинкты отдельного человека; что так называемый здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл; что не в людской толпе рождается истина; что ее нельзя выразить числом; наконец, что во всем своем могуществе и блеске человеческое сознание всегда обнаруживалось только в одиноком уме, который является центром и солнцем его сферы. Как же случилось, что в один прекрасный день я очутился перед разгневанной публикой, – публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали? Как случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не желая иметь дело с людьми нашего времени, в глубине моего сознания завещал грядущим поколениям, лучше осведомленным, – при той гласности в тесном кругу, которую эта мысль приобрела уже издавна, как случилось, что она разбила свои оковы, бежала из своего монастыря и бросилась на улицу, вприпрыжку среди остолбенелой толпы? Этого я не в состоянии объяснить. Но вот что я могу утверждать с полною уверенностью.
Уже триста лет Россия стремится слиться с Западной Европой, заимствует оттуда все наиболее серьезные свои идеи, наиболее плодотворные свои познания и свои живейшие наслаждения. Но вот уже век и более, как она не ограничивается и этим. Величайший из наших царей[149]149
Величайший из наших царей… – Петр I.
[Закрыть], тот, который, по общепринятому мнению, начал для нас новую эру, которому, как все говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, какими мы теперь обладаем, полтораста лет назад пред лицом всего мира отрекся от старой России. Своим могучим дуновением он смёл все наши учреждения; он вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и грудой бросил туда все наши предания. Он сам пошел в страны Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим; он преклонился пред Западом и встал нашим господином и законодателем. Он ввел в наш язык западные речения; свою новую столицу он назвал западным именем; он отбросил свой наследственный титул и принял титул западный; наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои державные решения западным именем. С этого времени мы только и делали, что, не сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя веяния, приходившие к нам оттуда, и питались ими. Должно сказать, что наши государи, которые почти всегда вели нас за руку, которые почти всегда тащили страну на буксире без всякого участия самой страны, сами заставили нас принять нравы, язык и одежду Запада. Из западных книг мы научились произносить по складам имена вещей. Нашей собственной истории научила нас одна из западных стран; мы целиком перевели западную литературу, выучили ее наизусть, нарядились в ее лоскутья и наконец стали счастливы, что походим на Запад, и гордились, когда он снисходительно соглашался причислять нас к своим.
Надо сознаться – оно было прекрасно, это создание Петра Великого, эта могучая мысль, овладевшая нами и толкнувшая нас на тот путь, который нам суждено было пройти с таким блеском. Глубоко было его слово, обращенное к нам: «Видите ли там эту цивилизацию, плод стольких трудов, – эти науки и искусства, стоившие таких усилий стольким поколениям! все это ваше при том условии, чтобы вы отказались от ваших предрассудков, не охраняли ревниво вашего варварского прошлого и не кичились веками вашего невежества, но целью своего честолюбия поставили единственно усвоение трудов, совершенных всеми народами, богатств, добытых человеческим разумом под всеми широтами земного шара». И не для своей только нации работал великий человек. Эти люди, отмеченные провидением, всегда посылаются для всего человечества. Сначала их присваивает один народ, затем их поглощает все человечество, подобно тому, как большая река, оплодотворив обширные пространства, несет затем свои воды в дань океану. Чем иным, как не новым усилием человеческого гения выйти из тесной ограды родной страны, чтобы занять место на широкой арене человечества, было зрелище, которое он явил миру, когда, оставив царский сан и свою страну, он скрылся в последних рядах цивилизованных народов? Таков был урок, который мы должны были усвоить; мы действительно воспользовались им и до сего дня шли по пути, который предначертал нам великий император. Наше громадное развитие есть только осуществление этой великолепной программы. Никогда ни один народ не был менее пристрастен к самому себе, нежели русский народ, каким воспитал его Петр Великий, и ни один народ не достиг также более славных успехов на поприще прогресса. Высокий ум этого необыкновенного человека безошибочно угадал, какова должна быть наша исходная точка на пути цивилизации и всемирного умственного движения. Он видел, что, за полным почти отсутствием у нас исторических данных, мы не можем утвердить наше будущее на этой бессильной основе; он хорошо понял, что, стоя лицом к лицу со старой европейской цивилизацией, которая является последним выражением всех прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться в нашей истории и незачем тащиться, подобно западным народам, чрез хаос национальных предрассудков, по узким тропинкам местных идей, по изрытым колеям туземной традиции, что мы должны свободным порывом наших внутренних сил, энергическим усилием национального сознания овладеть предназначенной нам судьбой. И вот он освободил нас от всех этих пережитков прошлого, которые загромождают быт исторических обществ и затрудняют их движение; он открыл наш ум всем великим и прекрасным идеям, какие существуют среди людей; он передал нам Запад сполна, каким его сделали века, и дал нам всю его историю за историю, все его будущее за будущее.
Неужели вы думаете, что, если бы он нашел у своего народа богатую и плодотворную историю, живые предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы кинуть его в новую форму? Неужели вы думаете, что, будь пред ним резко очерченная, ярко выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы его, напротив, обратиться к этой самой народности за средствами, необходимыми для возрождения его страны? И, с другой стороны, позволила ли бы страна, чтобы у нее отняли ее прошлое и, так сказать, навязали ей прошлое Европы? Но ничего этого не было. Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как бы велик ни был гений этого человека и необычайная энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало властно того пути, по которому она должна была двигаться, чьи традиции были бессильны создать ее будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что́ могло бы оправдать сопротивление. Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном развитии. Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти всегда заимствована. Но в этом наблюдении нет ничего обидного для национального чувства; если оно верно, его следует принять – вот и все. Есть великие народы, – как и великие исторические личности, – которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно определяет верховная логика провидения: таков именно наш народ; но, повторяю, все это нисколько не касается национальной чести. История всякого народа представляет собою не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей; чрез события должна нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел борозду в умах, запечатлелся в сердцах, и никакая сила в мире не может изгнать его оттуда. Эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовою и рассказывает ее; но придет он или нет, она все равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы ни был он незаметен и ничтожен, носит ее в глубине своего существа. Именно этой истории мы и не имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый подметил это.
Возможно, конечно, что наши фанатические славяне при их разнообразных поисках будут время от времени откапывать диковинки для наших музеев и библиотек; но, по моему мнению, позволительно сомневаться, чтобы им удалось когда-нибудь извлечь из нашей исторической почвы нечто такое, что могло бы заполнить пустоту наших душ и дать плотность нашему расплывчатому сознанию. Взгляните на средневековую Европу: там нет события, которое не было бы в некотором смысле безусловной необходимостью и которое не оставило бы глубоких следов в сердце человечества. А почему? Потому что за каждым событием вы находите там идею, потому что средневековая история – это история мысли нового времени, стремящейся воплотиться в искусстве, науке, в личной жизни и в обществе. И оттого – сколько борозд провела эта история в сознании людей, как разрыхлила она ту почву, на которой действует человеческий ум! Я хорошо знаю, что не всякая история развивалась так строго и логически, как история этой удивительной эпохи, когда под властью единого верховного начала созидалось христианское общество; тем не менее несомненно, что именно таков истинный характер исторического развития одного ли народа или целой семьи народов и что нации, лишенные подобного прошлого, должны смиренно искать элементов своего дальнейшего прогресса не в своей истории, не в своей памяти, а в чем-нибудь другом. С жизнью народов бывает почти то же, что́ с жизнью отдельных людей. Всякий человек живет, но только человек гениальный или поставленный в какие-нибудь особенные условия имеет настоящую историю. Пусть, например, какой-нибудь народ, благодаря стечению обстоятельств, не им созданных, в силу географического положения, не им выбранного, расселится на громадном пространстве, не сознавая того, что делает, и в один прекрасный день окажется могущественным народом: это будет, конечно, изумительное явление, и ему можно удивляться сколько угодно; но что, вы думаете, может сказать о нем история? Ведь, в сущности, это – не что иное, как факт чисто материальный, так сказать, географический, правда, в огромных размерах, но и только. История запомнит его, занесет в свою летопись, потом перевернет страницу, и тем все кончится. Настоящая история этого народа начнется лишь с того дня, когда он проникнется идеей, которая ему доверена и которую он призван осуществить, и когда начнет выполнять ее с тем настойчивым, хотя и скрытым, инстинктом, который ведет народы к их предназначению. Вот момент, который я всеми силами моего сердца призываю для моей родины, вот какую задачу я хотел бы, чтобы вы взяли на себя, мои милые друзья и сограждане, живущие в век высокой образованности и только что так хорошо показавшие мне, как ярко пылает в вас святая любовь к отечеству.
Мир искони делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это – два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие весь жизненный строй человеческого рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе. По этим первоначальным данным естественно сложилось общество. На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыню, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, поглотил его в своем широком обхвате. Но на Востоке покорные умы, коленопреклоненные пред историческим авторитетом, истощились в безропотном служении священному для них принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, не догадываясь о новых судьбах, которые готовились для них; между тем на Западе они шли гордо и свободно, преклоняясь только пред авторитетом разума и неба, останавливаясь только пред неизвестным, непрестанно устремив взор в безграничное будущее. И здесь они еще идут вперед, – вы это знаете; и вы знаете также, что со времени Петра Великого и мы думали, что идем вместе с ними.
Но вот является новая школа[150]150
Но вот является новая школа… – имеется в виду славянофильство.
[Закрыть]. Больше не нужно Запада, надо разрушить создание Петра Великого, надо снова уйти в пустыню. Забыв о том, что сделал для нас Запад, не зная благодарности к – великому человеку, который нас цивилизовал, и к Европе, которая нас обучила, они отвергают и Европу, и великого человека, и в пылу увлечения этот новоиспеченный патриотизм уже спешит провозгласить нас любимыми детьми Востока. Какая нам нужда, говорят они, искать просвещения у народов Запада? Разве у нас самих не было всех зачатков социального строя неизмеримо лучшего, нежели европейский? Почему не выждали действия времени? Предоставленные самим себе, нашему светлому уму, плодотворному началу, скрытому в недрах нашей мощной природы, и особенно нашей святой вере, мы скоро опередили бы все эти народы, преданные заблуждению и лжи. Да и чему нам было завидовать на Западе? Его религиозным войнам, его папству, рыцарству, инквизиции? Прекрасные вещи, нечего сказать! Запад ли родина науки и всех глубоких вещей? Нет – как известно, Восток. Итак, удалимся на этот Восток, которого мы всюду касаемся, откуда мы не так давно получили наши верования, законы, добродетели, словом, все, что сделало нас самым могущественным народом на земле. Старый Восток сходит со сцены: не мы ли его естественные наследники? Между нами будут жить отныне эти дивные предания, среди нас осуществятся эти великие и таинственные истины, хранение которых было вверено ему от начала вещей. – Вы понимаете теперь, откуда пришла буря, которая только что разразилась надо мной, и вы видите, что у нас совершается настоящий переворот в национальной мысли, страстная реакция против просвещения, против идей Запада, – против того просвещения и тех идей, которые сделали нас тем, что мы есть, и плодом которых является эта самая реакция, толкающая нас теперь против них. Но на этот раз толчок исходит не сверху. Напротив, в высших слоях общества память нашего державного преобразователя, говорят, никогда не почиталась более, чем теперь. Итак, почин всецело принадлежит стране. Куда приведет нас этот первый акт эмансипированного народного разума? Бог весть! Но кто серьезно любит свою родину, того не может не огорчать глубоко это отступничество наших наиболее передовых умов от всего, чему мы обязаны нашей славой, нашим величием; и, я думаю, дело честного гражданина – стараться по мере сил оценить это необычайное явление.
Мы живем на востоке Европы – это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. У Востока – своя история, не имеющая ничего общего с нашей. Ему присуща, как мы только что видели, плодотворная идея, которая в свое время обусловила громадное развитие разума, которая исполнила свое назначение с удивительной силою, но которой уже не суждено снова проявиться на мировой сцене. Эта идея поставила духовное начало во главу общества; она подчинила все власти одному ненарушимому высшему закону – закону истории; она глубоко разработала систему нравственных иерархий; и хотя она втиснула жизнь в слишком тесные рамки, однако она освободила ее от всякого внешнего воздействия и отметила печатью удивительной глубины. У нас не было ничего подобного. Духовное начало, неизменно подчиненное светскому, никогда не утвердилось на вершине общества; исторический закон, традиция, никогда не получал у нас исключительного господства; жизнь никогда не устраивалась у нас неизменным образом; наконец, нравственной иерархии у нас никогда не было и следа. Мы просто северный народ и по идеям, как и по климату, очень далеки от благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга. Некоторые из наших областей, правда, граничат с государствами Востока, но наши центры не там, не там наша жизнь, и она никогда там не будет, пока какое-нибудь планетное возмущение не сдвинет с места земную ось или новый геологический переворот опять не бросит южные организмы в полярные льды.
Дело в том, что мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом характеризовано, ни один из великих переломов нашей истории не был добросовестно оценен; отсюда все эти странные фантазии, все эти ретроспективные утопии, все эти мечты о невозможном будущем, которые волнуют теперь наши патриотические умы. Пятьдесят лет назад немецкие ученые открыли наших летописцев[151]151
…немецкие ученые открыли наших летописцев… – имеются в виду труды членов основанной в Петербурге в 20-х гг. XVIII в. Академии наук Г.Ф. Миллера и Авг. Шлецера, кропотливо собиравших и издававших летописи и другие памятники древнерусской литературы.
[Закрыть]; потом Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей[152]152
…Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей… – в многотомной «Истории государства Российского».
[Закрыть]; в наши дни плохие писатели, неумелые антикварии и несколько неудавшихся поэтов, не владея ни ученостью немцев, ни пером знаменитого историка, самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит: таков итог наших трудов по национальной истории. Надо признаться, что из всего этого мудрено извлечь серьезное предчувствие ожидающих нас судеб. Между тем именно в нем теперь все дело; именно эти результаты составляют в настоящее время весь интерес исторических изысканий. Серьезная мысль нашего времени требует прежде всего строгого мышления, добросовестного анализа тех моментов, когда жизнь обнаруживалась у данного народа с большей или меньшей глубиной, когда его социальный принцип проявлялся во всей своей чистоте, ибо в этом – будущее, в этом элементы его возможного прогресса. Если такие моменты редки в вашей истории, если жизнь у вас не была мощной и глубокой, если закон, которому подчинены ваши судьбы, представляет собою не лучезарное начало, окрепшее в ярком свете национальных подвигов, а нечто бледное и тусклое, скрывающееся от солнечного света в подземных сферах вашего социального существования, – не отталкивайте истины, не воображайте, что вы жили жизнью народов исторических, когда на самом деле, похороненные в вашей необъятной гробнице, вы жили только жизнью ископаемых. Но если в этой пустоте вы как-нибудь наткнетесь на момент, когда народ действительно жил, когда его сердце начинало биться по-настоящему, если вы услышите, как шумит и встает вокруг вас народная волна, – о, тогда остановитесь, размышляйте, изучайте, – ваш труд не будет потерян: вы узнаете, на что способен ваш народ в великие дни, чего он может ждать в будущем. Таков был у нас, например, момент, закончивший страшную драму междуцарствия[153]153
Страшная драма междуцарствия – речь идет о явлении самозванства и социальном разладе в Смутное время в 1605—1613 гг.
[Закрыть], когда народ, доведенный до крайности, стыдясь самого себя, издал наконец свой великий сторожевой клич и, сразив врага свободным порывом всех скрытых сил своего существа, поднял на щит благородную фамилию, царствующую теперь над нами: момент беспримерный, которому нельзя достаточно надивиться, особенно если вспомнить пустоту предшествующих веков нашей истории и совершенно особенное положение, в каком находилась страна в эту достопамятную минуту. Отсюда ясно, что я очень далек от приписанного мне требования вычеркнуть все наши воспоминания.








