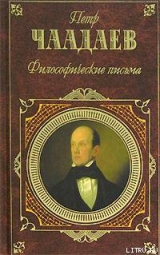
Текст книги "Философические письма (сборник)"
Автор книги: Петр Чаадаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Сведенборг был очень глубокомысленный человек. Но он напрасно составил себе такое внутреннее пифагорическое учение: оно ослабило действие его творений. Что же касается до его короткого знакомства с силами небесными, то оно совсем не удивительно; я удивился бы гораздо больше, если бы с таким особенным устройством разума он не считал себя коротко с ними знакомым.
Вы часто слыхали, что сон есть образ смерти; мне кажется, что сон есть настоящая смерть, а то что смертью называют, кто знает? – Может быть, оно-то и есть жизнь? – Мое я перерывается сном, смертью – нет: иначе было бы ничтожество. Из гроба не просыпаемся; ото сна встаем и входим опять в наше я. – Но скажите мне, живем ли мы, когда ни на минуту не чувствуем своей жизни?
Дело в том, что истинная смерть находится в самой жизни. Половину жизни бываем мы мертвы, мертвы совсем, не гиперболически, не воображаемо, но действительно, истинно мертвы. Взгляните на себя со вниманием обдуманности: вы тысячу раз на день увидите, что за минуту перед этой вы столько же были живы, сколько за час до вашего рождения; что не имели понятия ни о том, что делали, ни даже сознания о вашем существовании. Где же тогда была жизнь? – Это жизнь растительная, жизнь зоофита, но такая ли жизнь одушевленного творения? – тем паче существа разумного!
Жизнь убегает от нас повсеминутно, часто к нам возвращается, но никак нельзя сказать, чтобы мы жили не переставая. Жизнь разумная прерывается всякий раз, как исчезает сознание жизни. Чем больше таких минут, тем меньше разумной жизни, а если они совсем не возвращаются, вот и смерть. – Чтобы умереть таким образом, не нужно прекращать жизни, другой же смерти нет. Смерть в самой жизни, вот все, что называют смертью.
Между тем объясним возможные здесь недоразумения. Когда говорю сознание жизни, я не подразумеваю то идеологическое сознание, на которое опирается новая философия: простое чувство существования. Я понимаю под этим сознанием не только чувство жизни, но и отчетливость в ней. Это сознание есть власть, данная нам действовать в настоящую минуту на минуту будущую; устраивать, обделывать жизнь нашу, а не просто предаваться ее течению, как делают скоты бессловесные. – Когда эта совесть, это сознание потеряно, то нет воскресения. Знаете ли почему? – Потому что это-то и есть ад, проклятие, отчуждение! – Для существа разумного может ли быть мука тяжелее ничтожества?
То, что язычники называли мудростью, добродетелью, верховным благом, мы зовем одним словом: небо.
Очень знаю, откуда приходят ко мне дурные мысли; одному безумцу предоставляю знать, откуда берет он благие.
Любовь христианская: рассудок без эгоизма. – Рассудок, отказавшийся от способности все относить к себе.
Правильно организованный разум стремится к покорности, к вере, так точно, как дурно организованный отталкивает всякую веру, противится всякой покорности.
Философ называет богом закон, гармонию, вселенную, не знаю, что еще; потом говорит: божества нельзя постигнуть. – Мудрено ли? Как мне постигнуть этого несообразного бога, раздробленного до бесконечности, материю и разум вкупе?
Но этот бог, он дело рук ваших, не тот бог, который есть сый. Из самой простой идеи вы сделали самую сложную, великое чудо, что не умеете взгромоздить ее в вашу голову!
Мы знаем одну только маленькую частицу бытия нашего, ту, которую проходим в настоящей жизни; знаем и то, что оно продолжится гораздо более, и, однако, неимоверная вещь! хотим постигнуть закон целого бытия нашего!
Пантеист называет мир Все: предполагает его совершенным. В этом Все находит причину и начало всего. Это Все вечно, бесконечно, разумно, содержит в себе все времена и все пространства. Одним словом, все качества, которые деист приписывает богу, пантеист отдает их своему Все.
Почему же и не так? Система основательная и способная подтвердиться строгими доказательствами. Допустите слово Все, и остальное будет необходимый вывод принятого начала.
Но все это заключено очевидно в одном слове, помещенном на месте другого. Спиноза мог быть очень благочестив и, вероятно, был благочестив. Читая его, против воли увлекаешься чем-то чрезмерно набожным, чем-то проникающим сквозь математическую дерзость его аргумента и тем вернее поражающим, чем менее действие было ожидано.
Впрочем, всякий излишний восторг, с которым рассматривают природу, ведет к пантеизму; – находя во всем разум, дает душу всему, и вся вселенная становится великой разумной душою, как у пантеиста. – Смотрите Бонета, Палея и других.
Инстинкт животный, инстинкт человека, два совершенно различных свойства. – Первое есть побуждение физическое, чувственное; другое – неясное разумение души, которое хотя по неясности своей сливается с ощущением, но весьма от него отлично.
Человек не по образу животных обладает инстинктом своим: это уничтожило бы разум; он обладает им свойственным человеку образом. Один инстинкт ничего не решает для человека, он действует в нем, соединясь с разумом, которого он иногда удваивает энергию, иногда ослабляет. В животных инстинкт есть единственная причина всей деятельности, потому-то власть его над ними так велика, что в иных случаях превышает будто власть самого разума над человеком.
Что нужно для того, чтобы ясно видеть? Не глядеть сквозь самих себя.
Что такое христианство? – Наука жизни и смерти.
Что такое общественный порядок? Временное лекарство временному недугу.
Учреждения политические, юридические, законодательные и прочие подобные, на что они? Для поправления вреда ими же сделанного.
Куда делись варвары, истребители древнего мира? – Обратились в христиан.
Что был бы мир, если б не явился Христос? – Ничто.
Случалось ли кому видеть во сне, что дважды два пять? – Никому. – Почему же говорить, что во сне не действует разум?
Во Франции на что нужна мысль? – чтоб ее высказать. – В Англии? – чтоб привести ее в исполнение. – В Германии? – чтоб ее обдумать. – У нас? – Ни на что! – и знаете ли почему?
Люди воображают, что живут в обществе, когда стеснятся в города, в селы. Как будто собраться в кучу, вместе пастись, как бараны, называется жить в обществе!
Пять лет тому, как во Флоренции я встретился с человеком, который очень мне понравился. Я провел с ним несколько часов; часов, не больше, но приятных, сладких часов, и тогда еще не умел я извлечь из него всю пользу, которую мог бы извлечь. Он был английский методист; жил, кажется, при миссии в Южной Франции. Когда я с ним познакомился, то он возвратился недавно из Иерусалима. В нем поражала чудная смесь живости, горячего усердия к высокому предмету всех его мыслей – к религии – и равнодушия, холодного небрежения ко всему прочему. В галереях Италии великие образцы искусства не волновали души его, между тем как маленькие саркофаги первых веков христианства неизъяснимо его привлекали. Он рассматривал их, разбирал с исступлением; видел в них что-то святое, трогательное, глубоко поучительное и погружался охотно в возбужденные ими размышления. – Итак, повторяю: с этим человеком провел я несколько часов, скоро протекших, почти мгновение, – и с тех пор не имел о нем никакого известия; – и что же? – теперь я наслаждаюсь его обществом чаще, нежели обществом прочих людей. Каждый день воспоминание о нем посещает меня; оно приносит с собою такое волнение, такую сердечную думу, что укрепляет против печалей, меня окружающих, защищает от частых нападений уныния. – Вот общество, приличное существам разумным! вот как души действуют взаимно одна на другую: им время, ни пространство препоною быть не могут.
Слышу, что говорят иногда о старом человеке: бедный! он стал опять ребенком. – Нет, он, видно, не выходил еще из ребячества. Пересмотрите жизнь его: вероятно прежде он ребячился больше, нежели теперь, а теперь продолжает быть тем, чем всегда был.
Счастлив был бы человек, если б мог возвратиться на прежний путь свой! – Это невозможно! Установленный порядок требует, чтоб он шел вперед, всегда, не останавливаясь, вперед; ни шагу назад, вперед беспрестанно, собирая на главу свою вину за виною. – Перейдет смерть, тогда, да, тогда есть надежда, что благость божия позволит ему остановиться, пересмотреть пройденное время и, может статься, отступить назад.
Есть, однако, христианское вероисповедание (вы его знаете), в котором не признают чистилища. Хотят перепрыгнуть из этой жизни прямо в другую, где все невозвратно, неизменно, неисправимо. – Учение жестокое! – больше жестокое, нежели ложное.
Если хотите знать, что такое душа в животных, то (прошу извинения!) разберите, что происходит в вашей душе в течение большей половины дня.
Заметьте, что самая высокая степень понятливости в животном не доказывает ничего. – Например, если мы видим, что оно не может решиться на какое-нибудь действие и останавливается, как будто обдумывая его, то ведь не знаем, до какой степени простираться может ощущение в существах, им одним руководимых. – В животных есть дар подражания совершенно чувственный, почти механический, который, если б мы умели его хорошенько постигнуть, изъяснил бы нам все, что кажется непонятным, не оставляя следа недоумения. – Мы сами очень многому подражаем машинально, без малейшего размышления, не думая, берем привычки людей, с которыми живем, присваиваем себе их движения, их ухватки и даже иногда перенимаем голос. Вот наша чисто животная натура.
Что же касается до этой слабой возможности усовершенствования, которую встречаем в животных, то для нее не нужно прибегать даже к ощущению: одно органическое начало изъяснит нам ее. – Растения не имеют ли свои привычки? – Между тем можно, зная совершенно устройство их, дать им новые привычки, некоторого рода воспитание, – след, и в растениях было бы усовершенствование, как в животных. Бюффон и прочие натуралисты почти то же сказали. Но опытное созерцание собственной нашей природы заслуживает особенное внимание. Нам очень важно знать, что человек не целый день бывает человеком.
Бюффон, отнявши у них разум, дает животным какое-то самосознание, ощущение собственного бытия. Странная мысль! Я сам могу ли постоянно иметь это самосознание? Не нужно ли даже некоторое усилие, чтоб его себе напомнить? – Неужели животное будет иметь качество, которое мне не дано во всякую минуту?
Скажем себе в минуты уныния: можем ли быть несчастны, жалки мы, созданные по образу и подобию божию?
Все, все отражается в самосознании. Всякий закон природы повторяется в моем я. Все явления физического мира являются в мире невещественном. Мысль во внутренности поверяет все изменения внешней природы. Но мысль понимает, ведает свое действие, природа не ведает. – Знание есть жизнь мысли, жизнь природы есть отрицательное явление. Когда мысль перестает познавать, она уничтожается. – Вот почему спаситель сказал: жизнь вечная есть знать тебя, Отец!
Человек может верить уничтожению бытия своего в течение целой своей жизни, но за минуту перед смертью эта уверенность исчезала и всегда исчезать будет. В минуту, начинающую уничтожение, он чувствует продолжение жизни своей. – В эту минуту великий закон всеобщей непроходимости существ в высочайшей степени выражается в каждом отдельном существе!
В натуре есть сила пластическая, творящая одни формы. В ней-то, вероятно, заключено истинное жизненное начало, сосредоточенье всех естественных сил. Оно замечательнее всего является в кристаллизации, там надобно изучать его и обдумывать. Кристаллизация есть поистине странное явление: вполне геометрическое. Достойно удивления то, что природа таким способом образует первобытные составы тел: неистощимый источник размышлений!
В разуме есть также сила, этой силе соответствующая: воображение. – Эти две силы всеобщей натуры не больше ли прочих содержат в себе могущественной способности созидать? Не больше ли прочих подходят к этому могуществу и подражают ему?
Что делаем мы, занимаясь спасением нашим? Даем жизнь душе: труд божественный. – Тот, кто дал жизнь неисчислимому множеству душ, кто дает ее беспрестанно, кто до скончания веков будет разливать, распространять жизнь повсюду и во всем – скажите, бог он или нет?
Что такое разум? – Признать другого, кроме собственного, не имею я права; свой же разум называю я ничто; – скажите, не властен ли дать ему такое название?
Думаете ли вы, что человек способнее понять смерть, нежели рождение? – Нет, конечно. Он видит, как около него образуются и истребляются существа, и между прочими существа ему подобные. Он не знает, жили ли они под другою оболочкою прежде, нежели приняли теперешний образ, не знает, будут ли они жить, сложив его с себя. – Однако он воображает, что постигает несколько смерть, потому что ее боится. Его пугает не страдание: он не знает, есть ли в смерти страдание; не уничтожение: ибо что же страшного в мысли уничтожиться, перестать жить? – Выходит, что он проведал, неизвестно как, что после смерти будет опять жить. Но какая это будет жизнь и каким образом жить ее, какое в ней отличие от здешней? – вот что ему кажется ужасно. – Вот еще великое предание, теряющееся в незапамятных временах, как и многие другие основные идеи человеческого рассудка, созданные не им самим, но переданные и сообщенные тогда еще, когда созидался во вселенной разум!
Но что же такое смерть? Та минута в целом бытии человека, в которую он перестает видеть себя в теле. – Вот все.
Нельзя доказать строго ни бессмертия души, ни ее невещественность, но можно доказать жизнь души после той минуты, которую называем смертью: для нравственности этого довольно.
Христианин беспрестанно переходит с неба на землю, с земли на небо: кончит тем, что остается на небе.
Есть больше веры законной, нежели законного сомнения: отсюда превосходное слово св. Павла: Любовь всему верит.
Никто не считает себя вправе получить какую-нибудь вещь, не потрудившись протянуть за нею хоть руку: одно счастие исключено из этого общего правила. Всякий требует счастия, не сделавши ничего для его приобретения, т. е. для того, чтобы быть достойным счастия.
Надеяться на бога есть единственный способ в него верить, и потому кто не молится, тот не верит.
Христианское бессмертие это жизнь без смерти, совсем не так, как думают, жизнь после смерти.
Умер человек, которого вы любили, уважали: теперь он стал для вас воспоминанием печальным, может быть, печальным и сладостным вместе. Но вы уже не любите его, не уважаете, вы только о нем помните. И можно ли в самой вещи любить и уважать прах? – Но если этот человек жив? Живет где, не знаю, в какой-нибудь стране дальней, в земле неизвестной? Если он только в отсутствии? разлучен с вами, как и многие друзья ваши? – Для чего же тогда не питать к нему тех же чувств любви, которые вы имели прежде? – И вот наше служение святым. Верить бессмертию души, быть убежденным в этой вере и не чтить людей, заслуживших почтение, потому что они живут не на этой земле – не безрассудно ли такое противоречие?
Помните ли, что было с вами в первый год вашей жизни? – Не помню, говорите вы. – Ну что же мудреного, что вы не помните, что было с вами прежде вашего рождения?
Нам приказано любить ближнего, но для чего? – Для того, чтобы мы любили кого-нибудь кроме самих себя. Урока нравственного тут нет, это просто логика. Что б я ни делал, всегда нахожу что-нибудь между истиной и мною: это нечто сам я; истина сокрыта мне одним мною. – Есть одно средство увидеть истину – удалить себя. – Мне кажется, не худо говорить себе почаще то, что Диоген, как вы знаете, сказал Александру: отойди, друг мой, ты застишь мне солнце.
Одно только око христианской любви видит ясно: в этом заключена вся философия христианства.
Что производят люди, живучи вместе? Азот, т. е. истребляют друг друга.
Понимаете ли вы, откуда в вас родится правда? – Нет? – А ложь? – Понимаю.
Все мое существо возмущается, когда слышу, что богу приписывают какое-нибудь несовершенство, какую-нибудь неспособность. – А это делают всякий раз, когда признают вечные законы: неизменный порядок или лейбницову гармонию, или вечную материю, или монад, стихий, или что иное подобное. Следовательно, предполагают, что бог не имеет возможности истребить все зло.
Декарт, как известно, не мог переносить, чтобы определяли границы всемогуществу божию. – Что же до меня касается, ужас, который я чувствовал при одной этой мысли, был всегда звездою моей жизни.
Все определения, какими будем описывать организованное существо, всегда будут годиться целому земному шару. Природу разделяют на организованную и неорганизованную. – Небесные тела не принадлежат ни к тому, ни к другому разряду: в ожидании нового распределения из них составили просто математические точки благодаря неизмеримому пространству, в коем они движутся. Что же касается до нашей планеты, мы знаем одну ее оболочку и из этой оболочки сделали запас обширной науки. Вам это не нравится? Эмпиризм доволен таким распоряжением. Чего же вам более?
Вы, неверующие христианству, вы почитаете себя крепкими духом? – Знайте же, что и крепостью этой нельзя вам чваниться: больше крепости духовной потребно, чтоб быть христианином, нежели чтоб не быть им. – Вас пугает суеверие, предрассудок; больше предрассудка и суеверия в неверии, нежели в вере. – Как сделались вы неверующим? Не так ли, как народ становится христианином? – Не так ли и вы, как народ, повторяете ваш катехизис, не понимая его? – Вы ли выдумали то, что рассказываете с таким убеждением? Бедные люди! посмотрите, не начальник ли вашего прихода научил вас тому?
Когда философ произносит слово человек, всегда ли он знает его значение? – Сомневаюсь.
Человек родится на свет, подобно другим животным; отличается от них организацией, ему свойственной, которая во всем животном царстве дана одному ему. Но не это делает человека существом разумным, просвещенным, существом отдельным, без определенного места во всей природе. Когда пишут рассуждения или истории ума человеческого, то отыскивают способы, какими человек животный доходит до степени человека разумного. Тут столько же заблуждения, сколько неведения. Человек животный становится разумным, правда, но этот переход не необходимый, а только случайный.
Гипотеза человека животного (я говорю гипотеза, потому что никто не видал такого человека; рожденный посреди подобных себе, человек ни минуты не остается в первородном состоянии). Эта гипотеза может иметь место в патологии, в гигиене, примененным к философии, но самой философии на что она годиться может? – Когда философия этим занимается, то вместо философии человека становится философией животных; становится только тою частью натуральной истории, которая описывает нравы животных: главою о человеке в зоологии.
2
106Говорят про Россию, что она не принадлежит ни к Европе, ни к Азии, что это особый мир. Пусть будет так. Но надо еще доказать, что человечество, помимо двух своих сторон, определяемых словами – запад и восток, обладает еще третьей стороной.
107Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.
108Русский либерал – бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это – солнце запада.
109За каждым предметом в природе имеется нечто, что вкладывается в него нашим умом или нашим воображением: это и есть то невидимое, что художник должен воплотить в своем произведении, ибо это именно нас трогает, нас волнует, а вовсе не сам предмет, нами созерцаемый.
110Горе народу, если рабство не смогло его унизить, такой народ создан, чтобы быть рабом.
111Граф де Местр говорил: «Преувеличение есть правда честных людей», т. е. людей с убеждениями, потому что честный человек не может не иметь их.
112Недоброжелательство смертельно для красноречия, если только оно не вызывает негодования или презрения.
113Есть лица, на которых написано «нет»; человек с убеждениями инстинктивно от них отворачивается.
114Есть натуры, лишенные способности утверждать что-либо, которые боятся произнести роковое «да», как молодая девушка, брошенная неумолимою волей родителей в объятия ненавистного человека.
115Слово звучит лишь в отзывчивой среде.
117Люди, всегда красно говорящие, никогда не бывают красноречивы.
118Есть глупцы столь невосприимчивые, что и солнце гения не в силах их оплодотворить.
119Есть умы столь лживые, что даже истина, высказанная ими, становится ложью.
120Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной.
Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно.







