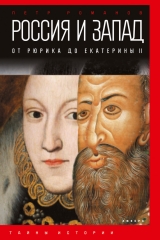
Текст книги "Россия и Запад на качелях истории. От Павла I до Александра II"
Автор книги: Петр Романов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Русский Агамемнон
Во главе антинаполеоновской коалиции встал император Александр I. Как верно подмечено многими, царь сам провозгласил себя предводителем, не спрашивая на то согласия у других монархов. Обратившись после всех бед, обрушившихся на Россию, к Библии, царь действительно ощущал себя неким орудием Божьего Промысла.
В одном из сражений близ Люцена, когда генералы умоляли царя уйти в безопасное место, он убежденно отвечал: «Для меня здесь нет пуль». Новая битва под Дрезденом только подтвердила уверенность Александра в том, что он находится под покровительством Всевышнего. Холм, где находился царь, во время сражения подвергался обстрелу, но Александр оставался на месте. Лишь заметив, что его лошадь тревожно бьет копытом, император, чтобы успокоить ее, отъехал в сторону на несколько метров. На его место встал бывший наполеоновский генерал Моро. Через минуту француза поразило ядро. То же самое произошло и в следующем сражении под Лейпцигом, где ядра падали рядом с царем, не задевая его.
Историк Цветков пишет:
В начале февраля русские войска перешли Одер… Здесь наметилась одна характерная особенность дипломатического поведения Александра. Царь, вступая во владения прусского короля, без всякого гласного или тайного соглашения с последним обратился сначала к его подданным, призвав их к вооруженной борьбе с французским владычеством, а затем от его же имени обратился к подданным других немецких государей. Тем самым он как бы заявлял, что признает себя судьей и вершителем судеб тех стран, куда вступал по собственному произволу. Не дожидаясь признания другими монархами своих прав на руководство сопротивлением Наполеону, он сам провозглашал себя предводителем сражающейся Европы.
И Европа приняла руководство нового Агамемнона, признав особую роль русских в борьбе против наполеоновской Франции и очевидную решимость самого царя довести эту борьбу до победного конца. Прусский король, увидев, как восторженно встречают его подданные русскую армию, подписал с Россией союзный договор. Русские войска вступили в Берлин уже как союзники. В августе, предварительно безуспешно поторговавшись с Наполеоном, войну Франции объявила и Австрия, вызвав бешеное негодование Наполеона. Он писал тогда Коленкуру:
Россия имеет полное право на выгодные условия мира. Она купила их ценой двух тяжких походов, опустошением своих областей, потерей столицы. Австрия, напротив того, не заслуживает ничего. Ничто не огорчило бы меня так, как если бы Австрия в награду за свое вероломство получила выгоды и славу восстановления мира в Европе.
Так или иначе, европейская коалиция от обороны постепенно переходила в наступление. Империя Наполеона начинала рушиться, точно так же, как год назад на российских просторах развалилась Великая армия. Бонапарт по-прежнему демонстрировал свои военные дарования, нанося союзникам ощутимые удары, но силы самой Франции иссякали, французская армия набирала новых рекрутов уже из числа подростков.
Военная кампания 1813 года завершилась в октябре грандиозным трехдневным сражением под Лейпцигом, получившим в истории название «Битвы народов». Против французов, поляков, итальянцев, бельгийцев, саксонцев, голландцев и немцев Рейнского союза сражались русские, австрийцы, пруссаки и шведы. В результате Наполеон уступил поле боя и ретировался во Францию. К концу «Битвы народов» у французов уже не было соратников. Саксонцы начали сражение, стреляя в солдат коалиции, а закончили, паля по отступающим французским частям.
Австрийцы и пруссаки готовы были удовлетвориться достигнутым и подписать с Наполеоном мир. Александр I отказался, заявив, что прочный мир может быть подписан только в Париже. «Я не могу каждый раз поспевать вам на помощь за четыреста лье», – сказал он прусскому королю и австрийскому императору.
Французские маршалы в очереди к православному кресту
Убедить союзников продолжать борьбу царю помог сам Наполеон, отказавшийся в очередной раз от мирных предложений. Хотя условия мира, учитывая весь ущерб, нанесенный французским императором Европе, казались вполне справедливыми: Франции предлагалось всего лишь ограничить свои аппетиты теми границами, которые страна имела в 1790 году. То, что могло устроить рядового француза, не могло устроить Наполеона. Признать границы 1790 года означало для него признать всю бессмысленность и авантюризм десятилетней наполеоновской внешней политики, абсурдность принесенных им жертв. «Я так взволнован гнусным проектом… я считаю себя уже обесчещенным тем, что нам его предлагают», – писал Наполеон Коленкуру, своему представителю на Шатильонском конгрессе. Император по-прежнему полагался только на силу оружия и считал, что одно выигранное у союзников крупное сражение заставит фортуну снова улыбаться Франции и ему лично. При этом, как и накануне московского похода, снова не учитывалось очевидное: то, что союзники (и в первую очередь Александр I) психологически и политически были готовы проиграть еще не одну битву, но все равно обязательно выиграть войну. Так и получилось.
У главных архитекторов победы есть и конкретные имена – Талейран и Александр I. В начале марта к русскому императору прибыл тайный посланец Талейрана – барон Витроль, занимавший скромную должность инспектора казенных ферм. Этот «фермер» и привез царю мудрый совет – перестать фехтовать с Наполеоном на выгодном для него военном поле, бесконечно маневрируя на французской территории, а (пока корсиканец в Париже отсутствует) решительно двинуться на столицу, где обстановка вполне созрела для смены власти.
По другой версии, идея направить войска к Парижу принадлежала корсиканцу Поццо ди Борго, старому врагу Наполеона и одному из приближенных русского императора. Послание Талейрана явилось лишь последним аргументом, убедившим Александра I. В любом случае решение оставалось за царем, и он его принял. Не без труда, но ему удалось убедить своих военачальников, а затем и союзников в необходимости стремительного броска на Париж.
Сам Наполеон, слишком поздно узнавший об этом неожиданном маневре, говорят, воскликнул: «Это превосходный шахматный ход. Никогда бы не поверил, что у союзников есть хоть один генерал, способный до этого додуматься!»
Штурм Парижа, обороной которого командовал маршал Мармон, начался 18 (30) марта и оказался непродолжительным, хотя и кровопролитным. С обеих сторон потери составили тысяч по девять человек, причем основной вклад в успех внесли русские. Они находились на острие атаки, а потому и потери среди союзников у русских были самыми большими – шесть из девяти тысяч.
Огромна заслуга Александра I и в том, что Париж не подвергся разгрому. Когда царю донесли, что армия намерена учинить в Париже погром, он немедленно направился к прусскому королю. Тот, в отличие от Александра, к тревожному известию отнесся хладнокровно, заметив, что это удобный случай отомстить за все несчастья, обрушившиеся на Россию и Пруссию по вине французов. Король не ручался за то, что может удержать прусских солдат, а потому предложил заняться наведением порядка, в том числе и в своей собственной армии, русскому царю.
Между тем дело действительно могло закончиться второй Варфоломеевской ночью. Огромная ненависть, накопившаяся к Наполеону и французам за многочисленные бесчинства, учиненные ими в Европе, могла, бесспорно, обернуться вендеттой на улицах Парижа. Тем более что подобные примеры в ходе военной кампании 1814 года уже были. Есть немало свидетельств о грабежах во французских поселениях, в которых особо отличились прусские солдаты и русские казаки. (В регулярной русской армии поддерживалась жесткая дисциплина, а потому она в этом безобразии не участвовала.)
Таким образом, царю предстояла далеко не простая задача – спасти французскую столицу. Для русского императора месть Наполеону заключалась как раз в этом – сделать все от него зависящее, чтобы Париж не постигла участь Москвы.
Александр I эту моральную битву выиграл блестяще. И дело, конечно, не только в том, что, в отличие от Наполеона, устроившего в православных соборах конюшни и приказавшего взорвать Кремль, царь не тронул собор Парижской Богоматери или Лувр. Русский государь покорил парижан своим благородством. Словом и рыцарским жестом Александр I добился от французов всего того, чего Наполеон не смог добиться от русских с помощью пушек.
Если корсиканец не дождался от москвичей даже скромной делегации испуганных горожан, то русский царь въехал во французскую столицу триумфатором на белом коне (неосмотрительно подаренном ему ранее Коленкуром) под восторженные крики парижан, осыпаемый цветами. Как заметил историк Адольф Тьер:
Никому он не хотел так нравиться, как этим французам, которые побеждали его столько раз, которых он победил наконец в свою очередь и одобрения которых он добивался с такой страстностью. Победить великодушием… вот к чему он стремился в эту минуту больше всего. Благородная слабость – если только это была слабость.
Во время триумфального въезда Александра I в Париж случился лишь один эпизод, на минуту омрачивший событие. В толпе рядом с триумфатором какой-то молодой человек вдруг поднял ружье, но его тут же схватили. «Он пьян», – закричали вокруг, и царь милостиво приказал его отпустить. Молодой человек тут же смешался с толпой и исчез. Чего он хотел на самом деле, так никто и не узнал.
Как свидетельствуют очевидцы, во все время своего пребывания в Париже Александр I находился в каком-то просветленном состоянии, много молился. Двадцать девятого марта (10 апреля), в день Светлого Христова Воскресения по православному календарю, в Париже на площади Согласия, как раз там, где казнили Людовика XVI, был воздвигнут алтарь и прошло грандиозное публичное богослужение. На прилегающих к площади Согласия улицах и бульварах столпилось 80 тысяч человек. Сам царь не раз вспоминал именно это событие, как лучшие мгновенья своей жизни. Он писал:
…при бесчисленных толпах парижан всех состояний и возрастов живая гекатомба наша вдруг огласилась громким и стройным русским пением… Торжественная была эта минута для моего сердца… Вот, думал я, по неисповедимой воле Провидения из холодной отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших в Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу… Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели.
Впрочем, при всей торжественности момента царь вспоминал это вошедшее в мировую историю богослужение и не без юмора:
…было забавно видеть, как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснилась возле русского креста и друг друга толкала, чтобы иметь возможность скорее к нему приложиться.
Александр I сполна рассчитался с Наполеоном за свои слезы под Аустерлицем и сожженную Москву. Моральная победа «скифов» над Европой была полной.
Царь определяет будущее Франции
Чем ближе был конец военной кампании 1814 года, тем чаще у союзников возникал вопрос о том, какой должна стать новая Франция. Позиция самого Александра I – а именно она являлась в тот момент решающей, учитывая авторитет «Агамемнона» и мощь его армии, расположившейся в центре Европы, – оставалась не вполне определенной.
Задумываясь о будущем не только Франции, но и в целом Европы и стремясь обеспечить на континенте прочный порядок и стабильность, царь четко представлял себе в своем проекте общеевропейской программы пока лишь только три первых пункта. Во-первых, в новой Франции не может быть места для воинственного корсиканца. Во-вторых, новую власть должны выбрать себе сами французы. И наконец, новая Франция не должна чувствовать себя ущемленной среди прочих европейских держав, чтобы в чьей-нибудь горячей французской голове через какое-то время не возникла мысль о реванше.
Если пункт первый союзники уже давно согласовали, а пункт третий, вызывавший, напротив, немало споров, можно было пока отложить в сторону, то вопрос о том, кто должен сесть на французский престол, приходилось решать как можно быстрее. В Париже действовало временное правительство, но Наполеон все еще не сложил с себя императорских полномочий и находился в Фонтенбло во главе 60 тысяч боеспособных войск. В политической и психологической схватке требовалось немедленно поставить точку.
Собрание в доме Талейрана, где союзники обсуждали вопрос о будущей власти во Франции, открыл Александр I, сразу же сформулировавший свою позицию. Он заявил, что Россия готова признать какое угодно правительство, лишь бы оно понравилось самим французам и гарантировало Европе прочный мир. Царь дал понять, что его устроят и шведский король Бернадот, доказавший свою преданность делу союзников, и трехлетний Наполеон II под регентством Марии Луизы, и республиканцы, если они все еще желанны во Франции, и Бурбоны, если французы готовы снова посадить их на трон. Более того, чтобы соблюсти все формальности, русский император даже предложил для начала обсудить вопрос о возможности сохранения трона за Бонапартом, однако все участники совещания в один голос эту идею отвергли.
Победителем развернувшейся дискуссии следует признать Талейрана, отстоявшего интересы Бурбонов. Он убедил всех не столько в том, что возвращение Бурбонов – это хорошо, сколько в том, что остальные варианты хуже. Республиканская идея, как сочли многие, себя надолго скомпрометировала в глазах французов ужасами и хаосом революции. Нелогичным показалось большинству и менять одного солдата на другого, то есть Наполеона на Бернадота, – Францию готовили к длительному миру, а не к войне. Не вызвала (даже у присутствовавших на совещании австрийцев) поддержки и идея регентства. Все понимали, что за Марией Луизой и сыном может на деле стоять все тот же корсиканец.
«Все это интриги. Лишь старая династия Бурбонов – принцип», – заявил хитроумный Талейран. Большинство французов, уверял он, жаждет их возвращения на трон.
Последний аргумент Талейрана вызвал у многих участников совещания откровенный скепсис. И в первую очередь у Александра I, он напомнил о том, как мужественно умирали на поле боя за Наполеона молодые рекруты. Царь, как и его умная бабка, вообще не питал никаких иллюзий в отношении Бурбонов. Либеральные и прагматичные взгляды Екатерины II весьма отличались от замшелого консерватизма Бурбонов, не желавших приспосабливаться к изменяющемуся миру. Прекрасно помнил Александр I и уроки своего учителя-республиканца Лагарпа.
О том, что русский император не исключал восстановления в послевоенной Франции республики, свидетельствуют многие факты. Тайный посланник Талейрана к царю барон Витроль в своих воспоминаниях об исторической встрече с Александром с искренним ужасом пишет о том, что государь считал вполне приемлемым исходом войны республиканскую форму правления во Франции. «Вот до чего мы дожили, о боже!» – восклицает этот убежденный роялист.
Так что утверждения Талейрана о том, что роялистов во Франции поддерживает якобы большинство населения, царя, конечно, убедить не могли. Основываясь на здравом смысле, император мог согласиться лишь с тем, что Бурбоны в сложившейся ситуации – это, может быть, действительно наименьшее (либо неизбежное) зло.
Главным же для Александра I при принятии окончательного решения оказалось совсем другое. В речи Талейрана прозвучало ключевое для царя слово – «принцип». Это слово оказалось созвучно тем идеям относительно будущего устройства общеевропейского дома, что как раз формировались в голове Александра. Он был убежден, что стабильность в Европе способны гарантировать только определенные и признанные большинством европейских стран правила игры, то есть как раз «принципы». Какие это конкретно правила игры, царь еще не мог четко сформулировать, но само по себе умелое противопоставление Талейраном ненавистного для императора слова «интрига» и благородного слова «принцип» подействовало на Александра I магически – он дал согласие на возвращение Бурбонов.
Однако царь настоял на том, что необходимо соблюсти все приличия. «Не нам, чужеземцам, – заявил он Талейрану, – подобает провозглашать низложение Наполеона. Еще менее того мы можем призывать Бурбонов на престол Франции». Подумав минуту, Талейран обещал провести оба этих важнейших решения через Сенат, но лишь при условии, если союзники официально объявят, что они никогда не признают властелином Франции Бонапарта. «Только ввиду подобного заявления, – пояснил Талейран с иронией, – сенаторы найдут в себе смелость свободно высказать собственное мнение». Необходимую декларацию тут же составили. Александр искренне полагал, что будущее правительство должны избрать сами французы. На деле же получилось так, что от имени всех французов говорил один Талейран и именно его идеи скрепил своей подписью русский царь.
Царь же определил для Наполеона и место будущего жительства – остров Эльба. Единственный, кто возражал против этого пункта договоренности с Наполеоном, был Меттерних: он мудро предсказал, что в результате этого необдуманного шага Европе придется снова иметь дело с беспокойным корсиканцем. Знаменитые Сто дней полностью подтвердили правоту австрийца.
Пока же Наполеон, находясь в Фонтенбло, отчаянно сопротивляясь року, один за другим сдавал последние политические редуты. Императорская свита таяла на глазах. Вчерашние друзья один за другим, чаще всего даже не прощаясь, потихоньку уезжали в столицу, где в политических салонах уже начали лихорадочно делить будущие должности, чины и ордена. Сам Наполеон хотел идти на Париж, но его не поддержали маршалы и генералы, считавшие сопротивление бесполезным.
Проиграл Наполеон и на дипломатическом поле, пытаясь настоять, чтобы у власти после отречения остался его сын. Первоначальный текст отречения пришлось переписать. Первый вариант, подписанный 4 апреля 1814 года, гласил:
Союзные монархи объявили, что император Наполеон есть единственное препятствие к водворению мира в Европе; император Наполеон, верный своей присяге, объявляет, что готов сойти с трона, расстаться с Францией и даже с жизнью для блага отечества, неразлучного с правами его сына, с правами императрицы-регентши и с сохранением законов империи.
Последние условия союзников устроить, естественно, не могли. Корсиканец был вправе распорядиться своей жизнью, но не мог уже требовать престол для своего сына или сохранения законов наполеоновской империи. Новое и окончательное отречение начиналось так же, как и прежнее, а заканчивалось словами: «…Император, верный своей присяге, объявляет, что отказывается за себя и детей своих от тронов Франции и Италии…»
Это означало уже полную капитуляцию. Не удалась Наполеону даже попытка самоубийства, яд подействовал лишь отчасти, вызвав мучительную боль, но не смерть.
По дороге в ссылку Наполеон мог лично убедиться в том, как к нему относятся его бывшие подданные. Если поначалу карету встречали приветственные крики «Да здравствует император!», то затем, ближе к Лиону, он увидел угрюмые лица, а в Авиньоне услышал слова: «Долой тирана! Долой сволочь! Да здравствует король! Да здравствуют союзники, наши освободители!» В карету летели камни, а женщины рвались к бывшему императору с кулаками. Корсиканцу пришлось смириться, надеть английский мундир и шляпу с белой роялистской кокардой. Все стало напоминать уже не почетную ссылку, а настоящее бегство. Солдаты союзников, сопровождавшие карету, из почетного эскорта постепенно превратились в охрану, оберегавшую жизнь некогда всемогущего французского императора от разъяренной толпы.
Все треволнения закончились лишь на Эльбе, где Наполеона встретили не криками протеста, а музыкой. Пока он спускался на берег, два старых контрабаса и три скрипки наигрывали что-то веселое.
Дипломатическая интрига до и после «Ста дней»
Общепризнанно, что никогда ранее Европа не жила такой единой, хотя и беспокойной жизнью, как в первые пятнадцать лет XIX века. Наполеон заставил Европу принять как факт, что у нее общая судьба и общие проблемы, от которых не отгородишься ни водами Ла-Манша, ни русскими просторами, ни высокими Альпами. Европейские народы, объединяясь в коалиции, то волной накатывали на Москву, то двигались в обратном направлении на Париж. В наполеоновскую эпоху солдатские сапоги истоптали поля практически каждой европейской страны. Под натиском неприятеля пала не одна европейская столица: Вена, Берлин, Москва, Париж, Мадрид…
Лондон остался нетронутым, но также положил на алтарь победы над Наполеоном немало, хотя его жертвоприношение выражалось в первую очередь в фунтах стерлингов. Армия Веллингтона в боях с французами в Испании потеряла чуть более шести тысяч человек, что, конечно, несопоставимо с потерями других союзников. Англичане словно берегли свои силы для Ватерлоо.
Европейские генералы сумели в этот период на штабных картах и в реальных сражениях испробовать самые замысловатые стратегические и тактические новинки. Приблизительно то же самое можно сказать и о европейской правящей элите: одни и те же страны, интригуя и маневрируя на политическом поле, то вступали между собой в союзы, клянясь в вечной дружбе, то ожесточенно воевали, проклиная друг друга.
Наработав немалый опыт коллективного военного противостояния, европейцы теперь приступили к гораздо более сложному делу: нужно было научиться сочетать свои интересы, чтобы жить мирно. Пришло время дипломатов. Учитывая наследство, оставленное Наполеоном Европе, и очевидное недоверие врагов-союзников друг к другу, дипломатам предстояло преодолеть серьезные препятствия, чтобы найти приемлемое (если не для всех, то хотя бы для большинства) решение.
Слово «конгресс» возникло само собой, память вызвала из прошлого известный Вестфальский конгресс XVII века, что поставил точку в Тридцатилетней войне. Нечто подобное должно было произойти и теперь. Решили собраться осенью в Вене. Предстояло уладить массу пограничных споров, решить, что делать с Францией, вознаградить победителей, не допустив при этом чрезмерного и опасного усиления ни одной из крупнейших европейских держав.
Особую позицию занимала Россия. Соглашаясь с тем, что все перечисленные выше вопросы нужно, конечно, решать, она одновременно считала необходимым, не откладывая дела в долгий ящик, начать закладывать фундамент будущего общеевропейского дома. А для этого в Вене как минимум нужно было договориться о некоторых хотя бы основных параметрах будущего здания.
Конгресс работал с октября 1814 года по июнь 1815. Не остановили его работу и наполеоновские Сто дней, хотя они существенно повлияли на настроения и позиции участников. Наполеон и на Венском конгрессе, пусть и заочно, сыграл одну из главных ролей, так что говорить об этой конференции как о едином процессе правомерно лишь с оговорками: ее пролог и эпилог объединяет только общий заголовок пьесы.
Говоря о Венском конгрессе, чаще всего вспоминают Талейрана, сумевшего на самом первом этапе работы форума смешать все планы союзников и заставить их относиться к побежденной Франции как к равноправному участнику переговоров. Но у этой мастерски проведенной Талейраном дипломатической операции была и очевидная негативная сторона. Добиваясь усиления французской позиции, Талейран ставил на раскол вчерашних партнеров. Само слово «союзники» было им опротестовано как изжившее себя после изгнания Бонапарта.
Признавая дипломатический талант Талейрана, не следует, однако, забывать, что действовал он в необычайно комфортной для себя обстановке, поскольку цементировало коалицию не общее представление о будущем европейского континента, а лишь опасность, исходившая из Парижа. Исчезла опасность – испарилось и единство союзников, они снова с жаром начали делить между собой европейские земли, в основном польские, саксонские и немецкие. В этом торге для любой делегации каждый голос в свою поддержку представлял интерес, поэтому голос Талейрана, говорившего от имени Франции, а заодно и ряда мелких европейских государств, был, естественно, востребован. Французскому дипломату оставалось лишь выгоднее, играя на противоречиях между союзниками, этот голос продать.
Авторитет Александра I, еще вчера «вождя бессмертной коалиции, стяжавшего славу умиротворителя вселенной», как его величала европейская пресса, в ходе венских торгов начал постепенно падать. Западная Европа доверяла ему «умиротворять вселенную», но не хотела укрепления России.
О том, какие мысли царили тогда в голове, например, Меттерниха, свидетельствует очевидец тех давних событий первый секретарь австрийского канцлера Генц:
Меттерних был убежден в своей мудрости, что восстановление Бурбонов гораздо больше послужит частному интересу России и Англии, чем Австрии или общему интересу Европы; что Франция, истощенная до последней степени всем тем, что претерпела она в последние двадцать лет, впадет под слабым скипетром Бурбонов в состояние бессилия и совершенного ничтожества, которое долго не позволит ей поддерживать политическое равновесие. И следовательно, Россия, гордая своими успехами, своею славою, влиянием в Германии, тесно и постоянно связанная с Англией, не боящаяся более Швеции и мало сдерживаемая, особенно в первые годы, Пруссией, получит свободное и обширное поле для своих честолюбивых предприятий, снова будет грозить Порте, будет держать Австрию в постоянном беспокойстве и достигнет перевеса, опасного для соседей и для всей Европы.
Схожие мысли стали посещать и англичан. В политике, как и в одежде, всегда есть лицевая сторона и изнанка. Триумфальный прием, оказанный русскому императору во время его послевоенного визита в Англию, не мешал английским политикам в тиши кабинетов думать о том, как ослабить русские позиции.
Обиженным на российского государя из-за равнодушия, проявленного Россией к судьбе Бурбонов, оказался и Людовик XVIII. Что, естественно, напрямую отразилось на позиции французской делегации на начальном этапе работы Венского конгресса.
Российской дипломатии помогло чудесное возвращение во Францию Наполеона, а главное, то, с какой неожиданной для всех быстротой и легкостью он дошел от побережья до Парижа. Поначалу Александру I пришлось, правда, выслушать немало справедливых упреков в том, что он выбрал для корсиканца столь неудачное место для ссылки, однако затем услуги «Агамемнона» были снова востребованы в полной мере. Угроза, как и прежде, сцементировала коалицию.
Россия, Пруссия и Австрия обязались немедленно выставить по 150 тысяч солдат, а Англия – выплатить пять миллионов фунтов субсидий. Одновременно в Нидерланды для организации сопротивления Бонапарту как одного из лучших европейских полководцев направили Веллингтона. Именно Веллингтону корсиканец и проиграл свою последнюю в жизни битву при Ватерлоо, где против французов сражались англичане и пруссаки.
Новое противостояние с Наполеоном значительно улучшило отношения России и Англии. В долговременном политическом плане британцы по-прежнему были склонны подыгрывать австрийцам и пруссакам, но, с другой стороны, Петербург, как показала эпоха наполеоновских войн, оказался куда более надежным союзником, чем Вена и Берлин. Раздражало Англию и то, как австрийцы и пруссаки откровенно транжирили (если не сказать воровали) субсидии, выделенные англичанами.
Лорд Роберт Стюарт Каслри, британский министр иностранных дел, подготовил в связи с этим следующую любопытную записку, направленную им в Лондон:
…Основные интересы Великобритании в настоящее время тождественнее с интересами Австрии и Пруссии, чем России; но в то же самое время я должен заметить, что за этими обоими дворами надобно внимательно смотреть, как они преследуют свои частные цели, чтоб нам не впутаться в такую политику, с которою Великобритания не имеет ничего общего. Ни Австрия, ни Пруссия и ни одна из меньших держав не имеют искреннего желания поскорее окончить настоящее положение дел, потому что оно доставляет им возможность кормить, одевать и платить жалованье своему войску на счет Франции, откладывая при этом себе в карманы английские субсидии. Австрийцы ввели целую армию в Прованс, чтоб кормить ее на счет этой бедной и верной королю страны. Пруссаки кормят на счет Франции 200 тысяч войска. Баварцы, чтоб не потерять удобного случая покормиться на чужой счет, поспешили перевести на телегах свое войско от Мюнхена на берега Луары, когда в их помощи уже не было более никакой нужды, и перевозка, разумеется, поставлена на счет Франции. Теперь во Франции союзных войск не менее 900 тысяч, содержание которых стоит ежедневно стране 112 тысяч фунтов стерлингов.
Безупречно в этом отношении ведет себя русский император: он согласился со мною, что треть контрибуции, которую возьмут союзники с Франции, должна идти на пограничные укрепления: если взять в расчет отдаленный интерес России в этом деле, то это очень бескорыстно со стороны его императорского величества. Он привел в движение свою вторую армию без всяких уговоров с нами насчет субсидий, прежде чем получил малейшее уверение в помощи; он остановил свои войска, велел им возвратиться назад в Россию, как только я представил ему, что в них нет более нужды.
В лучшую сторону изменились отношения русского императора и с Людовиком XVIII. Король понял, что после своей вторичной реставрации реально рассчитывать на помощь он может, помимо англичан, лишь со стороны России. Как в силу характера Александра I, так и потому, что русским (в отличие от соседей Франции пруссаков и австрийцев) от французов по большому счету ничего не надо. Кроме, разумеется, стабильности и мира.
Хотя формально работа над выверкой и перепиской заключительного акта Венского конгресса завершилась как раз в день битвы под Ватерлоо и после этого началось официальное подписание документа, следует учесть, что к этому моменту обстановка в Европе стала уже во многом иной. Вынужденные силой обстоятельств вновь решать проблему Наполеона, многие европейские страны стали иначе оценивать ситуацию. Сто дней показали, как хрупок европейский мир и как неустойчиво положение в самой Франции.
В то же время Сто дней убедительно доказали, что испытанием на верность может быть не только война, но и мир. Известна история о направленном против России тайном договоре между Англией, Францией и Австрией, который Наполеон, вернувшись с Эльбы, обнаружил в архиве Министерства иностранных дел. Не без надежды расколоть коалицию Наполеон тут же направил этот документ русскому императору. Уже умудренный годами Александр на очевидную провокацию корсиканца не поддался и нашел в себе силы прагматично закрыть глаза на очевидную нечистоплотность союзников. Как пишет по этому поводу Тарле, «царь отшвырнул прочь уже бесполезного для него Талейрана», но «простил» Меттерниха, потому что Австрия ему была нужна.




![Книга Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I] автора Дмитрий Калюжный](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-drugaya-istoriya-rossiyskoy-imperii.-ot-petra-do-pavla-zabytaya-istoriya-rossiyskoy-imperii.-ot-petra-i-do-pavla-i-109666.jpg)



