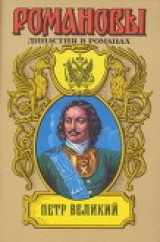
Текст книги "Балакирев"
Автор книги: Петр Петров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– Ты, любезный, совсем сбиваешься в речах… Пришёл донос учинить, а пересказываешь слова подлинно пьяного, где связи нет; а есть и правда, что господин камер-юнкер в силе большой. Да нам до его и досягнуть не приходится. Кому и что вредительного – ты не сказал. В чём же донос?
– Я что слышал, то и говорю… Балакирев плакал и вопил, что связался с Монсом и чает себе беды впредь, что ль… не переспрашивал ведь я его и не говорил ничего ему. Фома не велел ему ничего говорить… а донести, что слышали… Здеся уже спросят.
– Да кого и о чём спрашивать, скажи ты мне? Пьян, говоришь, был этот, как его там?
– Балакирев.
– Ну, Балакирев – пьян был и вам шептал, что ль, жалуяся на безвременье своё?
– Не жаловался он на безвременье, а прямо вопил и каялся: «Черт, – говорит, – связал меня с Монсом с этим, мой грех, – говорит, – погубил я себя… отец проклял…»
– Ну и загородил опять чушь… Я спрашиваю, толком говори: о чём доносишь?
– Да что слышал… коли это самое не велено скрывать… Я не знаю, что тут…
– Кто ж тебя научил, что здесь таится что-нибудь вредательное для чести государской?.. Ведь ты это говорил. Ведь записано в протоколе так? – спросил секретарь у молчаливого протоколиста.
– Так… да про письмо к высокой парсуне… сильненькое – что другой сказал – записано.
– Что записано – ладно… Для улики… дураку, вралю непутному: не знает, что брешет и кого задевает.
– Да я, ваше степенство, – умоляющим голосом начал Михей, – докладаю твоей пречестности, что моё дело донести, что слышал, а говорил, чтобы всенепременно не утаити, затем что вредительно высокой парсуне – Фома этот… Я поверил ему со страху – службу он должон знать, коли в солдатстве. А есть ли туто что, я, по простоте по своей, не смекаю и, бояся ответа за утайку, пришёл.
– Ну, значит, ты как есть простяк, а тот, что я смекнул сразу, плут, и вор, и заводчик злу сущий и первый… Следовало бы тебя уму-разуму поучить – десятка два палок влепить, чтобы дурости с чужих слов не забирал… Да вижу твою простоту…
– Помилуй, государь, не погуби! – завопил Михей, бросаясь в ноги секретарю, очень довольному результатом своей острастки. Он и не думал вдруг прибегать к наказанию, а только пощупал, так сказать, почву, на которой создался донос. Из смысла слов пьяного получались одни намёки, до того тёмные и неопределённые, что благоразумная осторожность прежде всего требовала от следователя изловчиться – добыть более существенное. А от кого добыть это существенное? – возникал вопрос самый щекотливый.
Главный доносчик оказался несостоятельным орудием другого ловкача. Да и правда ли, что тот солдат что-нибудь знает и значит? Речь шла по намёкам о такой высоте, где без особого полномочия тайной розыскных дел канцелярии не след было и носа совать.
Умный секретарь крепко задумался, соображая, с чего начать.
– Сядь туда за печку, да чтоб не видно тебя было отсюда, где стоял! – отдал он наконец приказ пришедшему несколько в себя Михею. – Сиди там и слушай, что будет говорить этот солдат, который напугал тебя. Слушай твёрдо и ничего не пропусти из его слов… Да при каждом слове его, с которым ты не согласен, подними руку, чтобы я видел… А я со своего места буду смотреть. Стань и подними… увижу ли я?.. Ладно… вижу! Сиди же смирно. И секретарь приказал привести запертого солдата. Фома Исаич в своём заключении уже крепко досадовал на себя, что с языка сорвались у него не вовремя слова о письме. Но делать нечего; не воротишь сказанного; нужно остеречься впредь от выбалтыванья лишнего. Услышав звуки от поворачиванья ключа в замочной скважине, Фома приготовился. Его молча повёл один сторож, держа за руку впотьмах.
– Кто ты таков, где служил и служишь? Давно ли на службе? Когда на духу был и сколько от роду? – прочёл протоколист вслух, как только поставили Фому перед секретарём.
– Фома Исаев Микрюков, в солдаты взят в семьсот четырнадцатом году, из дворян; в Невском полку служил спервоначалу, а с восемнадцатого году в здешний гарнизон прислан в третью роту. А в наряде по Кремлю-городу состою, у Троицких ворот, у машкаратных пар, у прислуги. Тридцати трех лет; на духу в Москве, за недугами, не бывал, кажись…
– Какие недуги помешали… и где записан в неговевших?
– Разные недуги… ноги болели по весне, а допрежь того и первый год трясовицею болел; а в приходе не знаю в каком значуся… Живу из найму… не в одном месте.
Секретарь молча, пристально глядел ему в глаза и, бросив случайно взгляд за печку, увидел поднятую руку Михея.
– Ты все врёшь и путаешь… Говори дело. Враньё тебе будет стоить палок… Как попал в Москву, ты не сказал?
Фоме этот вопрос попал, что называется, в жилку. Он никак не хотел открывать, что за штраф переведён, и соображал, что ответить.
– Как же попал? – повторил более настойчиво секретарь и уже стал внимательно смотреть за печку.
– Я попросился к родне своей ближе, в Москву.
Рука Михея поднялась.
– Ты врёшь!.. Перевели, верно, за провинность? – заметил секретарь.
– Моей провинности не было… оболгали, будто бы я стянул скляницу в саду у святейшего…
– По протокольной записке сделать запрос в гарнизон: есть ли солдат Фома Микрюков, почему он сюда переведён и как себя ведёт – коли нанимает жильё сам, а не при роте состоит! – отдал приказ секретарь, и протоколист быстро записал.
У Фомы помутилось в глазах.
– Ты все путаешь, – продолжал секретарь, обращаясь уже к нему. – Говорил, что со слов товарища слышал, а не сказал, где и когда?
– Сегодня утром пришёл ко мне Михей, доносчик, значит, и спрашивает совета: как тут поступить?
Рука Михея не только поднялась, но даже задвигалась в воздухе. Секретарь понял в этом движении полное отрицание возводимой на него напраслины.
– Да как же, если он тебе пересказывал, спрашивая совета, здесь-то другое заговорил, с твоими словами несогласное?
– Должно быть, со страха перепутывать он стал. И, сюда идя, заводил он меня выпить… может, и меня разобрал хмель, не то сказывал, что хотел, в беспамятстве…
Рука Михея опять замотала отрицательно.
– А-а, вот ты какой гусь… Совсем плут… и все воровские уловки знаешь… Вишь ты, запамятовал и в хмелю перепутал? Изрядно!.. Отрезвить память нужно… Эй, двое, сюда!
Пришли те же два сторожа.
– Стяните с него мундир, и пустим палки в дело… Без них с этим вралём правды не добраться!
Растянули и приготовились.
– Говори же истинную правду… не думай меня провести; я тебя насквозь вижу. Заруби себе на носу, что при каждой твоей попытке солгать я буду знак давать, чтобы палки работали… С тобой я не намерен шутки шутить… Говори же сподряд все, ничего не утаивая; что с тобою было со вчерашнего дня?
– Я… на службе был… Освободился – к приятелю зашёл… от него домой… ночевать… утром к Суворову завернул и увидал Михея Ершова, и он мне сказал…
Рука Михея сильно задвигалась.
– Бей! – крикнул секретарь… – Я из тебя выколочу ложь и извороты…
– Ой-ой! Батюшки, помилуй… перед утром, говорю, к Суворову зашёл и услыхал от Михея…
– Бей!..
Удары посыпались скорейшим манером, и от боли Фома, прося помилованья, обещал все рассказать сподряд – правду. Палочники остановились, а Микрюков поспешил подняться и заговорить скороговоркою:
– Виноват, государь. Был я вчера у ключника в доме князя Михаилы Михайловича Голицына, и слышал я там речи неладные про Монса… заспорил и перечить стал… плуты, челядинцы, ключник главный, стали меня бить. И они, сокрывая своё воровство, грозили, коли я перескажу их речи аль до начальства доведу, на меня показать, будто мои слова эти самые про то причинное вредное дело до чести великого государя… и, убоявшися их угроз, я пошёл к Суворову и у него ухоронился… И все слышал, как пьяный Балакирев воем выл и причитал таково жалобно про свою погибель у Монса… и про письмецо «сильненькое»…
– Вали его и катай… покуда не признается… что ложь дерзкую изобрёл… Видно мошенника, как есть… Нагородил теперь новое совсем, а правды и тут не сказал.
А сам глядит, не покажется ли рука Михеева. Она не поднимается, однако, а пока валили Фому палочники, он взмолился, что все ответит вправду, только бы не били.
– Хорошо, подождём… Оставьте его… не уходите только! – крикнул секретарь. – Отвечай на мои вопросы…
– Изволь, государь, спрашивать, – ответил Фома.
– Для чего же тебе в чужой дом уходить, коли ты не виноват?
– Боялся я… ушёл от побоев холопских, да, думаю… со злости донесут… схватят меня ночью, дома… дай ухоронюся инде…
– Совсем мошенник!.. Вот что я тебе скажу: не на того ты напал, чтобы не понял я: что ты такое есть… Признавайся прямо, стало быть… Со слов пьяного чтобы донести, нужно иметь к тому особые побуждения… Эти побуждения твои выказываются в плутне подвести другого и стать в послухах, когда зачинщик доноса ты самый и, видно, подстерегал того пьянчужку… если сам ещё не наводил раньше на похвальбу своею силою у камер-юнкера.
– Я от него не слыхал этой похвальбы… другие говорили… Все говорили.
– Кто другие? Кто все?
– Я слышал от голицынского ключника… от Мишки Поспеловского, от Ан…дрюшки…
– Про письмо-то кто говорил тебе, или сам изобрёл?
– Я только…
– Ну, что только? Приврал к словам пьяного?! Да?!
– Может, и так… запамятовал я… все смешалось от страху… как пьяный вопил: «Погибель мне от Монса»… Я столько же, как и Михей, в страх пришёл… И так мне ужасно стало… что нам будет, как промолчим; а дознаются потом? И спросил я: «Что думаешь, Михей, плохо нам?..» Взяли да и пошли… и донесли вам.
– А зачем учил ты Михея, да подносил ему… да нашёптывал, что говорить… да зачем спервоначалу послухом сказался, а не доносчиком… и подстрекателем?
– С простоты своей… струсил очень.
– А домой не заходил зачем? Очутился там, где пьяного спать уложили?
– И про то про все докладывал: ключника с челядинцами голицынскими я побоялся…
– Г-м! Изрядную сказку ты нам рассказал… А коли на очной ставке извет на голицынских людей не подтвердится, тогда – что?
– Известно, они, коли спрашивать станут, злость свою на мне выместят – свалят свою вину.
– И Михей, твой товарищ, тоже, знать, злость на тебе, что ль, вымещал?
– Нет… Ему за что на меня клепать…
– Так как же его показание с твоим рознить?..
– Уж я не знаю, как… Теперя правду сказал я… слышали мы оба… пьяный бормотал исперва… потом выл да причитал… Монса винил и каялся.
– А кому пришло в ум доношение сделать?
– М-мне, ммо-жет… пришлось высказаться, и Михей хотел… знает, умолчишь – достаться может.
– Чтобы закрыть себя от других плутней… Гм! у Голицына с дворовыми про что ты врал? Про Монса тоже?
– Они это самое говорили… я слушал, д-да… невмоготу стало… перечить зачал и – все на меня…
– Да ты прямо на мой вопрос отвечай: про Монса речь тобою велась?
– Д-да… кажись, с того самого начали, что дела он делает большие.
– Гм! Тебе, вишь, дело до всего есть… Совок ты во всякие художества… И письма ты припутал… Мишка какой-то тебе рассказывал.
– Поспеловский слуга… того самого господина, что денщиком бывал али теперь, что ли.
– Гм! А ты его-то слова да на бред пьяного своротил, и вышла околесица.
– Может, я ненароком… с языка сорвалось…
– А на очной ставке с доносчиком, товарищем своим, и ещё что-нибудь другое выскажешь? Припомни-ка.
– Все как есть припомнил… Иного сказать не приходится.
– И стоишь ты на том, что доносить вздумал со страха, а не ради скверного прибытка… за обещанную награду за правый донос?
– Н-нет… простотою своею про награду и не слыхивал я; а, избываючи лиха, чтоб в ответе не быть, пришёл с товарищем доношенье подать.
– Чтобы лисьим хвостом след заметать того, что дворню голицынскую всполошило против тебя… Чего же иного ради ты домой не вернулся?
– Д-да… только меня там оболгать хотят, не я говорил… Они тамо непутнее загибали… не я…
– Гм! И клевета тебя в Москву привела. И все на тебя… на бедного Макара, так и валится… Дивное дело!.. Спросим гарнизонную канцелярию, а до тех мест посиди… покопи ещё, что солгать…
– Да за что страдать я буду?.. За чужую вину… великий государь велел доносить про всякое воровство и бездельство…
– Доносить верное, прямое зло… а не клепать, закрываючи свои плутни.
– Да какие же мои плутни, государь милостивый… разве что припамятовал?
– А путал-то сколько?.. Себя за послуха выдавал, коли ты зачинщик злобы и есть… Ведите его в седьмую казенку… Порожняя она?
– Порожня! – ответил один сторож, тот, что замыкал и отмыкал дверь при первом заключении Фомы.
Когда вывели его, секретарь подозвал из запечки Михея и спросил его тихо:
– Никому ты в кабаке не говорил про то, про что сюда пришли вы доносить?
– Нет, государь милостивый!.. Я молчал, и, правду тебе сказать, страх меня взял спервоначалу, как потащил меня Фома. А как поднёс он крючок и другой… я словно ободрился и опять же ничего не памятовал; переговорил он мне на пустыре, сзади двора вашего, что говорить, а потом пошли… и пришли сюда; а здеся я выбрехал тебе всю подноготную… ничего больше не знаю я.
– А про пьяного про того много слыхал раньше его бреда в беспамятстве… аль спросонья, что ль?
– Говорил про него у Суворова, и потом у Алексея Балакирева все Фома же Микрюков… Что он и такой, и сякой, и мошенник, и вор… а мы с Иваном Суворовым не нашли молодца таким… показался добрый человек… и коли бы не страх… что молчать будешь – беда… не донёс бы… Может, во сне бедняга видел…
– Гм! Во сне, должно быть, и есть… Ты не моги никому не пискнуть, о чём тут говорилось… Голову можешь потерять за бредни, что твой подстрекатель изблевал дерзостно… И подумать страшно… не токмо вымолвить, да ещё похвалялся как добрым делом?! Смекни, что своим дьявольским подстреканьем вёл он тебя на плаху аль на виселицу….
Михея забила дрожь.
– Смотри же… молчать, а то – запорю… А теперь, по дурости твоей, влепить велю десять палок, чтобы умнее был и понял!
– Ваше степенство, помилуй меня ради неразумия! Со страху я… напугал, изверг, что смерти повинен буду, коли промолчу. Сам я не знал после того, что творил!
Секретарь молчал и думал…
А Михей, обливаясь слезами, просил о пощаде.
– Ну, пошёл вон, да не пискни… а коли попадёшь вдругорядь… безо всякой пощады!
Михей уже бежал со всех ног, боясь, чтобы не отменил разрешенья секретарь, ломавший теперь голову: как поступить? Слова изветчиков записаны. Лгун-измышлятель прибран, а страх, что дальше последует, охватывает ум дельца: как и что делать по такому доносу?
Долго ходил секретарь по каморе и вдруг собрался и вышел, приказав протоколисту не выходить и составить экстракт из протокола.
Прежде всего приехал секретарь к начальнику своему генералу Ушакову [149]149
…генералу Ушакову… – Ушаков Андрей Иванович (1672–1747) – выходец из бедного дворянского рода. Пётр I возвёл его в звание тайного фискала (1714) и поручил наблюдать за постройкой корабля. В 1730 году он стал сенатором, а в 1731-начальником Тайной розыскных дел канцелярии. В 1744 году ему было пожаловано графское звание.
[Закрыть] и рассказал ему все, что было.
Ушаков молчал; слушал, потом долго ходил взад и вперёд и, ничего не сказав, как поступить, велел ему посоветоваться с кабинет-секретарём Макаровым.
Макарова найти было не так легко дома; однако же секретарь застал его уже на пороге.
– Я к вашей милости… по очень важному делу.
– Все важные дела до вечера… Спешу!
– Нельзя до вечера, сам увидишь, Алексей Васильич… Выслушать теперь изволь… недолго ведь – в двух-трех словах всего. Пойдём к тебе, и я разом объясню…
– А здесь, коли недолго, для чего бы?
– Нельзя… Могу с глазу на глаз только. Так и Андрей Иваныч велел.
При упоминании имени Андрея Ивановича Ушакова Алексей Васильевич Макаров взял за руку секретаря. Они вошли в кабинет к нему, в задний самый, и двери заперли. Конференция продолжалась недолго. Вышли оба советника озабоченные больше, чем вошли, и Макаров проворно стал надевать свой щегольской охабень на соболях, крытый чёрным бархатом.
– Так я от вас отписки буду ждать, – сказал секретарь, – и как получу, тогда пришлю извет.
Макаров молчал.
– Так, что ли? – повторил, добиваясь прямого ответа, секретарь. – Ждать будет мне или, не дожидаясь, вам прислать?
Они вышли за двери.
– Как знаешь… так и учини… А я переговорю, и что скажет… лучше, сам скажу… приеду нарочно.
– Да напиши; чего ездить попусту – от дела отрываться.
– Нельзя писать… Есть у меня помощничек… Замечать я стал за ним… Надвояко бьёт. Ему может попасть в руки, так… неладно выйдет… Почём знать, что у него в голове?
Секретарь тайной канцелярии посмотрел в глаза кабинет-секретарю государеву, и оба промолчали; взгляды их были вполне вразумительны для обоих.
Каждый поехал к себе довольный. Недовольным остался только делец, который во время разговора Макарова с секретарём тайной канцелярии напрасно подслушивал у замочной скважины дальнего кабинета. До чуткого слуха привычного к этой операции дельца из фраз разговора долетали только отрывочные звуки. Он уловил ясно одно слово: извет. Когда же прислушивался затем с утроенным вниманием, казалось ему – поминались Монс и Балакирев. Впрочем, последние две фамилии он скорее, как сам думал, отгадал, чем выслушал.
Как ни скуден был сбор новостей, извлечённых из подслушанной утренней беседы секретаря тайной канцелярии с кабинет-секретарём, вечером в этот день делец входил с самодовольной улыбкою на крылечко каменного дома ревизора Московской губернии генерал-майора Чернышёва.
– У себя Григорий Петрович? – спросил он у кого-то, проходившего впотьмах.
– У себя, кажется, – ответил женский голос.
– Да вы это, Авдотья Ивановна?
– А небось это ты, Ваня?
– Я самый…
– Поджидал тебя ещё вчера старик мой… Да подумал: видно, нет ещё ничего…
– И есть, и нет! Как сказать?.. Куда войти-то?
– Да всё равно… коли ненадолго… Я вызову Григорья… у меня посиди… Впрочем, у него нашинский же, Павел Иваныч… и при нём можно все говорить. Пойдём… Дай руку, тёмненько у нас здесь… Того и гляди, стукнешься об матицу… Ты же высоконек-таки!
Впотьмах поймал гость руку хозяйки и при её помощи выбрался счастливо из коридорного мрака на свет, в хозяйскую каморку.
– А! добро пожаловать! Поджидал я тебя, Иван Антоныч, завчера ещё… говорю Авдотье: видно, ничего нет… что не едет.
– Да видите… Алёшка теперь подозрение возымел и мне ничего не даёт, кроме перечня указов… Одначе смекаю я… один доносик, должно быть, прилетел к розыскным делам. Сегодня рано прискакал секретарь из Тайной и Алёшку прямо увёл в заднюю – шушукаться. Говорили недолго, а вышли не в себе… Сдавалось мне, словно помянул секретарь Монсово имя и Балакирева… Значит, откуда ни на есть, а с нашего берега удочка запущена… Не смею прямо уверять, подождём; секретарь, кажись, сказал, что пришлёт извет, когда получит приказ от Алёшки. Приказа этого писать не даст он мне, понятно… а я буду караулить, как бы в лапы извет залучить… Коли Алёшки не будет в конторке, и ко мне попасть может.
– Давай-то Бог! – с нескрываемым интересом отозвалась Авдотья Ивановна, не могшая хладнокровно переносить остуды к себе того, кто недавно ещё верил ей безусловно и шутя называл неспроста «Авдотья бой-баба!». Бой-баба была на все руки и валяла вовсю, что называется… Черноокую Екатерину Алексеевну она считала все же своею соперницею, хотя была счастливой и изворотливой, но по части амурных дел ничем не выше себя… За Монсом и его возвышением в придворных сферах и Авдотья Ивановна, и все терпевший из-за честолюбия, если не выгоды, достойный супруг её следили с особенным интересом.
Афронт у державного, конечно временный, потерпела «бой-баба» опять едва ли не по милости Монсовой старшей сестрицы Балкши. Она развезла всюду по знакомым домам басню о том, что Авдотья Ивановна выпустила молодца одного с заднего крыльца, когда с парадного входа стучался высокий покровитель. Понятно, что Авдотья Ивановна обрадовалась случаю отомстить врагу. Она рассчитывала в этом случае на непременную помощь Павла Ивановича Ягужинского, который был на ту пору больше чем друг дома у Чернышёвых.
К сближенью его с ними было много очень уважительных поводов. Меншиков шатался, втянутый в процессы, и Павел Иванович, хотя-нехотя, должен был искать поддержки в другом лагере, а там член военной коллегии Чернышёв [150]150
…генерал-майора Чернышёва.. – Чернышёв Григорий Петрович (1672–1745) – граф, военачальник, государственный деятель, один из наиболее близких сподвижников Петра I. Он пользовался его доверием и расположением. В 1695 году побывал в первом Азовском походе; в Северней войне участвовал в крупнейших сражениях. Отличился в битве под Полтавой. Командовал несколькими полками при взятии Выборга. Участвовал в походе в Финляндию (1713–1714). В 1718 году стал членом Адмиралтейств-коллегий, сенатором. Был губернатором Азовской, Лифляндской и Московской губерний.
[Закрыть] был влиятельный туз из умеренных. Его к тому же считали в некотором роде потерпевшим от женских интриг. А ни чему иному, как их же влиянию, приписывали даже и самые процессы 1718 года [151]151
…процессы 1718 года… – Имеется в виду расследование дела царевича Алексея.
[Закрыть], когда в своём роде оппозицию выказали все столбовые тузы, начиная с Долгоруковых и оканчивая благодушным рыцарем правды – Голицыным. Тогда и Апраксины уплелись не без потери значения. Даже первый из иерархов [152]152
…первый из иерархов… – Рязанский митрополит Стефан Яворский, которого Пётр I назначил руководить церковными делами и объявил местоблюстителем патриаршего престола, произнёс в Москве проповедь, вызвавшую гнев Петра. В ней он уповал на возврат к старине при воцарении наследника.
[Закрыть] был заподозрен, и все русаки, кроме выскочек, остались в тени. Тем не менее они успели выдвинуть во время празднеств по случаю Ништадтского мира князя Кантемира. Вот монарх, жаждавший новизны, стал часто посещать семейство его, обнаруживая скуку и неудовольствие, дома, холодность к Меншикову. Этим умели воспользоваться как нельзя лучше Монс с сестрицею.
Алексей Макаров, вологодский посадский, всем обязан был Меншикову и Екатерине Алексеевне и, конечно, стоял на их стороне. Противники же Монса прибрали к рукам помощника Макарова. Это, впрочем, не утаилось от ловкого Алёшки, и стал он ухо держать востро: неприязни врагу не показывал, а только, соболезнуя его немощи, начал давать ему поручения. Бывали из них и доходные подчас, отвлекая корыстью из конторы, чтобы меньше торчал там да меньше запримечал. Но Черкасов [153]153
Черкасов Иван Антонович (1692–1752) – начал карьеру канцеляристом при кабинет-секретаре Макарове. Пётр I давал ему поручения, брал в путешествия, затем произвёл в кабинет-секретари. При императрице Анне Иоанновне был сослан в Казань, затем в Астрахань. Императрица Елизавета Петровна снова произвела его в кабинет-секретари и удостоила звания барона.
[Закрыть] был тоже не промах. Он стал подсматривать и подслушивать через других, сам являясь изредка. Ничтожность добытых результатов не лишала терпенья наблюдателя, а скорее подстрекала его, щекотя нервы приманкою далёкого успеха.
Когда Иван Антонович передал все им слышанное и свои догадки, Чернышёв усомнился.
– Я это все хорошо и близко могу разузнать от человека, мне преданного, – сказала Авдотья Ивановна, – это не иной кто, как Лакоста, сам имевший виды на Ивана Балакирева. Он успел было его совсем отвлечь от мерзавки Ильиничны; да устроила она при поездке в Ригу так, чтобы Иван взят был с одной её племянницею… Ну и..: понятно…
Чернышёв барабанил молча по столу, ничего не говоря, но исподлобья глядя на Черкасова, – что он скажет.
– Моё мнение: действительно, – начал говорить, подумавши, Иван Антоныч, – коли Лакоста наш – через него за двоими разом наблюдать, за Ильиничною и за Монсом… Что же касается слуги Балакирева, знать нам всю подноготную о нём – ни алтына не прибавить к сути нашего дела.
Ягужинский, посмотрев на хозяина и на Черкасова, сказал ему:
– Ты, Иван Антоныч, недогадлив страх как, а ещё стараешься объехать плута своего Алёшку… Куда тебе… коли не видишь, что в этом-то проныре и главная пружина… С его изворотливостью все шашни будут шиты да крыты, и сам вывернется, и других научит. Твой хвалёный Егорка в подмётки не годится ловкачу Ивану; затем он и оттерт остаётся… Ты, голубчик, не сердись, а старайся от Столетова больше узнавать да учи его во что бы ни стало хапнуть такую вещицу, чтобы в улику годилась… Можешь за услугу эту прямо обещать: в кабинет взять!..
– Конечно… стараться буду… почему не стараться?.. Да вы, Павел Иваныч, плохо знаете этого бездельника Столетова: он ведь болтун и хвастун больше, чем дельный парень. Посули ему только к нам взять, он напьётся с радости пьян да все и выболтает… Да взять его, даже я вам скажу, не выгодно будет нашему делу, – раздумав и ожидая в Столетове найти соперника, начал уже отговаривать подозрительный Черкасов.
– Его как раз приберёт к рукам Макаров на нашу же голову. Ведь и теперь он к Алексею Васильичу больше льнёт, чем ко мне; все магарычи вместе делят.
С последним положением все согласились, и Черкасов, успокоившись, замолк. Тут Чернышёв вдруг привскочил с места от дельной мысли, редко приходившей ему в голову.
– Вот что я надумал: в гарнизоне здесь считается по спискам какой-то Балакирев? Узнать бы, не роденька ли он монсовскому… Его бы приставить, по родству якобы, к детским хоша комнатам… Он бы и наблюдал… и доносил нам, что усмотрит.
– Из этого ничего не выйдет… Знаю я, о ком вы говорите… Сержант Балакирев даже не только родня царицыну юрку, но отец, да проку ни на грош в нём и со всею его ненавистью к Монсу. Он человек безалаберный, пьющий, завсегдатай у Андрея Апраксина… Будет ругаться, пожалуй, а запримечать не сумеет… Да и не дадут его вам ни за что пристроить к детской, прямо потому, что он не способен чинно вести себя.
– А я всё-таки его вызову и посмотрю сам… – заключил упорный в своих решениях Чернышёв.
Военный ревизор, как известно, всякого военного чина может к себе потребовать на смотр – так и в старину было.
Вызванный Алексей Балакирев явился, теряясь в догадках, зачем его требуют.
Вот доложил вестовой, и генерал потребовал его к себе.
Вытянувшись в струнку, отдал честь Алёша наш угрюмому служаке, принявшемуся долго в него всматриваться. Политик Чернышёв подбирал в это время слова для начала своих спросов. Думал-думал и вдруг спросил:
– Есть сын у тебя?
– Есть… да лучше бы и не было.
– Что так?
– Да не сущее ли наказание иметь сына – слугу самого злейшего моего ворога?
– Как так?
– Да сын мой у государыни служит, а живёт и плутню творит заодно с Монсом… а тот…
– Не люб, должно полагать, тебе?..
– Что не люб… ничего бы ещё… Что я значу, чтобы замечать мою любовь или нелюбовь… Он, Монс, вечно был злодеем моим… из-за его злобного наговора великий государь в Азове держал меня чуть не пятнадцать лет; в ссылке – не в ссылке, а на то похоже. Воротился я… государь помиловал, обласкал; а этот мерзавец, Вилька, опять подвернулся – хотел сызнова пакость учинить… Слава Богу, покойник Александр Васильич Кикин не выдал… Дай ему Бог царство небесное!
– Да, брат, – вздохнув сочувственно, отозвался Чернышёв, – и я Кикину царствие небесное должен пожелать. И для меня он был хорошим человеком… Погорячился великий государь, крутенько свернул этого человека [154]154
…крутенько свернул этого человека… – См. примеч. о А. В. Кикине.
[Закрыть]… а уж что за голова была!.. да авось Бог зачтёт за страданье царевича, за иные грехи и помилует раба своего Александра… Так мы, братец, – как имя и отчество? – совсем наших стариковских правил… Добро помним! И ладно, что спознал я тебя… захаживай почаще к нам… мы хоша и в енаральстве теперь, а русаков и нижних чинов не обегаем… Призвал я тебя на очи – не вижу, где ты пристроен… и хотел спросить не через посредство чьё, а прямо – я, видишь, простой человек, а ты не перестарок ещё – не хочешь ли должность какую взять?.. Жалованье положим и поведём как-нибудь подальше, может.
– Да я доложу твоему благородию, великий благодетель, что эта самая азовская служба отбила у меня охоту в чины добиваться… за пустяк могут человека в бараний рог согнуть, да ещё упрячут невесть куда.
– Ну… как тебе сказать; конечно, бывает вгорячах, да ведь дознаются и вознаградят за безвинное страданье… Государь правосуден и милостив.
– Да мы-то неразумны… вот, к примеру сказать, и я служил… как воротили меня, государь и спрашивает: «О чём хочешь проси – сделаю!..» А я думал по-старому: попросил правосудья у князя-кесаря [155]155
…у князя-кесаря. – После смерти Ф. Ю. Ромодановского в 1717 году титул князя-кесаря перешёл к его сыну Ивану Фёдоровичу.
[Закрыть]. А у его те же подьячие плуты всем ворочают. Моё дело повернули так, что из правого стал виноват, да и то обобрали бесповоротно, чем владел до суда бесспорно…
– Ну, о кесаре и говорить, братец, не велят; и сам я знаю, что этот кесарь дурачливее глупца батюшки, хоша и не Бог весть как давно, словно слон на воеводстве, засел… Так ты, сердечный… коли отсудил у тебя все кесарь, этак… может, нужду имеешь?.. Я истинно хорошему человеку рад сделать добро… коли хоть, ответственности у тебя не будет никакой и при военной коллегии числиться можешь, а в разъездах состоять при мне будешь… по поверке военных дел Московской губернии…
– Премного благодарствую, отец милостивый, на приятном обещанье… Коли Бог те на душу положит нашему брату вспомочь так, как изволил высказать, записать меня, – вечно Богу молить буду за тебя.
– Так прихаживай ко мне прямо… на очи пустят; я велел уж. А насчёт определенья – сегодня же сделаю… А ты, голубчик, разузнавай, коли что услышишь про своего недруга.
– Про Монсишку изволите, что ль, говорить или нет?
– Про его самого… какие его художества?
– Да много обещал про его художества солдатик один гарнизонный мне ономнясь порассказать, да что-то запропал… Как найду… выспрошу и все доложу, буде слушать изволит твоя милость…
– Разыщи, братец, разыщи… Ведай, я сам не меньше его ненавижу, как и ты…
Алексею Балакиреву последние слова хитрого Чернышёва показались слаще манны небесной. И пустился он по всей Москве разыскивать Фому Микрюкова.
Забежал к Суворову, по виду его несколько всполошённому чем-то.
– Что ты, Иван Иваныч, здоров ли?
– Слава Создателю, здоров… а что?
– Да пахмур мне показался… несуражен…
– Да с чего радоваться-то… Того и гляди, под видом знакомца подъедет какая стерва вроде солдата, к примеру сказать; помнишь, что родственника-то твоего честил так, что я ушёл поскорее…
– Как не помнить?.. Его-то я и ищу… обещал мне про Монсовы плутни рассказать впредь, а все отделывал моего сына непутного… Ты знаешь, где найти-то его?
– Голубчик мой, лучше и не спрашивай… Он ведь злодей и предатель… Михея Ершова приволок в розыскную канцелярию донос делать на твоего сына, да сам, кажись, и попался… Михей и говорить боится, где они были… Рад день и ночь Богу молиться за то, что удалось шкуру унести, не полосованную кнутом… Для Бога, ты об этом проходимце не выспрашивай… Подумают, что ты из конфидентов его – и тебя засадят…
– Спасибо, что сказал… Иван Иваныч… Так его засадили, говоришь. Да правда ли это?.. За что тут садить? Сын мой непутный… не велика хря… Не сегодня-завтра повесят… с Монсом на одну их верёвку… Экой бедный!.. За что могут посадить! Скажи на милость?
Суворов поспешил уйти от начатых сержантом разглагольствий, досадуя на себя, что сказал ему и про солдата, не зная, как примет он это. Ведь его же от доброго сердца хотел отвести от беды – и вот он какой. То-то так скоро и подружились!..
Сержант, оставленный Суворовым, пошёл искать Михея Ершова, соседа своего; но и он, – должно быть, уже предупреждённый Суворовым, – поспешил скрыться. Так что нигде не мог его найти Алексей: ни в кружале, ни у сытника [156]156
Здесь: харчевня; от слова «сыть» – харчь, пища.
[Закрыть], куда захаживали нередко медку испить, ни в обжорном ряду, где обедывали не раз. Обегал все места усердный Алексей, а где ни спрашивал про Михея, слышал одно: «Нет; не бывал; не знаем».
А тут и вечер наступил. Зашёл к Апраксину; накормили и спать уложили. Наутро приехал такой радостный Андрей Матвеевич: вишь, от императора поместья получил: часть сестриных, да за службу по пьянственному собору ранг при дворе обещан.
Вспрыски пошли; сегодня – пир; завтра – похмелье, и… неделя вся.
Отрезвился наконец Алёша. Амуницию отчистил и – к Чернышёву.
Доложил. Подождать велел. Царь тут – нельзя. На родинах был государь и в кумовья сам назвался. Велел крестить в Петербурге, и дела здесь сдать, а в коллегии военной до времени не быть – в Адмиралтействе должность занять.
Приёмы высокого гостя протянулись до вечера. Освободившись, генерал позвал к себе Алексея.








