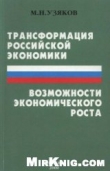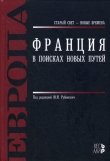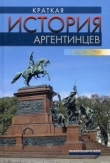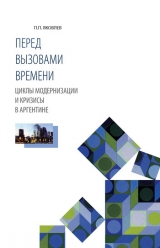
Текст книги "Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в Аргентине"
Автор книги: Петр Яковлев
Жанр:
Экономика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Курс Д. Кавалло, ставивший своей декларированной стратегической целью перевести экономику Аргентины в режим стабильного роста, в идейно-теоретическом отношении имел, выражаясь ленинским языком, «три источника и три составные части», определившие его главные особенности и характерные черты.
Первое.В основе экономических воззрений «суперминистра» и его «команды» лежали взгляды и концепции либерализма. Именно либеральное (точнее неолиберальное) мировоззрение определяло систему базовых ценностей и целей «неоперонистов»(«менемистов»), а также методы и средства достижения этих целей. Анализ взглядов Д. Кавалло, изложенных в его научных работах и официальных выступлениях, позволяет выделить ключевые моменты (критериальные черты) неолиберальной стратегии в ее «аргентинском варианте». В их числе:
♦ последовательное снижение удельного веса государственного сектора в экономике, в том числе через приватизацию госпредприятий;
♦стремление к снижению государственных расходов, минимизация (или полная ликвидация) бюджетного дефицита, цель – сделать «экономику экономной»;
♦ проведение жесткой денежной политики (сдерживание роста денежных агрегатов, и прежде всего агрегата Ml – наличных денег), почти исключающей дополнительную эмиссию и ограничивающей объем кредитов БАН; тем самым предполагалось надеть на аргентинскую экономику своего рода финансовую «смирительную рубашку»;
♦принятие кардинальных антиинфляционных мер и последующее удержание инфляции на максимально возможном низком уровне;
♦ исключение из финансовой практики резких изменений обменного курса (снижение темпов девальвации) национальной валюты;
♦ обеспечение полной открытости аргентинской экономики путем отмены протекционистских мер; возможность сохранения отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в том случае, если оно компенсируется притоком иностранного капитала; поощрение зарубежных инвестиций; предоставление иностранным компаниям и банкам равных прав с местными бизнес-структурами;
♦ допущение роста внешнего долга под тем предлогом, что он служит элементом открытости экономики и важным финансовым резервом ее развития;
♦ сокращение доли социальных расходов в государственном бюджете и разного рода социальных трансфертов (субсидий, дотаций и т. д.), поскольку они снижают конкурентоспособность национального бизнеса и культивируют иждивенческие настроения предпринимателей и населения в целом;
♦ уменьшение числа занятых в государственном управленческом аппарате, понижение степени бюрократизации и коррумпированности властных институтов.
Второе.Сильное влияние на правительство К. Менема – Д. Кавалло оказала популярная в тот период на Западе теория предложения( supply-side economics) [24] ,согласно которой реальный рост в экономике зависит в основном от факторов, воздействующих на предложение, а не на эффективный спрос, как это утверждает кейнсианская концепция. Теория предложения постулирует еще ряд идей, взятых на вооружение аргентинскими реформаторами 1990-х годов. Назовем самые важные:
принципиальная бесполезность механизма девальвации национальных валют, поскольку вслед за этим происходит «всплеск» инфляции, нивелирующий эффект от снижения обменного курса денег;
гипотетическая возможность сокращения заработной платы, так как, в соответствии с теорией предложения и законом Сэя,исключается вероятность кризиса перепроизводства.
Третье. Постулаты уже упомянутого «Вашингтонского консенсуса»,который, как отмечал В.М. Давыдов, «суммировал господствовавшие неолиберальные представления экономических гуру того времени и подходы крупнейших международных финансовых организаций (прежде всего МВФ) к оказанию помощи «проблемным странам, встающим на путь реформ»168. Напомним суть рекомендаций «Вашингтонского консенсуса»: снижение до минимума бюджетного дефицита; изменение приоритетов государственных расходов в пользу здравоохранения, образования и инфраструктуры; проведение налоговой реформы, направленной на расширение облагаемой базы при устранении завышенных фискальных ставок; финансовая либерализация и переход на рыночное регулирование банковского процента; введение унифицированного и конкурентоспособного обменного курса национальной валюты, позволяющего стимулировать нетрадиционный (промышленный) экспорт; замена количественных ограничений во внешней торговле импортными тарифами, поэтапно снижаемыми до уровня 10–20 %; ликвидация барьеров, препятствующих притоку иностранных инвестиций; приватизация государственных предприятий; отмена регламентаций, затрудняющих выход на рынок новых фирм и ограничивающих конкуренцию; надежное обеспечение прав собственности, особенно для неформального сектора169.
Таков был основной теоретический багаж, определивший узловые моменты программы («дорожной карты»)экономических реформ, разработанной неолибералами во главе с Д. Кавалло и реализованной в своих основных чертах в первой половине 90-х годов прошлого века. Как видим, главные подходы, взятые на вооружение Розовым домом, носили космополитический характер и полностью соответствовали западному идейному мейнстриму тех лет. К этому, вероятно, следует прибавить концептуальные подходы собственно аргентинских «исторических» либералов, многие годы бессменно возглавлявшихся Альваро Альсогараем. Превратившись из непримиримых врагов перонизма в наиболее близких союзников К. Менема и окружавших его «менемистов» и «неоперонистов», твердо стоящие на либеральных позициях члены партии СДЦ также внесли свой вклад в идейный арсенал «команды» Д. Кавалло.
Победа ХП на выборах 1989 г. и приход в Розовый дом администрации К. Менема, отказавшегося от идейного наследия «исторического» перонизма и избравшего неолиберальный вариант экономического реформирования, означал, что либеральные знамена СДЦ оказались перехвачены новой властью. Это обстоятельство, с одной стороны, ослабило интерес к либералам (появились иные, значительно более влиятельные носители рыночной идеологии), а с другой – позволило отдельным представителям СДЦ «влиться» в ряды аргентинских реформаторов и внести свой конкретный вклад в процесс рыночных преобразований.
Тем самым вокруг Д. Кавалло образовалась группа «неолиберально настроенных» профессионалов, состоявшая из «неоперонистов», либералов и внепартийных экономистов, главным образом из «Фонда Медитер-ранеа». Так, Карлос Санчес занял пост заместителя министра, Альдо Дадоне – президента БАН, Роберто Доменеч – директора Центрального банка и т. д. Дочь А. Альсогарая – Мария Хулия вошла в состав правительства и приняла самое активное участие в процессе приватизации государственных предприятий. С этой командой Д. Кавалло и приступил к практической реализации программы реформ.
Кардинальное значение для формирования общей линии экономической политики правительства К. Менема имело одобрение Национальным конгрессом 28 марта 1991 г. закона 23.938, который вступил в силу 1 апреля того же года, вошел в историю как закон «О конвертируемости» («конвертибилидад») и коренным образом менял валютно-финансовую ситуацию в стране. Вот его основные положения.
1. Центральный банк был обязан в неограниченном количестве продавать иностранную валюту из расчета 10 тыс. аустралей за 1 доллар США. Несколько позднее (с 1 января 1992 г.) вводилась новая аргентинская денежная единица с традиционным названием – песо и устанавливался ее паритет с американским долларом (1:1).
2. Центробанк обязывался постоянно располагать золотовалютными резервами в объеме не меньше 110 % имевшейся в обороте денежной массы (агрегат Ml). Комментируя такую политику, американские экономисты П. Кругман и М. Обстфельд писали: «Фиксируя валютный курс, центральный банк отказывается от своей способности влиять на экономику посредством денежно-кредитной политики»170.
Кроме того, запрещалась индексация контрактов, номинированных в аустралях, благодаря чему блокировался «переброс» инфляции в будущее, и прерывалась инфляционная инерция, с которой страна жила несколько последних десятилетий. С целью укрепить фактически вводимый в стране бимонетарный режим (равноправное хождение двух денежных единиц: аргентинского песо и доллара США) разрешалось впредь заключать контракты в американских долларах. Существенно менялась и суживалась макроэкономическая роль Центробанка, утратившего возможность финансировать государство путем практически бесконтрольной эмиссии денег (как правило, по требованию исполнительной власти, которая таким способом «заделывала» бреши в федеральном бюджете и одновременно «разгоняла» инфляцию). Это было важнейшее – и весьма трудное – политическое решение, достаточно быстро оздоровившее денежный рынок. В условиях системы «конвертибилидад» государство могло получить дополнительные средства только путем заимствований на внутреннем или внешнем финансовых рынках, выпуская соответствующие суверенные долговые инструменты (обязательства). Такое положение дел теоретически должно было вынудить федеральные и провинциальные власти укреплять финансовую дисциплину и повышать собираемость налогов – единственный источник денежных поступлений, не считая заимствований.
Введение режима «конвертибилидад» и по сей день остается остро дискуссионной темой, сталкивающей самые различные точки зрения и порождающей порой весьма парадоксальные, неожиданные оценки. Рассмотрим некоторые из них, чтобы получить более полную и сбалансированную картину происшедшего в Аргентине в 1990-е гг.
Начнем с мнения самого Д. Кавалло, неоднократно обращавшегося к анализу закона «О конвертируемости». В работе, подготовленной для авторитетного испанского Королевского института Элькано в 2002 г.171, бывший министр сформулировал ряд тезисов, представляющих немалый интерес. Прежде всего, он опроверг абсолютно устоявшееся мнение, что режим «конвертибилидад» предполагал «мертвую» привязку песо к доллару в соотношении 1:1. По утверждению Д. Кавалло, закон устанавливал «потолок» обменного курса, т. е. аргентинская валюта не могла быть дороже американской, но не определял нижнего уровня соотношения двух валют. Таким образом, согласно автору закона «О конвертируемости», введенный валютный режим юридически оставлял возможность для маневра – в случае необходимости понизить номинальную стоимость песо. На этом основании утверждалось, что не следует ставить знак равенства между режимом «конвертибилидад» и твердо фиксированным обменным курсом (pegged/fixed exchange rate).Далее, Д. Кавалло подчеркивал чрезвычайную популярность «конвертируемости», которая позволила аргентинским гражданам осуществлять любые денежные операции и накапливать личные сбережения в иностранной валюте, а на макроэкономическом уровне на определенный отрезок времени (почти 10 лет) обеспечила устойчивость и стабильность национальной финансовой системы. И последнее. Говоря о других макроэкономических эффектах «конвертируемости», экс-министр указал на следующее:
♦ в 1970–1990 гг. среднегодовой прирост ВВП составил 0,7 %, а в 1990–1998 гг. (т. е. в условиях «конвертибилидад») – 6,3 %;
♦ в 1970–1990 гг. количество занятых в народном хозяйстве возрастало в среднем на 0,9 % в год, в 1990–1998 гг. – на 1,4 %;
♦ в 1970–1990 гг. факторная производительность аргентинской экономики (рассчитанная как остаток по Солоу) [25] снижалась в среднегодовом исчислении на 1,1 %, а в 1990–1998 гг. возрастала на 4,3 %172.
Отдельные положительные макроэкономические последствия реализации плана «конвертибилидад» отмечали и другие авторы, включая тех, кто в целом резко критиковал неолиберальную политику 1990-х гг. Так, Хулио Севарес (один из наиболее непримиримых критиков) подчеркнул, что «конвертируемость» радикально сократила инфляционные ожидания аргентинцев, в результате чего индекс потребительских цен упал со 171 % в 1991 г. до 25 % в 1992 г., 11 % в 1993 г. и 4 % в 1994 г. Население страны, большая часть которого родилась и выросла в условиях галопирующей инфляции, не могла припомнить другой период похожей финансовой стабильности. Благодаря этому, пишет автор, «сократилась эрозия доходов, заработная плата, особенно у самых низкооплачиваемых слоев населения, возросла, а бедность уменьшилась»173.
Признавая позитивные эффекты режима «конвертируемости», Рафаэль Оларра Хименес и Луис Гарсиа Мартинес в совместном исследовании отмечают и серьезный просчет «команды» Д. Кавалло, а именно сохранение у государства и его организаций и институтов возможности (ничем фактически не лимитированной) занимать ресурсы на внутренних и внешних финансовых рынках. Конечно, пишут авторы, сам по себе выпуск и размещение суверенных долговых инструментов – нормальная, общепринятая практика, часто совершенно необходимая для бесперебойного хозяйственного функционирования государства. Но в конкретных условиях Аргентины сохранялась и (как показало будущее) сыграла роковую роль возможность безудержного заимствования, не ограниченного какими-то эффективными легальными нормами174.
По мнению Даниэля Мучника, режим «конвертируемости» был своего рода калькой с «Кассы конверсии», регулировавшей валютнофинансовую систему Аргентины в начале XX в., а потому являлся «анахронизмом». Такого рода «фиксированный обменный курс, – продолжал исследователь, – характерен для небольшой горстки государств, тогда как большинство стран мира используют плавающий курс»175. Тем самым Д. Мучник как бы дезавуирует приведенное выше утверждение Д. Кавалло о том, что режим «конвертируемости» не являлся вариантом фиксированного обменного курса и оставлял аргентинскому песо возможность «плавать». Точку зрения Д. Мучника в целом разделяет Альдо Феррер. Он указывает, что Д. Кавалло провел денежную реформу, руководствуясь историческим опытом «Кассы конверсии» и установив фиксированный обменный курс песо. В результате количество денег в обращении стало напрямую зависеть от объема (притока – оттока) валютных резервов Центробанка. Возникшая система, продолжает А. Феррер, не просто являлась бимонетарной, но создавала условия для прогрессирующей долларизации аргентинской экономики, поскольку в скором времени 2/3банковских депозитов, а также коммерческих контрактов и соглашений номинировалось в валюте США176.
Одним из немногих критиков «конвертируемости», напрямую дискутировавших с Д. Кавалло в период наибольшего влияния неолибералов, был Родольфо Терраньо. В частности, две их дискуссии прошли на телевидении в 1993 и 1995 гг. Р. Терраньо являлся сторонником модели, сфокусированной на развитие экспорт-ориентированных отраслей промышленности, и утверждал, что обменный курс 1:1 отнюдь «не оздоровил песо», а лишь «подключил его к аппарату искусственного дыхания». Поэтому, утверждал экономист, «конвертируемость» – это сугубо временная мера, которая должна быть со временем отменена. Но выход из режима «конвертируемости» следует осуществлять постепенно и организованно, и заниматься этим должен реально независимый Центральный банк (наподобие германского Бундесбанка)111.Такие идеи вызывали у аргентинских и зарубежных неолибералов неподдельный ужас. Они дружно утверждали, что отказ от «конвертируемости» будет «безрассудством», что такая мера неминуемо приведет к гиперинфляции, а американский экономист Рудигер Дорнбуш даже предлагал «личности, подобные Терраньо, поместить в зоопарк»178.
Все перечисленное дает представление о том большом влиянии, которое оказала политика «конвертируемости» на идейное состояние политических и академических кругов аргентинского общества. Но главным, разумеется, было ее сильнейшее макроэкономическое воздействие, и в первую очередь беспрецедентное открытие экономики, значительно превосходившее все предыдущие попытки либерализации, что особенно отчетливо проявилось в связи с развернувшимся процессом приватизации государственных предприятий и новой ролью ТНК.
Программа приватизации в рамках открытой экономики
Приватизация государственной собственности, проведенная правительством К. Менема – Д. Кавалло, стала одной из самых масштабных (на мировом уровне) передач госпредприятий в частные руки в 1990-е гг. Менее чем за пять лет аргентинское государство почти полностью «избавилось» от принадлежавших ему значительных активов, передав их – в собственность или в долговременную концессию – частным консорциумам, в которых в подавляющем большинстве случаев главную роль играл иностранный капитал. Местные предприниматели, как правило, участвовали в приватизационных сделках в качестве миноритарных партнеров зарубежных фирм и банков и зачастую продавали впоследствии свои доли мажоритарным акционерам (т. е. иностранным участникам).
Вдохновляемый примером М.Тэтчер, К. Менем представил свой проект приватизации госсобственности в качестве попытки создать в Аргентине «народный капитализм» и превратить «пролетариев в собственников» (“proletaries en propietarios”) [26] .Как писал Анхель Хосами, «новое правительство перонистов Менема заняло места в неолиберальном приватизаторском вагоне, объявив о срочной необходимости сделать аргентинской экономике серьезную хирургическую операцию»179. Перонисты, которые не давали Р. Альфонсину провести весьма ограниченную приватизацию, были готовы практически к тотальной, или, как образно писала З.И. Романова, «ковровой», приватизации180. И действительно, в частные руки перешли не только госпредприятия-лидеры (вплоть до военных заводов), но и самые разнообразные, принадлежавшие государству хозяйственные объекты, включая метрополитен, ипподром, зоопарк, телеканалы, радиостанции и почту.
Характерной внутриполитической особенностью процесса приватизации в Аргентине было почти полное отсутствие (особенно на первом этапе) какой-либо организованной оппозиции данному процессу, как это неизменно бывало в прошлом в ходе практически всех попыток ликвидировать государственный сектор. В 1990-е гг. ситуация круто изменилась по ряду причин. Во-первых,сам госсектор уже в течение длительного времени находился под огнем критики за плохой менеджмент, низкую рентабельность (нередко – убыточность) многих предприятий и неудовлетворительное качество выпускаемых товаров и предоставляемых услуг. В целом такие обвинения были справедливы, другое дело – мало кто задумывался, в чем были реальные причины невысокой эффективности госпредприятий. Как бы то ни было, в пропагандистском плане власти хорошо подготовили общественное мнение к демонтажу госсектора. Во-вторых,не было ни одной весомой политической силы в стране, которая выступала (или могла авторитетно выступать) против приватизации. В самом деле, ГРС не могла этого делать, поскольку сама выдвигала приватизационную программу, СДЦ традиционно требовала покончить с участием государства в экономике, «менемисты» сумели переломить неизменно «государственническую» позицию ХП, а левые партии и группы были слишком слабы, чтобы их протестующий голос кто-то услышал. Более того, кардинальная перемена настроений в руководстве перонизма повлияла и на позицию профсоюзов – непримиримых противников приватизации. Теперь основные профессиональные объединения, как минимум, сохраняли нейтралитет и ждали развития событий. С другой стороны, мощную поддержку планам правительства оказали все самые влиятельные организации бизнес-сообщества, давно не имевшие такой блестящей возможности расширить зону «свободного предпринимательства» и включить в нее сферы, традиционно закрытые для частных компаний. С политической точки зрения ничто не мешало тандему К. Менем – Д. Кавалло реализовывать свои планы.
В макроэкономическом смысле аргентинские неолиберальные реформаторы обосновывали проведение приватизации тремя основными соображениями. Первое —стремлением к повышению эффективности предприятий, находившихся в государственной собственности и своей неудовлетворительной работой «тормозивших» общий прогресс национальной экономики. Второе —императивной необходимостью ликвидировать хроническую дефицитность федерального бюджета, в основе чего как раз и лежала убыточность государственных предприятий. Третье —стратегической задачей остановить быстрый рост суверенного долга, который формировался в решающей степени из-за огромных внутренних и внешних заимствований центральных властей и компаний, принадлежавших государству. В дальнейшем мы увидим, в какой степени «менемистам» удалось достичь этих целей, проводя приватизацию.
Case study
ЭНТЕЛЬ, телекоммуникации Телефонная связь в Аргентине начала развиваться в конце XIX в., когда швейцарский капитал основал небольшую компанию, позднее перекупленную англичанами. В 30-х годах XX в. в стране обосновалась американская монополия ИТТ, поставленная в 1948 г. под государственный контроль правительством Х.Д. Перона. В 1956 г. была создана 100 %-ная государственная «Эмпреса насиональ де телекомуникасьонес» (ЭНТЕЛЬ), ставшая монополистом отрасли. Постепенно ЭНТЕЛЬ превратилась в вопиющий пример неэффективности и коррупции (установка новой телефонной линии либо осуществлялась за взятку, либо могла тянуться 10–15 лет). Логично, что уже через два месяца после прихода к власти К. Менем подписал декрет о приватизации компании. При этом в правительстве даже не скрывали, что хотят сделать из сделки с ЭНТЕЛЬ своего рода приватизационную модель, образец рыночной операции. Не случайно во главе процесса была поставлена М.Х. Альсогарай – большего рыночника и либерала трудно было себе представить. Чтобы сделать коммерческое предложение как можно более привлекательным, государство в период до начала торгов на 90 % повысило тарифы на телефонную связь, приняло на себя все долги ЭНТЕЛЬ (порядка 2 млрд дол.) и взяло обязательство субсидировать в дальнейшем нового собственника в том случае, если его прибыли составят меньше 16 %Ь годовых. Несмотря на то что активы ЭНТЕЛЬ были оценены в 3,1 млрд дол., стартовая цена для международных торгов по этой компании (было выставлено на продажу 60 % ее акций) составила только 1 млрд дол. Остальной акционерный пакет распределялся следующим образом: 30 % оставалось в руках государства, которое некоторое время спустя реализовало их на Фондовой бирже, а 10 % в соответствии с установленным порядком перешли в руки персонала ЭНТЕЛЬ. По итогам тендера владельцами бывшей телефонной монополии, разделившими ее на две самостоятельные бизнес-структуры, стали международные консорциумы, один из которых возглавила ведущая испанская телекоммуникационная компания «Телефоника», а другой – французский концерн «Франс Телеком». В первом случае победитель торгов заплатил 114 млн дол. наличными и внес на сумму 2 720 млн дол. аргентинских долговых инструментов, рыночная стоимость которых не превышала 500 млн дол., во втором – соответственно 100 млн дол. наличными и 2 101 млн дол. в долговых бумагах.
В период 1990–1999 гг. в Аргентине было приватизировано около 110 крупных госкомпаний и передано в частные руки свыше 40 концессий. Общий размер финансовых средств, полученных государством, измерялся цифрой порядка 30 млрд дол., из которых 20 млрд были получены наличными, а 10 млрд – в виде ценных бумаг и аргентинских суверенных долговых обязательств, так называемые операции «долги за активы» (debl-for-equity-swaps).Иногда исследователи приводят немного иные цифры, но они не меняют общей картины: аргентинская приватизация носила масштабный характер, была проведена в исторически сжатые сроки и с технической точки зрения отличалась сравнительно высокой степенью организации. Курс на денационализацию экономики на определенном этапе стал важным инструментом финансирования бюджетного дефицита. Вместе с тем в целом ряде случаев (как, например, с ЭНТЕЛЬ) государственные активы приобретались приватизаторами по ценам значительно ниже рыночных, что нередко использовалось противниками К. Менема для политических атак на его правительство. Власти сознательно шли на такого рода издержки, рассчитывая в конечном счете укрепить конкурентные (рыночные) начала экономики. В Розовом доме считали, что главное состояло в том, чтобы на месте убыточных госмонополий создать конкурирующие между собой высокорентабельные частные фирмы и таким образом повысить эффективность производства товаров и услуг. При этом отраслевая направленность приватизационного процесса, вполне естественно, детерминировалась структурой госсектора, в котором главный удельный вес приходился на компании, предоставлявшие коммунальные услуги (телефонная связь, газ, электричество, водоснабжение), а также банковские учреждения и транспорт. Все они были приватизированы в 1990–1999 гг. (см. табл. 4.1). Кроме того, под паровой каток приватизации попали металлургические предприятия, тепловые и гидроэлектростанции, страховые общества, морские и речные порты, фирмы, обслуживающие внешнеторговые операции (погрузка-разгрузка грузов и т. д.), судостроительные верфи.
Таблица 4.1 Ведущие государственные компании, перешедшие в частные руки в 1990–1999 гг.


Составленопо: Caballero A.I. у Otros.Economia Argentina en Presente у Futuro. Buenos Aires, 2000. P. 414–417.
Case study
«Аэролинеас Архентинас» Приватизация находившейся в собственности государства крупнейшей аргентинской авиатранспортной компании «Аэролинеас Архентинас» была одной из первых в длинном списке приватизационных сделок, совершенных правительством К. Менема, и, как и ЭНТЕЛЬ, стала своего рода парадигматическим случаем, иллюстрирующим многие характерные аспекты процесса приватизации в Аргентине. Переход «Аэролинеас» в частные руки начался с президентского декрета № 1591 от 27декабря 1989 г., объявлявшего международный тендер на ее приобретение. Единственным заинтересованным покупателем была бизнес-группа в составе испанской авиационной компании (кстати говоря, государственной) «Иберия» и нескольких аргентинских миноритарных участников. Соглашение о приватизации «Аэролинеас» было подписано 21 ноября 1990 г. и сразу же обоснованно вызвало немало критических комментариев. Рассмотрим условия сделки. Накануне тендера полная стоимость «Аэролинеас» была оценена в 630 млн дол. На торги фактически выставлялось 85 % акций компании (с заявленной ценой 530 млн дол.), поскольку 5 % оставалось в руках государства, а 10 % переходило к служащим предприятия. При этом в оценку активов компании (что было совершенно некорректно) входила лишь стоимость движимого и недвижимого имущества (самолетный парк, офисы и т. д.) и не учитывался такой важный фактор, как коммерческая цена торговой марки и налаженных маршрутов: «Аэролинеас» контролировала 98 %Ь внутренних пассажирских перевозок и 50 % международных рейсов из Аргентины. Кроме того, компания передавалась покупателю без долгов, которые брало на себя аргентинское государство – 740 млн дол. В итоге новые владельцы приобрели: признанную торговую марку, внутренние и международные маршруты, 28 собственных авиалайнеров и один арендованный, десятки офисов в Аргентине и за рубежом (в том числе на Виа Венето в Риме, Елисейских Полях в Париже и в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке), заплатив за все в общей сложности порядка 464 млн дол., из которых только 130 млн наличными, а остальные – в ценных бумагах и купленных за 14 % их номинальной стоимости суверенных долговых обязательствах Аргентины (debt-for-equity-swaps). Говоря ненаучным языком, компания досталась новым владельцам даром.
Важнейшей отличительной чертой процесса приватизации было широкое участие в нем иностранного капитала, в том числе многих ведущих мировых ТНК и ТНБ. Действуя в духе постулатов «Вашингтонского консенсуса», правящие круги Аргентины в 1990-е гг. создали оптимальные условия для экспансии международного капитала, что вызвало очередную – и самую мощную – волну зарубежных инвестиций в аргентинскую экономику. Именно иностранный капитал был сделан несущей осью новой хозяйственной политики, рассчитанной на модернизацию экономических структур страны и ускорение ее развития.В известном смысле стратегия правящего дуэта К.Менем – Д. Кавалло была (по замыслу) стратегией прорыва в постиндустриальный мир, и ударной силой этого исторического рывка должен был служить транснациональный промышленный и банковский капитал. В этом состояла специфика очередного (на этот раз – неолиберального) модернизационного проекта, третьей в истории страны волны модернизации.Европейские и американские корпорации и банки моментально усмотрели новые фантастические для себя возможности на аргентинском рынке и решительно возглавили процесс перехода государственной собственности в частные руки. Приведем некоторые показательные цифры. По данным ЭКЛАК, в период 1990–1998 гг. в приватизацию госпредприятий Аргентины было вложено 18,4 млрд дол., из них иностранными компаниями – 16,1 млрд дол. (87,5 %), а частными аргентинскими – 2,3 млрд дол. (12,5 %)181. Тем самым не будет преувеличением сказать, что демонтаж государственного сектора почти полностью был осуществлен зарубежными ТНК, сумевшими прибрать к рукам ряд наиболее перспективных предприятий и целых секторов. В частности, крупнейшие активы иностранный капитал приобрел в одной из ведущих отраслей аргентинской экономики – нефтяной.
Case study
ЯПФ и нефтяной сектор Созданная в 1922 г. государственная нефтяная корпорация «Ясимьентос петролиферос фискалес» (ЯПФ) долгие годы являлась символом экономического суверенитета Аргентины и играла исключительную роль в хозяйственной жизни страны. С момента своего образования ЯПФ обеспечивала львиную долю добычи нефти и контролировала свыше половины ее коммерциализации. На долю компании приходилось до 10 % национального ВВП. До начала 1990-х гг. все попытки различных правительств (в том числе А. Фрондиси и Р. Аяьфонсина) ощутимо ограничить доминирование ЯПФ и ассоциировать компанию с иностранными партнерами заканчивались провалом, натыкаясь на яростное сопротивление политической оппозиции и профсоюзов. В 1989 г., когда К. Менем объявил о намерении приватизировать ЯПФ, она обеспечивала 63 % добычи нефти, 61 %Ь переработки, а на ее предприятиях было занято 35 тыс. рабочих и служащих. Это был один из крупнейших работодателей Аргентины. В первую очередь благодаря ЯПФ страна полностью обеспечивала себя нефтью и основными нефтепродуктами, гарантировала национальную энергобезопасность. Аргументы в пользу приватизации ЯПФ не отличались новизной: низкая эффективность в расчете на одного занятого, огромные долги, недостаточный технический уровень, архаичная корпоративная структура, непрофессиональный менеджмент. На роль главного приватизатора компании был назначен боливийский бизнесмен-нефтяник Хосе Эстенссоро, имевший значительный опыт работы в нефтяной промышленности США. В декабре 1990 г. К. Менем подписал декрет № 2778 и дал «зеленый свет» приватизации ЯПФ, превратив компанию в акционерное общество. Параллельно были открыты двери в нефтяную промышленность Аргентины частным национальным и иностранным предпринимателям. Уже в 1993 г. в этом секторе, наряду с ЯПФ, работало еще свыше 30 частных фирм. Процесс приватизации бывшей госмонополии прошел несколько этапов и растянулся до июня 1999 г., когда испанская энергетическая корпорация «Репсоль» за 13 млрд дол. приобрела 100 %Ь акций ЯПФ. К этому моменту персонал аргентинской компании сократился до 5 тыс. человек (т. е. уменьшился в 7 раз), а сама она вышла на сравнительно высокую рентабельность, оставив далеко позади времена хронической убыточности. Вновь образованная корпорация «Репсоль – ЯПФ» вошла в число ведущих мировых нефтяных компаний, а энергетический сектор аргентинской экономики быстро приобретал новую конфигурацию.