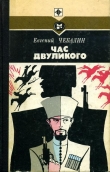Текст книги "Корень зла (др. изд.)"
Автор книги: Петр Полевой
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
VIII
На севере диком
Гудит, воет, заливается жалобным воплем метелица, заметая дороги, наметая сугробы, крутя снежными вихрями на открытых полянах, гуляя на просторе северной поморской мерзлой пустыни. Прямо с севера дует ледяной «полуночник» и словно ножом режет лица трех путников, закутанных в оленьи малицы и ежившихся под оленьим одеялом на дрянных дровнишках, запряженных косматой каргополкой. Один из них то и дело слезает с дровнишек и бродит по сугробам, длинным шестом нащупывая дорогу.
– Ну что, дядя? Крепок ли ты на пути? Аль сбился с него? – спрашивал старший из спутников, судя по голосу, старик.
– Кажись, крепок… Да ведь вот поди какая завируха поднялась! И стоишь на пути, и сам не знаешь: хошь у ветра спроси совета – не даст ли ответа…
– Такой было первопуточек славный стал, только бы ехать да Бога благодарить. И ведь от самых Холмогор как хорошо до последнего стана ехали, а тут с вашей деревни и пошло.
– Да ведь от нашей-то деревни и всего двенадцать верст до обители. Тут вот сейчас должны бы мы через речку Сию переехать, а там вдоль Святого озера, бережком… А тут Антониев монастырь и есть.
– Дай Бог туда хоть к ночи-то добраться, совсем бы с дороги-то не сбиться! – говорил старик возчику.
– Совсем-то не собьемся… Кони у нас привычные, хоть где жилье отыщут, а проплутать-то точно что можем и до ночи, – успокаивал возчик, опять усаживаясь в дровни и понукая лошадку, ступавшую по колено в снегу.
– На богомолье, что ли, едете, купцы? – спрашивал их во время пути возчик.
– На богомолье, – отвечал старик.
– Чай, по обету, издалечка?
– По обету, издалечка, – отвечал старик.
– Что ж рано в путь собрались? К Антонию Сийскому богомольцы раньше Артемьева дня мимо нас не едут, а вы, верно, в Холмогорах только Покров захватили?
– Не знали мы, не здешние, из дальних… Вот и платимся… Ох Господи, ветрище какой! Как иглой и скрозь шубу шьет! – жаловался старик, ежась и дрожа от налетевшего порыва резкого ветра, осыпавшего путников целыми тучами снега.
– Рожу-то, главней всего, прикрывай, а то как раз без щек да без носу останешься… Да поталкивай в бок товарища-то – не заснул бы!..
Но молчаливый спутник старика встрепенулся, обивая с груди и плеч толстый слой снега, и проворчал только:
– Пошевеливай ты коня-то, поскорей бы до обители добраться, а то, и не заснув, замерзнешь.
– А ты думаешь, обогреют тебя в обители-то, приятель? – обратился возчик к молчаливому спутнику старика. – Нонче там такие порядки завелись, что богомольцам туда и дорога скоро западет! С той поры, как поселили там чернеца-то этого (из бояр, что ли, постриженный?) да пристава государева со стрельцами прислали, так и монахам-то житья от них в обители не стало!
– Что же так? – с видимым любопытством спросил возчика старик.
– А то, что у ворот да у собора сторожа да у кельи того чернеца сторожа… Придешь к угоднику Божью на поклон, а тебя у ворот допрашивают, что за человек? Да к угоднику-то тоже со сторожем ведут… И как служба отошла, так тебя из обители взашей…
– Неужто же там и для странных-то, и для богомольцев избы хоть какой нет?
– Было прежде и две избы и трапеза завсегда готовая, да под того опального одну избу заняли, а другую под пристава царского, а стрельцов по кельям разместили, ну, старцам-то и не стало житья! Все опального стерегут, чтобы он ни с кем не сносился… А уж где тут сноситься! Кто сюда к нему сунется?
– Да он там как же? Под замком да за решеткой, что ли, сидит? – продолжал расспрашивать старик.
– Какая там решетка! Старцы и городьбу-то монастырскую ноне разобрали да на гумно свезли… А стоит изба того опального крайней к озеру, и пройти к ней можно только мимо других изб… Зачем тут решетки? Здесь и так никуда не сбежишь.
В это время между порывами ветра, в минуту случайного затишья, вдали ясно послышался звон колокола.
Путники встрепенулись… Младший толкнул старшего под бок:
– Слышь, Сидорыч! Звонят! Ей-ей, звонят в колокол!
Возчик обернулся к ним и сказал:
– Это у старцев в Антониевой обители обычай! Как поднимется такая завируха, они и станут в колокол звонить, чтобы не заплутался кто на озере…
– Святой обычай! – прошептал Сидорыч, крестясь окоченевшей рукой.
– Вот вы говорили – до ночи бы добраться! Еще засветло приедем! – сказал с самодовольством возчик, спускаясь к озеру. – Тут вдоль по бережку нам и всего-то версты три осталось…
– Знаем мы ваши поморские версты! – ворчал Сидорыч. – Мерила их баба клюкой да махнула рукой! Погоняй, погоняй, где можно!
Гудит, ревет, завывает дикими голосами метелица, прорываясь с озера между избами в ограде монастырской, свистит в проломы и щели плохой монастырской городьбы, стонет жалобно в печных трубах и под стропилами, валит сугроб на сугроб, словно помелом охлестывая стены, занося белым снежным саваном двери и окна келий и храма. Тьма и стужа, вихрь и снег облаками налетают словно из какой-то огромной пропасти… Ни зги не видно в двух шагах… Спит обитель под завывание вьюги, даже и сторож монастырский не стучит в свое било, – должно быть, запрятался куда-нибудь в теплый угол, чтобы не замерзнуть.
Только в одном окошечке в крайней избе к озеру чуть-чуть светит огонек, мерцая звездочкой сквозь мрак и метель. Там, в тесной келье, за дощатой переборкой на маленьком столике теплится лампада перед большим потемневшим складнем. Рядом с лампадой на столике две книги в темных кожаных переплетах с серебряными чернеными застежками. Далее около стола узкая лавка, прикрытая оленьей шкурой, изголовье из пестрого киндяка и нагольная овчинная шуба. Высокий и плечистый инок средних лет в скуфье и потасканной рваной ряске, подтянутой кожаным поясом, сидит на лавке, опираясь большими, мощными руками на колени и свеся голову так, что длинная, седеющая борода его падает ниже пояса и густые темно-русые волосы с сильной проседью, выбиваясь из-под скуфьи, закрывают всю верхнюю часть лица. Чернец сидит так неподвижно, смотрит в одну точку так упорно и сосредоточенно, что, глядя со стороны, можно подумать, он спит… Но нет! Сон бежит от его очей… Чернец устремил очи в полумрак смежной комнаты, из которой долетает до его слуха мерное дыхание спящего служки, и перед его отуманенным взором одна за другой проходят яркие, блестящие картины прошлого. Смиренный старец Филарет, забыв о келье, вспоминает о том времени, когда он жил в мире и был боярином Федором Никитичем Романовым.
Перед ним в пестрой, живой картине проносятся боевые тревоги военных походов и удалых схваток с врагом. В завывании и реве метели ему явственно слышатся и топот коней, и звяканье мечей о крепкие шеломы, и крики воинов, и стоны раненых… Нет! Он ослышался… Это звучат, ударяясь край с краем, заздравные ковши и кубки, это раздаются радостные крики пиршества – и он видит себя среди ярко освещенной палаты, среди друзей и родных, среди кровных и братьев. А крутом стола снуют и суетятся все добрые, давно знакомые лица старых слуг и домашних… И он вдруг вскакивает со своего убогого ложа и озирается кругом себя со страхом и тревогой, он не верит себе, оглядывает, осязает свою грубую, потасканную ряску и снова с горькой улыбкой разочарования опускается на свою скамью.
– Минули, прошли земная слава и роскошь!.. Минули! – шепчет Филарет, опуская голову на грудь.
Но он не в силах отогнать от себя воспоминаний и образов минувшего…
Плачет и стонет метель за окном, и среди ее нестройных звуков и порывов Филарету слышится шум речей и громких споров… Он видит себя в полном блеске своего боярского сана, видит себя первым из первых вельмож в думе царской. Он держит речь, и все ему вторят, все дивятся его разуму, все льстят ему и хвалят его прямоту, его бескорыстие… Все славят его опытность в делах государственных, и он невольно шепчет про себя:
– Никого-то у них теперь там в думе не осталось разумного! Один только Богдан Вельский был и к посольским, и ко всяким делам добре досуж… И того Борис сослал и нас сгубил без вины!
Новый порыв бури налетает на келью, рвет и воет в закоулке около нее, перебирает драницами на крыше, и перед Филаретом с поразительной отчетливостью всплывают страшные сцены опалы, допросов, унижения, разлуки с дорогими и милыми… И в сердце вновь на мгновение закипает чувство ненависти и злобы к Борису и к недругам, к злодеям:
– Они давно искали голов наших! Мы у них бельмом на глазу были… Мы им мешали нашей прямотою… Ходу не давали их лукавству… Будь они прокл… О Господи, Господи! Прости мне ропот мой, и ненависть, и гнев неправый! Смири во мне дух гордости и любоначалия… Дух смиренномудрия даруй рабу Твоему! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати… Не осуждати брата моего!
И он опустился в горячей молитве на колени перед иконой… И долго молился, и совладал с собой настолько, что мрак в душе его опять рассеялся, и помыслы о мире уступили место иному, более возвышенному настроению.
Он поднялся с молитвы и вдруг услышал стон в соседней комнате, где на лежанке спал его служка. Филарет приблизился к спящему юноше, ощупал его лоб, заботливо прикрыл его тулупом и едва успел отойти от лежанки, как юноша стал говорить во сне:
– Тятенька! Матушка! Где вы?.. Сиротой вы меня покинули!..
Филарет затрясся всем телом и отскочил от лежанки, как ужаленный, потом схватился за голову и сам для себя заговорил:
– Так, так же точно теперь и мои малютки ищут отца с матерью, так же тоскуют и жалуются на сиротство свое!.. И где они, где?! Где и жена моя, страдалица горькая, по них сокрушается? Чай, туда ее, изверги, замчали, что до меня и слух о ней не дойдет!.. И зачем о них я вспомнил! Губят они мою душу, не дают спастись мне! Как вспомню о них, так в сердце-то словно рогатиной ткнет… Господи! Милосердный! Что делать мне с горячим сердцем моим? Сжалься, смилуйся Ты надо мною, прибери их скорее в обитель Свою светлую под кров Свой, где бы им люди злые лиха никакого не чинили… Тогда я стал бы промышлять одной своей душой… Одну свою душу смирять, истязуя плоть свою!
И с жгучей болью в сердце, в страшных терзаниях нравственных, он хотел снова молиться, снова обратиться к Богу – и не смог. Его мысли путались и блуждали, в воображении его носились знакомые образы милых детей, оторванных от его сердца, молодой жены, насильно вырванной из его объятий… И опять та же буря, страшная буря поднималась в его душе, и он метался по келье из угла в угол, как зверь в клетке, он не находил себе места, он был близок к отчаянию…
«Но что это? Стучат?.. Кто-то стучится?.. В двери стучится? Нет, это так – почудилось».
И Филарет перекрестился, стараясь отогнать от себя бесовское мечтание.
Но стук в двери повторился… И чей-то голос что-то проговорил невнятно, глухо.
– Кто бы это мог быть? В такую пору, в такую вьюгу… Кто там? – окликнул Филарет, подступая к двери.
И явственно услышал, как кто-то произнес дрожащим голосом:
– Боярин! Отвори, Христа ради!
Филарет вздрогнул от этих слов и от этого голоса, который почему-то показался ему знакомым. Он рванул дверь сильной рукой и тотчас отшатнулся от порога, сам не постигая, что перед ним происходит.
Из сеней, тяжело и медленно переступая через порог, вошел в келью кто-то, закутанный в оленью шубу и до того запорошенный снегом, что его скорее можно было принять за привидение, чем за живого человека.
– Кто ты? Кто ты? С нами крестная сила! – воскликнул Филарет, осеняя себя крестным знамением.
Вошедший рухнул на колени и заговорил дрожащим, старческим голосом:
– Батюшка, боярин! Аль не признал меня, старого слугу?
– Сидорыч!..
– Он самый!
И старик обнимал ноги своего боярина и с жаром целовал его колени, полы одежды…
Филарет поднял его с пола и крепко обнял, и несколько мгновений ни тот, ни другой не могли произнести ни слова от волнения.
– Как ты сюда попал?.. Не видели ль тебя? Ведь если узнают, тебя замучат, затомят в тюрьме…
– Что мне тюрьма! Пускай сажают, коли любо… Мне нужно весточку-то, весточку тебе, боярин, передать… Все живы! И боярыня твоя, и боярчонок, и боярышня… Живехоньки!
Филарет не выдержал, он опустился на лавку, трепеща всем телом, грудь его высоко вздымалась, он хотел говорить, спросить, узнать, но язык ему не повиновался.
– Сам видел всех! – продолжал старик, широко и радостно улыбаясь. – Сам у них и на Белоозере побывал, и сестриц твоих видел, и детки там твои, и зять – бедненько и тесненько живут, а мирно, хорошо таково. Михайло-то Федорович уж во какой вырос, а Татьяна Михайловна на эстолько повыше. Все тебе поклоны шлют… А от боярыни тебе вот и гостинец я привез… Погоди-ко… Ох, руки-то окоченели… Не владаю перстами, почитай!..
И он полез за пазуху, и долго-долго рылся, и вытащил оттуда наконец какой-то сверток. Подавая его боярину, сказал:
– Как я с Белоозера пришел к ней в Заонежье, в Егорьевский погост Толвуйской волости (ведь во куда сослали!..), да как сказал, мол, что еду к тебе и с весточкой о детках и об ней… Боярыня-то и вынесла мне это и говорит: «Скажи моему соколику ясному, что это я ему, здесь живя, рубашку сшила и, вспоминаючи о нем, над той рубашкой все слезы выплакала! Пусть и он над ней поплачет, меня вспомянет!»
Как он это сказал, как развернул перед своим боярином эту простую холщовую рубаху, шитую по вороту и рукавам простым крестьянским швом, Филарет выхватил рубаху из рук Сидорыча, прижал ее к груди, стал целовать и заплакал… И плакал над нею, как ребенок, плакал теми чудными, сладкими, разрешающими слезами радости и счастья, которые так редко посылаются нам Богом.
А Сидорыч стоял перед ним и налюбоваться не мог на него, и ему казалось, что он переживает счастливейшую минуту жизни.
Но в дверь раздался условный стук, извещавший, что пора расстаться.
– Ну, прощай, батюшка боярин! Благодарение Богу, привел с тобой еще свидеться!
И он, отступая на шаг, в землю поклонился Филарету.
Стук повторился спешный, порывистый. Филарет крепко обнял старого слугу и мог только проговорить:
– Всем… Всем! Расскажи, что видел…
И Сидорыч исчез за дверью, как виденье…
А Филарет все еще не мог выпустить из рук привезенного гостинца, все любовался им, все целовал его, все прижимал к сердцу, все плакал… И дух его, окрыленный доброй вестью о милых, с теплой признательностью возвышался к Богу в немой, но чудной молитве.
IX
Суд Божий
Ранние октябрьские сумерки уже опускались над Москвой, когда поезд царя, спешно возвращавшегося с богомолья от Троицы, вступал в Кремль Фроловскими воротами и въезжал с Ивановской площади на Дворцовый двор.
– Что он так скоро с богомолья обернул? – толковали среди дворцовой служни, толпившейся у ворот и выжидавшей поезда царицы. – Знать, не к добру?
– Вестимо, не к добру… Вечорась к нему второго гонца послали из Посольского приказа… Королевич, мол, недужен…
– Вот что!
– Да, чай, не это только?.. Что ж королевич! Человек он молодой, велико ль дело! Объелся либо простудился в отъезжем поле, ну, поваляется и отлежится! Чего другого нет ли?
– А что же? Что же бы такое? Разве слышно что?
– Э-э! Слухов всех не переслушаешь! Такие-то вон страсти бают… Того сулят, что и не приведи Господь!
– Чего мудреного? – вступился в беседу служни старый жилец. – Теперь недавним голодом да мором напуганы, всякой напасти ждут!
– Да и мудреные же, братец, времена! – сказал один из царицыных дьяков. – Ведь вот уже седьмой десяток на свете доживаю, а не слыхал такого дива, как нынче деется… Хоть бы на прошлой-то неделе лисицу черную под самым Кремлем на площади, около рядов убили!
– Слыхали, как же! Как же! Да, говорят, еще какую, немчин один давал сейчас за шкуру не девяносто ли рублев!
– А про волков слыхали?.. Говорят, вон по Смоленской-то дороге их такие стаи бродят, что и посмотреть-то страшно… И все промеж себя грызутся да воют, воют жалобно таково!
– Вот, говорят, волк волка-то не съест? А как уж такое-то пошло – не к добру это! К раздору, к смуте какой-нибудь?
– Вон! Вон и царицын поезд! Очищай дорогу! Бегите, дайте знать там на сенях да на Постельном крыльце!
И точно, царицын поезд показался в Фроловских воротах. Сорок человек конных ехали впереди и вели в поводу богато украшенных лошадей. За ними сама царица ехала в громадной и широчайшей расписной колымаге, запряженной десятью сытыми и красивыми белыми конями, которых под уздцы вели царские конюхи. За этой колымагой в коляске, запряженной восемью конями и завешанной коврами, ехала царевна. Кругом коляски бойко гарцевали на белых конях боярыни и сенные девушки царицы и царевны, все они сидели на конях верхами, по-мужски, на головах у них были белые войлочные шляпы с широкими полями, цветными лентами, подвязанные к подбородку. Белыми фатами были окутаны лица, а длинные темные одежды широкими и мягкими складками покрывали их от плеч и до желтых сафьяновых сапог. Шествие замыкалось царскими стольниками, которые ехали верхами по трое в ряд, а триста человек вооруженных стрельцов сопровождали поезд с боков, освещая путь его фонарями, привешенными к копьям. Этот длинный и нескончаемый ряд фонарей придавал поезду что-то странное, таинственное. Люди и лошади мешались во мраке, и свет мерцавших в тумане фонарей отбрасывал по сторонам длинные причудливые тени, которые рядом с поездом двигались по стенам домов и соборов, колеблясь и медленно выступая огромными широкими шагами.
Но вот передовой конный отряд и все стрельцы остановились у ворот Дворцового двора на площади, а колымаги царицы и царевны, стуча и громыхая по мостовой, въехали в ворота в сопровождении стольников и боярынь и скрылись во мраке за углом зданий.
– Уж, видно, что-нибудь недаром! – говорил своим товарищам старый жилец у ворот. – В вечеровую пору в путь царица пустилась и с царевной! И на последнем стану до утра не обождали… Что-нибудь недаром!
И точно, недаром поспешила вернуться с богомолья в Москву вся царская семья. Царь Борис получил у Троицы известие о том, что его будущий нареченный зять заболел горячкой, и доктор Каспар Фидлер писал государю, что не может ручаться за исход болезни. Встревоженный Борис захотел собственными очами убедиться, точно ли его семье угрожает новый и тяжелый удар, и немедленно собрался в обратный путь… За ним последовали и царица Мария с царевной Ксенией, от которой тщательно старались скрыть страшную новость.
Но это неожиданное быстрое возвращение в Москву, вследствие каких-то вестей, полученных у Троицы, уже встревожило Ксению… Она почуяла что-то недоброе в том сдержанном молчании, которым царица отвечала на все ее вопросы, и страшно волновалась во время всего обратного пути в Москву. Этот путь, знакомый ей с детства, памятный по многим радостным воспоминаниям ранней юности, теперь показался тоскливым, невыносимо скучным и бесконечным.
Затем, по приезде в Москву, потекли дни тяжелой неизвестности. Царевна не могла не знать о болезни королевича, хотя все слухи и разговоры о нем как-то вдруг замолкли. Бывало, прежде каждый день ей доносили, что королевич делал в тот день на съезжем дворе, куда изволил кататься, чем тешился ввечеру. Поутру заглядывала к ней царица Мария с разговорами о женихе или призывала ее к себе на свою половину примерять наряды да обновы, а после обеда или под вечер заходил к ней брат, царевич Федор, и сообщал ей все, что успевал прознать про Данию и датчан от толмачей, которые вели переговоры с вельможами королевича.
И вдруг все точно забыли о царевне, все как будто стали сторониться ее и даже избегать с ней всяких разговоров. В самой служне своей она заметила какую-то мудреную, диковинную перемену, все больше прежнего старались услужить ей, окружали ее заботливостью и холили, все были к ней внимательны и ласковы, как к малому больному ребенку, и все старались, видимо, не проронить ни слова о чем-то таком, что, очевидно, у всех просилось на уста. Даже веселая болтливая боярыня-казначея как-то нахмурилась и прикусила язычок и на все вопросы царевны: «Что, мол, с нею сталось?» – отвечала только скороговорочкой сквозь зубы:
– Неможется, царевна! Старость, как видно, стала приходить… – и спешила удалиться под первым предлогом.
Царевна вспомнила, что точно так же относились к ней все окружающие в ту пору, как и за первым женихом ее «объявились всякие неправды» и брачный союз с ним стал невозможен. И вот в душе ее рядом с опасениями за здоровье королевича возникли новые и более страшные опасения за то, что и теперь ей не придется дожить до столь желанной перемены в жизни, что и теперь ей придется влачить по-прежнему нескончаемо скучные дни в одиночестве и все в тех же четырех стенах терема. Эта мысль так напугала Ксению, что она решилась добиться правды во что бы то ни стало… Она послала звать к себе брата-царевича и приказала сказать ему, чтобы он шел к ней в терем взглянуть на новую диковинку, которую поднес ей в дар приезжий иноземец Ганс Клупфер, и царевич Федор, охочий до всяких иноземных диковинок, тотчас явился в терем к сестре-царевне.
Царевна Ксения пошла к нему навстречу с улыбкой и сказала очень спокойно и ласково:
– Что, братец, давно не жаловал ко мне? Совсем забыл свою сестричку Аксиньюшку, диковинкой заморской заманивать пришлось! А еще недавно захаживал ко мне почасту…
– Да недосуг все было, право…
– Недосуг? – переспросила Ксения, смотря в очи брату пристальным, испытующим взглядом. – Варенька, дай мне из скрыни, что в опочивальне, ту книгу, которой бил челом мне иноземец…
Боярышня Варенька быстро вышла в опочивальню, явилась через минуту с толстой золотообрезной книгой, переплетенной в белый пергамент с золотым тиснением и золочеными застежками, и подала ее царевне с низким поклоном. Царевна приняла эту книгу и сказала боярышне:
– А теперь ступай, скажи, чтоб казначея… Нет! Побудь здесь близко в сенях за дверью…
Боярышня вышла, а Ксения развернула перед братом немецкую Библию с прекрасными гравюрами, изображавшими библейские типы и притчи.
– Ах! Какая книга славная! – говорил, просматривая Библию, царевич Федор. – Какие действа и лики изображены и под каждым подписано… Погоди-ка, я разберу тебе все подписи, Аксиньюшка, ведь я теперь в немецком крепок…
И точно, царевич стал прочитывать немецкие подписи под картинами и переводить их сестре.
Ксения не смотрела в книгу, она положила руку на плечо брату и сказала ему тихо:
– Ты точно крепок стал в немецком… лукавстве! Научился у них лукавить! Впрок пошла тебе посольская наука.
– Что ты, Бог с тобой! Что говоришь, сама не ведаешь! – сказал царевич, отрываясь от книги и тревожно взглядывая на Ксению.
– И теперь лукавишь! – вспылила Ксения. – Скрываешь вести о королевиче, о милом нареченном женихе моем!.. О, если можешь, скажи мне все, что знаешь!
И она обвила шею брата руками, и целовала, и ласкала его, и глядела ему в очи… Царевич не выдержал и, печально понурив голову, прошептал:
– Вести недобрые! Вести нерадостные…
– Пусть нерадостные! Говори, не жалей меня, они все же лучше моих сомнений!
– Не хорош твой суженый… Четырех дохтуров послал к нему отец наш – и те сказали вчера, что с огневицей им не справиться, и если нынче ночью не даст Бог лучше…
– О-ох, Господи! – застонала Ксения, закрывая лицо руками. – Видно, нет нам счастья!.. Отвратил Господь от нас лицо Свое… И наказует за тяжкие грехи…
И слезы обильным ручьем полились из ее прекрасных очей.
– Что я наделал! – спохватился царевич, поднимаясь спешно и стараясь утешить царевну. – Да что ты, Аксиньюшка! Ведь дохтура-то это так сказали. А Бог-то даст – и королевич твой опять поправится… Ведь молодой он да крепкий, недут его не сразу сломит!
Но Ксения его не слушала и все плакала, плакала горько, неутешно, сердце подсказывало ей, что королевич не устоит в борьбе с недугом, что не сбудутся ее мечты о счастье и замужестве.
Когда царевич ушел от Ксении, она пошла к себе в моленную и бросилась там на колени перед образом. Она молилась, молилась долго, но молитва ее не облегчала, не наполняла ее души той благодатью, какую она так часто испытывала прежде. Она молилась устами, а сердце ее было полно мирских забот и дум… Она молила Бога о пощаде и милости, об исцелении страждущего жениха своего и не могла отогнать от души тяжких, мрачных сомнений.
То ей казалось, что не услышит Бог ее молитвы, то представлялось, что Он не смилуется над иноверцем, то вспоминались ей последние слова боярыни Романовой, и она говорила себе среди молитвы:
– Да! Родители мои расстроили их теплое гнездо… Мужа разлучили с женою, детей осиротили! Грех великий! И не на мне ли Господь отплатит им! О, горе, горе мне, бедной!..
И Бог представал Ксении во всем грозном величии силы и могущества, не Всеблагим и Всепрощающим, а карающим, мстительным, наказующим «в роды род…» Она молилась, но малодушный и маловерный страх не покидал ее, и тревожил мрачными образами грядущих бедствий, и проливал уныние ей в душу, отнимая надежду на неисчерпаемое милосердие Божие…
Ксения слышала, как к ней в моленную два или три раза стучались, окликали ее по имени и снова отходили от дверей, не получив ответа. Она очнулась от тяжких дум когда уж наступили сумерки… Поднявшись с колен, она хотела выйти в комнату, как вдруг раздался на соборной колокольне удар колокола.
– Что это за звон? – тревожно встрепенулась Ксения.
Новый удар колокола прогудел над Кремлем, печальный, унылый, протяжный… Ксения не вытерпела и бросилась к себе в комнату.
– Что это за звон?! Зачем звонят? – спросила она, быстро подступая к боярыне-маме, которая стояла в углу у печи и о чем-то перешептывалась с боярыней-казначеей и боярыней-кравчей.
Мама ничего не отвечала и только беспомощно переглянулась со своими товарками.
– Зачем звонят? – крикнула Ксения, порывисто хватая маму за рукав. – Или ты оглохла? Бегите все, узнайте!
Но в это время дверь из сеней отворилась, и на пороге показался царь Борис в смирном платье. Позади него в сенях виднелись в полумраке фигуры бояр из годуновской родни и царевич Федор.
Ксения взглянула в лицо отцу, взглянула на его смирное платье и отшатнулась от Бориса, который торжественно и медленно вступил в ее покой, опираясь на черный посох.
– Аксиньюшка! – произнес он тихо и печально. – Лишились мы с тобою радости… Погибла сердечная моя утеха! Королевич, жених твой, приказал долго жить…
– Суд Божий, праведный суд Божий! – воскликнула Ксения и без чувств упала на руки своих боярынь.