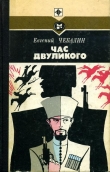Текст книги "Корень зла (др. изд.)"
Автор книги: Петр Полевой
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
IV
В гостях у Федора Никитича
Когда Тургенев с Калашником подошли к воротам романовского подворья, перед хоромами боярскими уже стояло на улице много верховых коней под попонами да десятка два крытых пестрыми коврами саней с запряженными в них парами и тройками и иноходцами в одиночку. Около саней толпились слуги приезжих гостей и домашняя челядь бояр Романовых.
– Ах, батюшка, Петр Михайлович! – воскликнул навстречу Тургеневу Сидорыч, один из старых романовских челядинцев. – Вовремя ты пожаловать изволил! Боярин наш просит тебя немедля к себе в хоромы да и богоданного гостя просит с собою привести, зовет вас обоих хлеба-соли кушать.
Отказаться от великой чести было никак нельзя, и потому друзья направились вслед за слугой в боярские хоромы.
В обширной столовой избе, пристроенной к хоромам Федора Никитича и освещенной целым рядом небольших, почти квадратных слюдяных окон с мелким переплетом, поставлен был широкий и длинный стол, за которым на лавках, на опрометных скамьях и на отдельных стульцах сидели сейчас гости Федора Никитича.
По углам комнаты помещались разные деревянные поставцы, уставленные богатой золотой и серебряной утварью и диковинной заморской стеклянной посудой. С потолка, украшенного резьбой, спускались три паникадила из точеной и прорезной рыбьей кости. Около двух отдельных столиков суетились слуги, одетые в красные суконные кафтаны. За одним столом разрезались и раскладывались кушанья, за другим разливалось и разносилось в кубках вино.
– Добро пожаловать, гости дорогие! – приветствовал вошедших друзей сам хозяин дома, приподнимаясь со стульца и указывая на два пустых места за столом. – Просим милости хлеба и соли наших откушать… Брат Михайло, позаботься, дорогой, о том, чтобы гости сыты были да чтобы их чарочкой не обнесли!..
Когда Тургенев и Федор Калашник уселись на указанные места, Михайло Никитич шепотом сообщил им, что рядом с хозяином сидит знаменитый дьяк Посольского приказа Афанасий Власьев и рассказывает о том, как принимал его «арцы-князь Аустрейский Максимильян» и как с ним беседовал. Когда тот закончил свой рассказ, выслушанный всеми с величайшим вниманием, Федор Никитич обратился к дьяку:
– А расскажи-ка ты нам, Афанасий Иванович, чем тебя арцы-князь Аустрейский за своим столом потчевал?
– Да-да! – подхватили сразу несколько голосов. – И точно любопытно! Чем тебя там угощали?
– Угощал он нас изрядно, бояре. Яства были разные и многие: и орлы, и павы, и гуси, и утки, и всякие птицы, сделанные в перье золоченом. И рыбные яства тож: деланы киты и щуки, и иные рыбы, и пироги разными образцы золочены. Яств с пятьдесят!.. Да овощи разные и сахары на тридцати пяти блюдах.
– Ого! – отозвался князь Сицкий. – Расщедрился, однако, немец. Потом, чай, целый год свой изъян нагонял! Я тут как-то позвал к себе на обед царского дохтура Бильза, так он мне и говорит: «Ну, князь, тем, что мы с тобой сегодня за обедом съели, у нас в неметчине целая семья была бы с год сытехонька».
Все засмеялись. Посыпались шутки и остроты.
– Вот братца Мишеньку в Немецкую-то землю послом бы отправить! – заметил, смеясь, боярин Александр Никитич Романов. – Так он бы там, пожалуй, с голоду помер! Стали бы давать ему в суточки всего-то по две уточки!
– Еще бы! Где же такого богатыря двумя уточками прокормить! – заметили с разных сторон, вперемежку со смехом, несколько голосов. – Он подковы ломает, как щепку, на медведя в одиночку выходит… А тут его к немцам… Да по две уточки…
– Обрадовались, что есть над кем зубы точить! – посмеиваясь, отвечал на шутки Михайло Никитич. – Или вы думаете, что от еды у меня сила берется?.. Силу так уж мне Бог дал. Вон говорят, Сенька-то Медвежник против пятерых мужиков ел, а нашел же себе супротивника, который ему и пикнуть не дал.
– Сенька Медвежник?! – откликнулись на это замечание многие из сидевших за столом. – Да это же первый кулачный боец на Москве! Кто же мог его уложить?.. Ему, кажется, смерть на бою не была и написана?
– Видно, была, коли прилунилась! – отвечал Михаил Никитич. – А вот здесь – за нашим столом – сидит и супротивник его.
И он указал на Федора Калашника, который зарделся, как маков цвет, и готов был провалиться сквозь землю, когда все взоры обратились в его сторону.
– Вот он каков, гость-то твой, Петр Михайлович! – приветливо обратился Федор Никитич к Тургеневу. – С ним, значит, нельзя шутки шутить!.. А споведай ты нам, добрый молодец, каких ты родов, каких городов?
– Родом я, боярин, из Углича, купца Ивана Калашника сын, того самого рода купеческого, что богаче всех был до Угличского погрома и беднее всех стал, как наехали к нам судьи неправедные да всех граждан именитых отдали в немилостивый розыск…
При этом воспоминании все шутки и смех разом смолкли, все участливо и сострадательно посмотрели на Федора, к которому опять боярин Федор Никитич обратился с милостивым словом:
– Где же теперь твой отец, добрый молодец?
– В сырой земле, боярин… До сих пор нутро поворачивается, как вспомню о том безвременье…
– Ну, полно, добрый молодец, старое горе вспоминать, – ласково перебил Калашника Федор Никитич, видимо, желая переменить невеселый разговор. – Расскажи лучше нам, как ты это с Сенькой Медвежником расправился?
– А как расправился, боярин? Я его побивать и не думал, шел только поглазеть на кулачный бой… Да он сам во мне сердце разжег! Вышел, стал вызывать себе супротивника. Вижу, все друг за дружку хоронятся, никто вперед нейдет, а Сенька-то этим спесивится. «Эх вы! – говорит. – Угличские ротозеи, царевича на красном товаре проспали!» Как он сказал это, так во мне и вскипела кровь. «Что, – говорю, – проспали?» Да и выскочил вперед и встал супротив него. А он на меня не смотрит, бахвалится: «Вот, – говорит, – он самый, ротозей-то угличский!» И все кругом загалдели, загорланили, на смех меня подняли… А я стою против него, говорю: «Выходи, горе-богатырь, посмотрим, кому жить, кому живота избыть?» Сошлись мы, да на первом ступе я спуску не дал, удар его отбил. На втором он норовил меня с размаху под грудь ударить, да я увернулся, и он еле-еле на ногах устоял. Вот с неудачи-то озлился он и ринулся на меня без разума, думал одним ударом с ног меня срезать, да забыл левой рукой от меня прикрыться… И ударил я его, что было моченьки… Вижу, у него руки опустились, глаза закатились… Зашатался он да к ногам и рухнул. Все так и ахнули… Никто не думал, чтобы мне живому с поля сойти.
– Ну, исполать тебе, доброму молодцу! – улыбаясь, ласково сказал Федор Никитич. – По делам тому озорнику и мука.
Затем, встав со своего места, Федор Никитич поднял полную чарку и, обратясь к гостям, сказал:
– Князья и бояре! В конце стола выпьем мы, по обычаю, заздравную чашу государеву.
И когда гости поднялись со своих мест с чашами в руках, хозяин обратился лицом к переднему углу, в котором помещены были иконы, и произнес длинную, витиеватую молитву, сложенную на этот случай по желанию царя Бориса.
По окончании молитвы все выпили чаши свои в глубоком молчании и стали расходиться из-за стола. Хозяин поручил брату своему, боярину Александру Никитичу, проводить гостей постарше да попочетнее в его боярскую палату и приказал слугам подать туда старинных романовских медов гостям на утеху. А в то время, когда Михайло Никитич с Алешей Шестовым и Федором Калашником собирались идти осматривать хозяйских кречетов на кречатне, хозяин подозвал к себе Тургенева и молвил ему на ухо:
– Завтра, раным-рано, будь готов со мной да с братом Александром к Шуйским на охоту в Кузьминское ехать. Мы тебя с собой в обережатых возьмем: едучи в это волчье гнездо, надежных людей нужно брать!..
V
По душе
Кузьминская усадьба князей Василия и Дмитрия Шуйских лежала далеко в стороне от Звенигородской дороги, среди обширного дремучего бора, который тянулся во все стороны от усадьбы верст на двадцать.
– Милости просим к нам на медведя косматого да на лося сохатого, в Кузьминское, гости дорогие! – говорил Дмитрий Иванович братьям-боярам Романовым при последнем свидании с ними во дворце и сообщил при этом, что съезд у него будет большой и что «для дорогих гостей» три медведя обложены да медведица с медвежатами…
В назначенный день собралось в Кузьминском немало гостей. Каждый гость привез с собой и свою охотничью свиту. Охотились и пировали, а после позднего обеда, который как-то незаметно сошелся с ужином, когда гости стали расходиться по опочивальням, князь Василий Иванович просил бояр Романовых да князя Ивана Федоровича Милославского, да князя Василия Васильевича Голицына к себе в задние хоромы на тайную беседу и всем на ухо сказывал, что «дело есть», что надо бы «его пообсудить немедля и сообща».
– Ну, князь Василий Иванович, докладывай, какое ты нам дело объявить хотел! – сказал князь Василий Голицын, усаживаясь за стол рядом с Милославским по одну сторону хозяина, между тем как братья Романовы садились по другую сторону.
– Дело всем нам близкое и важное, князья и бояре, и давно пора нам о нем подумать! – сказал Василий Шуйский, понижая голос и оглядываясь на дверь в сени, которую плотно и тщательно притворил его брат Дмитрий Иванович. – Дурные вести идут отовсюду! – продолжал Василий Шуйский. – На Дону неспокойно, крестьяне туда толпами бегут. Да и на Москве житье все хуже да хуже становится. Пошли доносы и изветы… Каждого холопа приходится нам опасаться! Чай, слышали, что князя Шестунова холоп царю на господина своего донес, и что же? Доносчику сказано царское жалованное слово на площади за службу и раденье, дано поместье и приказано служить в детях боярских. Каково!.. Считайте, всем нашим холопам сказано: ступайте, доносите на господ, умышляйте всякий над своим боярином!.. Чего же нам ждать еще, бояре?
Милославский вздохнул глубоко, а Голицын покачал головой и развел руками. Романовы хранили глубокое молчание.
– Или хотим дожить до худшего позора? Хотим, чтобы и с нами Борис расправился, как с нашим братом, боярином Богданом Вельским? – продолжал Шуйский, воодушевляясь все более и более. – А ведь Бельский-то во какой вельможа – из первых при царе Иване! Оружничий!.. Да и при Федоре…
– Ох, горе нам! – воскликнул Голицын и покачал головой.
– Не по грехам нас Бог наказывает! – прошептал Милославский. – Именно не по грехам!
– Мы все здесь родовиты, князья и бояре! А кто родовит, тот у Бориса в вороги лютые записан… Не ему, потомку татарского мурзы, чета верстаться с нами в правах и знатности, и мы ли будем от него терпеть несносные обиды!.. Мы обуздать его должны!.. Мы…
– Постой, постой, князь Василий! – перебил Федор Никитич. – Ты это говоришь не гораздо! Борис Федорович, чей бы ни был он потомок, теперь нам царь… И мы ему не судьи.
– А кто ж, по-твоему, ему судья, боярин? – запальчиво вступился князь Голицын.
– Кто?.. Великий Бог! Вот судья царю Борису.
– Ну, до Бога высоко, боярин! – язвительно заметил Василий Шуйский. – Богу на царя Бориса не подашь челобитной!
– Ты, видно, хочешь, чтобы мы ему, как бараны – и голову, и шею подставляли? – заглянул в глаза Голицын.
– А по-вашему то как же? – пожал плечами Федор Никитич. – Крестное целование нарушить, да заговоры затевать, да строить тайные козни?.. Так, что ли?
– Не козни строить, Федор Никитич, нет, – лукаво и вкрадчиво сказал Василий Шуйский, – а за права стоять, не давать себя в обиду! Ведь мы же все по роду выше царя Бориса и к престолу ближе, нежели он, а он всех нас со свету хочет сжить… Он только Годуновым верит…
– А разве ты не то же сделал бы, кабы царем на царство сел? – вступился за Годунова Александр Никитич, все время молчавший.
– Нет, видит Бог, не так бы я поступал, чтобы только своих тянуть! – с напускным жаром отозвался Шуйский. – Всем надо дать и честь, и место… А это что же? Куда ни оглянись – все только Годуновы лезут вверх…
– Одолела нас совсем эта Годуновщина, верно! – сердито и вяло заметил Милославский.
– Постойте же, бояре! Я напрямик скажу, – промолвил здесь с улыбкой Федор Никитич. – Мы и все ведь одним же миром мазаны! Вот хоть бы ты, князь Василий Иванович, ведь ты, небось, и не вспомнишь, что вас, Шуйских, в думе тоже трое братьев, а завтра ты воцарись – и ты, как Годунов же, всю родню с собою вверх потащишь… Ну а Голицыных-то, князь Василий Васильевич, разве в думе меньше? Тоже трое братьев!.. И будь царем Голицын, все Голицыны бы вверх пошли. Кто себе враг, бояре?
– Тебе, должно быть, угодил чем-то царь Борис! – язвительно заметил Шуйский. – Тем угодил, что брата твоего в бояре поднял, да и другой недавно окольничим же назван…
– Не верно метишь, князь Василий! – сказал Федор Никитич, покачав головой. – Стрела твоя в Романовых не попадет и за живое нас не заденет! Мы к царю Борису в душу не лезем, не угодничаем перед ним, не льстим ему… Он брата Александра из кравчих сказал в бояре, а брата Михаила из стольников в окольничие не за чем иным, как чтобы зависть во всех вас разжечь да чтобы глаза отвести от Годуновых – и только! Кумекайте! А правду-то сказать – нам милости его не надобны и почести его нам не прибавят чести…
– Да я не к тому и слово-то сказал, Федор Никитич! – отнекивался Шуйский. – Не в обиду ведь, не подумай… А только ради шутки!
– Ну, князь Василий, тут шутки не у места, коли ты речь повел о важном деле. Я шутить делами не умею.
– А я и в толк уж, право, не возьму… – заметил с нескрываемой досадой Голицын. – Начал ты издалека и разговор повел о наших правах боярских… Что же теперь виляешь!
– Не виляю я, князь Василий Васильевич! – начал опять сладкоречивый Шуйский. – Да видишь ли, чуть только я начал речь о деле, как Федор-то Никитич сразу и оборвал меня. Ну я и на попятный…
– Что ж нам Федор Никитич! – сказал еще резче Голицын. – Чай, мы не хуже Романовых бояре! Вытряхивай, что есть за пазухой, все нам вали!
– Да я-то по душе хотел, бояре и князья! – оправдывался Шуйский. – Я созвал недаром вас, первых вельмож московских, чтобы с вами дело порешить. У вас спросить совета…
Он, видимо, собирался с духом, оглянулся еще раз крутом и наконец решился промолвить:
– Чует мое сердце, что будет смута на Руси!.. Борису не сносить венца на голове… Не знаю, верить ли, а ходит слух… Будто близок конец его властительству… А если точно он лишится власти, за кого вы будете стоять, бояре?
– Об этом и спросу быть не может! – спокойно и твердо сказал Федор Никитич. – Дай Бог Руси православной избегнуть всяких смут! Но если бы царь Борис, по Божьей воле, лишился власти или Господь его к себе призвал на суд, то мы все должны стоять за сына Борисова, за Федора Борисовича. Так ли говорю я, брат?
– Вестимо так! – отозвался Александр Никитич. – Мы и ему крест целовали.
– Как же это! – воскликнул Шуйский, теряя обычное свое самообладание. – Так вы хотите, чтоб и годуновское отродье утвердилось на престоле?!
– Не мы того хотим, князь Василий Никитич! – горячо и громко ответил Федор Никитич. – А вы все, бояре, того хотели, и ты, князь Василий, больше всех!
– Я-то? Я? В уме ли ты, боярин? – в бешенстве вскричал Шуйский, сверкая своими маленькими злыми глазками.
– Да. Ты, князь. В твоих руках была судьба Бориса! Ты ее держал в руках еще в ту пору, когда Борис и не был царем…
Шуйский вдруг изменился в лице… Глаза его забегали по сторонам в великом смущении. А Федор Никитич продолжал:
– Ты покривил душой, князь, в то время, как ты был послан на розыск в Углич. Ты не дерзнул назвать покойному царю, кто главный был убийца царевича Дмитрия… Ты за себя боялся! Ты предпочел сгубить десятки, сотни неповинных… теперь и казнись, и терпи!
– Это ложь! Это клевета! Не допущу… Он лжет, бояре! Не верьте, я не знал… Я и теперь не знаю! – растерянно твердил Шуйский, обращаясь то к Голицыну, то к Милославскому.
– Ты не знаешь, да угличане-то ведь знали, кто убийца! И в один голос все вопили одно! – грозно воскликнул Федор Никитич, поднявшись во весь рост и устремивши взор на Шуйского. – Но ты не дерзнул о том донести царю Федору, ложь ты показал, лжи очистил ты дорогу на престол и корень зла всего посеял… А сам теперь кричишь, что ложь всех нас заполонила!
Никто не смел ответить на эту горькую правду. Только Дмитрий Иванович Шуйский решился проворчать из своего угла:
– Кто старое вспомянет, тому и глаз вон!
– И то, и то! Верно! Что вспоминать! – заговорили примирительно и Голицын, и Милославский. – Мы не о прошлом толковать собрались, а о том, как быть теперь!.. Что делать?..
– Я повторяю вам, бояре, – сказал Федор Никитич, – что я вам не помеха. Какую бы ни пришлось пережить смуту, как бы ни тяжко было нам, я за себя, за братьев и за всю свою родню одно скажу: мы от царя Бориса и от сына его Федора ни на шаг… Романовы присягой не играют!..
Князь Василий Иванович окончательно вскипел и вышел из себя.
– Ну, боярин, спасибо! – закричал он со злобным смехом. – Утешил! Не знали мы, что встретим в тебе такого верного слугу Борису Годунову!
– Не Годунову, – твердо и спокойно отвечал Федор Никитич, – а царю Борису! Бог попустил, чтобы он нами правил, и пусть он правит по Божьей воле. Не нам с тобой, грешным людям, против Бога ходить! Что бы это было, кабы мы избирали царей не Божьим изволеньем, а своим хотеньем… У нас не Польша, слава Богу!
– Да что ты нам в глаза все с Богом лезешь! – вскричал Голицын. – Чай, мы и поговорку знаем: Бог-то Бог – да и сам не будь плох!
– Я вот что тебе на это скажу, князь Василий Васильевич, – твердо и спокойно обратился к Голицыну Федор Никитич. – Ты знаешь, я охотник старый и бывалый. Все охотничьи порядки знаю на память и не ошибусь… Не первый десяток лет хожу я на медведя… Позапрошлым годом поднял я косолапого из берлоги. Рогатина в руке, нож булатный на поясе, а за спиной у меня и братья родные, и друти верные. Пошел на меня медведь. Я ему рогатину подставил и в бок всадил, а он одним ударом лапы ее в щепы! Да на меня, сшиб с ног, насел и под себя подмял… Ревет, когтями рвет… И на всех-то кругом такой страх напал, что опешили, столбами стали… Я ножа хватился – нет ножа на поясе! Тут я взмолился к Богу: «Господи, не попусти!» И чую вдруг, что нож-то у меня в руке… И я его – по рукоять медведю в сердце… Так вот Он, Бог-то! На Него надеясь, не погибнешь!
Все молча выслушали Романова, и никто не отозвался ни единым словом на его замечание. Василий Шуйский поспешил изгладить впечатление его рассказа.
– Ну, делать нечего! – промолвил он, лукаво и злобно посмеиваясь. – Пусть так! Коли тебе так люб и дорог царь Борис и все его отродье, так и держись их! Да только, боярин, не просчитайся… Не раскаялся бы ты потом, что с нами не хочешь быть заодно… Что нас меняешь на Годунова!
– Не вас меняю и за Годунова не стою, а от креста отречься не хочу и не могу кривить душою… Ну, прощенья просим! Брат Александр, поедем.
– Как? В такую глухую ночную пору? – засуетился Шуйский. – Нет, не отпущу, бояре! Как хотите, не отпущу!
– Нет, мы поедем. Вели подавать нам лошадей! Мы не останемся, нам нечего здесь больше делать.
– Да помилуй, боярин! – вступился Дмитрий Шуйский. – Тут у нас проселком грабят по ночам… Уж лучше вы переночуйте!
– Спасибо. Мы ни зверя, ни лихого человека не боимся, – сказал Александр Никитич. – И кони добрые, и слуги верные, и запас с собой изрядный… Прощайте, счастливо оставаться, бояре!
И братья Романовы вышли из комнаты, в которой происходило совещание. Хозяева проводили их до крыльца, и когда передний всадник, с фонарем, тронулся с места, а за ним двинулись кошевни, запряженные четверкой гусем, и десяток обережатых верхами затрусили мелкой рысцой за боярами, Василий Шуйский вернулся в сени, схватил крепко брата за руку и прошипел ему на ухо:
– Каковы?! Вот их-то прежде всех и нужно Борису в глотку сунуть! Пусть отплатит им за верность!
VI
Золотая клетка
Красноватые лучи зимнего негреющего солнца только что осветили причудливые башенки и крыши Теремного дворца, только что запали в окна той половины, которую во дворце занимала царевна Ксения Борисовна, как уже вошла сенная боярышня и доложила маме, боярыне Мавре Васильевне, что пришли крестовые дьяки и с уставщиком.
– Зови, зови их скорее в Крестовую! – засуетилась мама и пошла навстречу дьякам.
В комнату с низкими поклонами вступили пять человек певчих дьяков в стихарях, все уже люди пожилые, с проседями в бородах, и уставщик, дьякон верховой (дворцовой) церкви – седой старик лет семидесяти, но еще бодрый и свежий на вид.
Мама раскланялась с ним весьма дружелюбно.
– Послала за тобой пораньше, Арефьич, потому не заспалось нашей пташке нонечь! Ну а уж не помолясь у Крестов, она и маковой росинки с утра не примет!
– Все одно, матушка, Мавра Васильевна, мы ведь и завсе рано подымаемся.
И мама царевны с дьяками и с кравчей боярыней прошли в Крестовую и притворили за собой двери. Через несколько минут там раздалось стройное пение хора, прерываемое мерным и протяжным чтением уставщика.
– Ах ты, Господи, Господи!.. – заговорила вполголоса та сенная боярышня, которую Мавра Васильевна посылала за крестовыми дьяками. – Что это за наказание такое! Ровно в монастыре!.. Варенька, голубушка! Сбежала бы я отсюда!
– Что ты, что ты, Ириньюшка! – воскликнула с испугом Варенька, другая сенная девушка, которая суетилась около пялец царевны, приводя в порядок канитель и шелки, разбросанные крутом пяличного дела. – Ты этак, пожалуй, и при других скажешь! А как кто услышит? Да если до самой-то еще донесут!..
– Ах, пусть бы до самой донесли! Не боюсь я ничего! – несколько возвышая голос, продолжала жаловаться Иринья. – Сил моих уж нет! Все одно пропадать!..
И она заплакала с досады. Варенька подошла к ней и обняла за плечи.
– Да чего же, чего же тебе, неразумная! Ведь, кажется, мы и сыты здесь, и одеты, и ни в чем нужды не терпим… И царевна к нам ласкова… Ну?
– Что мне в том? Разве это жизнь! С восхода до заката солнечного все в четырех стенах, как в клетке, как в тюрьме! Живого человека не увидишь, все одни седые бороды… Будь им пусто! Только и радости всей, что Богу молись с утра до ночи! Я так не могу, воля твоя, не могу…
– А небось как вчера-то в Чудов монастырь с царевной ехать, так ты первая вызвалась! – лукаво улыбаясь, сказала подруге Варенька.
– Да потому, что там хоть людей увидишь! Хоть не те же все боярыни-казначеи, да ларешницы, да верховые боярыни, да постельницы… Надоели они мне хуже горькой редьки. А я, я тебе правду скажу, я каждой светличной мастерице завидую…
– Ах, Бог мой! Да в чехм же?
– Ав том, что она, как работу кончит, куда захочет – идет, кого хочет – любит…
Но в это время в Крестовой чтение закончилось, послышалось пение дьяков, а затем дверь в Крестовую скоро отворилась, и оттуда вышли дьяки и боярыни.
Дьяки с обычными поклонами удалились. Благоухание ладана пахнуло в комнату, и легкая дымка кадильного курения синей струйкой повисла под раззолоченным потолком царевнина терема.
Наконец царевна Ксения, в домашней легкой телогрее из белого атласа и в легкой накладной шубке из белого сукна, подложенной желтой тафтою, вышла из Крестовой палаты. Великолепные темные волосы царевны, спереди придерживаемые легким золотым обручем, падали на плечи длинными дивными локонами, а сзади спускались двумя толстыми косами почти до самых пят. Лицо царевны было бледнее обыкновенного, глаза красны от слез. Ответив на поклоны присутствующих легким наклонением головы, царевна перешла через комнату, опустилась в кресло, закуталась поплотнее в свою шубку и молча понурила голову…
Несколько минут продолжалось тягостное молчание.
– Аль неможется, царевна? – подступила к ней с обычным вопросом мама, наклоняясь и пристально всматриваясь в очи.
– Нет… Так только изредка чуть-чуть знобит, а там вдруг в жар бросит…
– Послала я за комнатной бабой…
– Ничего не нужно, я здорова, и лечить меня нет необходимости…
Опять наступило молчание.
– Царевна, матушка! – с льстивой миной начала кравчая боярыня, княгиня Пожарская. – К нонешнему обеду каких приказных блюд не повелишь ли изготовить?
– Ничего не хочу, – спокойно и сухо отвечала Ксения, отворачиваясь к окошку, покрытому поверх мелкого переплета слюды причудливыми узорами инея, блиставшего сейчас всеми цветами радуги.
– И то уж я ума не приложу, как угодить тебе яствой… Ничего, почитай, вкушать не изволишь! А на нонешний обед яствы: на блюдо три лебеди, да к лебедям взвар, да утя верченое, да два ряби, а к ним лимон, да три груди бараньи с шафраном, да двое куров рассольных молодых, да пупочки, да шейки, да печенцы тех же куров молодых, да курник, да кальи с огурцами, да ухи курячьи черные с пшеном сорочинским, да пирогов пряженых кислых с сыром, да пирог подовой с сахаром… Да…
– Ты не устала еще блюда-то считать? – с досадой перебила царевна словоохотливую боярыню-кравчую.
– Коли не любо, так вот я и спрашиваю, еще чего не будет ли в приказ?
– И к тому не притронусь, все раздам…
Мама и кравчая многозначительно переглянулись и развели руками, как бы теряясь в соображениях.
В это время вошла еще одна сенная боярышня и с низким поклоном доложила о приходе стольника государева с «обсылкою и опросом», как государыня царевна «почивать изволила и в добром ли здоровье обретается?»
– Скажи, что посейчас Божиим милосердием здравствую и спала хорошо, – отвечала царевна боярышне.
Но едва только та успела выйти за двери, мама с сердцем обратилась к царевне:
– Вот и не ладно приказала сказать государю-батюшке! И спала не хорошо, и неможется тебе, царевна… Грех берешь на душу перед батюшкой!
– Ты все с тем же! – с досадой сказала царевна, оборачиваясь к маме и сердито хмуря брови. – Я тебе говорю, что я здорова! А ты что стала, чего еще нужно? – обратилась царевна к кравчей. – Чай, слышала, что приказаний не будет?
Кравчая боярыня отвесила поклон и направилась к двери, неслышно ворча себе что-то под нос. За нею вышла из комнаты и мама.
Царевна Ксения оперлась локтями на поручни кресла и глубоко задумалась, устремляя взор в пространство и не замечая присутствия своих двух любимых сенных боярышень. Ей вспоминалось далекое веселое детство, отрочество вспоминалось и ранняя юность, проведенные не в тесном теремном заточении царского дворца, а на свободе, среди подруг и сверстниц, в обширных хоромах отца (тогда еще конюшего боярина) или в привольных садах села Хорошева. Ей вспоминались тогдашние игры, и беззаботное веселье, и чудесный, искренний, переливчатый смех подруг, и простые, сердечные отношения к людям, и радужные надежды на будущее… И где же эти подруги ранней юности? Где они? Давно все уже замужем! Разлетелись с мужьями по разным концам Московского государства, у них своя воля, свой дом, и дети, и заботы, и печали, и радости… А она, краше всех их, всех их умнее, она все еще в девушках, все еще на руках у мамы! Шагу ступить не смеет без разрешения матушки да верховых боярынь, а у них все по чину, да по обычаю, да чтобы истово было… «Ах какая тяжкая неволя! – с сокрушением думала царевна. – И никогда-то мне из нее не вырваться! И в грядущем-то что еще ждет меня? Келья монастырская, в которую, словно в могилу, еще заживо опустят, и…»
Глубокий вздох прервал грустные размышления царевны. Она быстро обернулась к своим сенным боярышням.
– Иринья? Ты это так тяжело вздыхаешь? – спросила царевна с кроткой заботливостью. – Что у тебя за горе такое?
– По своим взгрустнулось, государыня царевна, – отвечала Иринья. – Давно уж нет от них весточки… Так бы и полетела к ним!..
– Да разве тебе здесь дурно жить, Иринья? – сказала царевна с легким оттенком укора. – Никто тебя не теснит, не обижает…
– Никто не теснит, не обижает под охраной твоей великой милости, государыня! Да только уж скучно очень в нашей теремной обители, прости ты мне это слово, государыня! Так скучно, так грустно, что как об воле вспомнишь, душа болит, рвется, на волю просится…
Царевна собиралась ответить своей любимице назиданием, которому, однако, сама не сочувствовала, когда дверь отворилась, и в комнату царевны вошла мама, бережно неся какую-то воду в вощанке, поставленной на серебряную тарелочку.
– Я эту воду святую под образа поставлю, царевна! – сказала мама, заботливо указывая на вощанку. – Это от Макарья Желтоводского, еще по осени привезена. Всякий ваш девичий недуг как рукой снимает… Вот вечерком, на сон грядущий, и спрысну тебя!..
И старуха прошла в Крестовую, потом вернулась опять и засуетилась:
– Ах, мать моя праведная! Совсем из ума вон! Ведь матушка-то царица приказала звать тебя, царевна, к себе в столовую палату… Ждет тебя немедля!