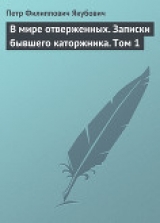
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
XIII. Чирок
Мне живо помнится один вечер. В камере шел обычнейший разговор о том, что «у нас-де дурное правительство – не выпускает арестантов на волю, а держит их до срока в тюрьме и всячески стязает». Кто-то спросил меня: что я об этом думаю? Признаюсь, я затруднился ответом на заданный так прямо вопрос.
– Ну, кого б вы из нас выпустили? – смеясь, спросил Гончаров. – Вот сейчас кого бы на волю выпустили?
Я оглянулся кругом и назвал своего соседа Кузьму Чирка, предмет общих шуток и насмешек, человека, казалось мне, вполне безобидного, попавшего в каторгу по какой-нибудь судебной ошибке. Все разразились оглушительным хохотом при моем ответе.
– Вот нашли черта! Да знаете ль вы, сколько он народу побил? Он не сказывал вам? Вы не смотрите, что он тихонький да ласковый, как теленок. В этой пермяцкой голове много хитрости заложено!
– Не верь, не верь, Миколаич! – закричал Чирок, лукаво ухмыляясь, – правду ты истинную молвил, святую правду. Давно б такого старичонку, как я, выпустить на волю пора!
– Да! чтоб ты еще пятерых спать навеки уклал?
– А разве вы пятерых, Чирок, уложили? – спросил я.
– Слухай ты их, Миколаич, они тебе наскажут. Я совсем безвинно страдаю.
– За что же?
– За брата. Он полюбовницу убил, а я подсобил ему в мужнин погреб ее спустить.
– Да, живую спустить подсобил.
– О, дьявол чернопазый! Чего врешь? Живую… И не дыхала даже, удавлена была! За что ж бы меня на одиннадцать всего лет засудили, а Егоршу на восемнадцать? За укрывательство только одно и пришел я в каторгу.
– Ну, а расскажи, брат, как ты черемиса-то задавил.
– Какого там еще черемиса?
– Да такого, за воз-то сена…
– Молчи, дьявол, молчи! Ведь он запишет, Миколаич-то…
– Нет, не запишу, Чирок, расскажите.
– Не омманешь?
– Не обману. За что вы его задавили?
– За шею, вестимо… Как же не задавить было проклятого? Поехали мы с Егоршей да с другим еще братишкой, Васькой, по сено… то-ись по чужое. Вот наворотили два огромадных воза и едем домой. А навстречу черемис этот самый. Как тут быть? Что тут делать? Оставить так – донесет ведь шельма, в тюрьму придется идти. Ну, взяли мы и накинули на, шею ему удавку.:
– А расскажи еще, как мужика-то ты за голову сахару укокошил?
– Это еще чего поминать. Робячьим еще делом было, какое это преступленье?
– Все-таки расскажите.
– Приехал к тятьке знакомый мужик в гости, пьяный-распьяный. Покаместь он с тятькой сидел да водку пил, мы, ребятишки, нашли у него в санях кулек с разными сластями. Голова там целая сахару была, пряники… Только хотели было уволочь кулек, глядь – он выходит, хозяин-то то-ись. Еле ноги передвигает, тятька под руки его ведет. Сел кое-как в сани. «Прокати, говорим, дяинька!» Уселись мы с ним и поехали. Лошаденка сама дорогу знает, бежит куда надо. Вот я взял вожжи-то, да и накинул ему, сонному, на шею. Он и захрипел. Мы сейчас лошадь остановили, кулек сцапали – и наубёг. А лошадь домой. Так мертвого его привезла. Ну, тятька-то, надо быть, сдогадался, призвал нас и пригрозил кнутом: «Молчите, сучьи дети!» Так и не узнал никто. Задавился сам, пьяный, да и все тут.
– А сколько вам лет было тогда, Чирок?
– Я по одиннадцатому был году, а Егорша по восьмому.
– Ты, значит, удавочкой все больше орудовал? Молодец, Кузьма!
– Он и топориком, братцы, умел девствовать, – поправил Тарбаган. – Расскажи-ка, Кузьма, как другого-то мужика топором ты в боковину двинул.
– О, гаденыш проклятый! Творенье паршивое!
– Нет, уж рассказывай, брат, рассказывай, коли начал, – галдела вся камера, – а нет, так ведь живо подкуем. Эй, Железный Кот! Подковать его надо!
«Подковать» – это значило щекотать пятки, чего Чирок смертельно боялся. Он моментально вспрыгивал на ноги и начинал бегать по нарам, грозя всем наступающим своими дюжими кулаками.
– Падсту-пись-ка только! – кричал он нараспев. – Я покажу! Даром что старичонко…
Но враги приближались со всех сторон. Никифор, Семенов, Железный Кот заходили с боков; Парамон надвигался, прямо, грозный и решительный… Чирок, прижатый в угол, готовился к жаркому бою, но внезапно какой-нибудь Тарбаган кидался ему под ноги, все на него налетали, валили после долгого и упорного сопротивления на нары и «прибивали подковки». При этом Чирок орал так немилосердно, что должны были затыкатъ ему рот из опасения, что услышит надзиратель. Наконец Чирок просит-таки пощады и, кашляя и бранясь, усаживается на свое место рассказывать, как он мужика топориком двинул.
– Чего тут рассказывать-то? Из-за межи спор вышел. Он на меня со стягом кинулся… Мне што ж, зевать, что ль, было? Я и махнул в него топором и угодил прямо в боковину. Тут же из подлеца и дух вышел. Меня втапоры и суд оправдал, потому свидетели были.
– Записывайте, Миколаич: это уж которая душа-то?
– У него еще есть. Вчера ночью мне сказывал… Раз… – заводил было Парамон, но Чирок принимался так усердно тузить его и между ними начиналась опять такая возня, что к форточке подходил надзиратель и прикрикивал на буянов. Возня затихала, беседа прекращалась, и большинство мало-помалу засыпало. Только Чирок, Парамон и Железный Кот, сойдясь в кучку на противоположных нарах, где было место кузнеца, долго еще, иногда до поздней ночи, сидели, сложив по-турецки ноги и посасывая цигарки и трубки, и беседовали между собой таинственным полушепотом. Это Чирок рассказывал о своей молодости… До меня доносились отрывки этих рассказов, и часто я вздрагивал от невольно охватившего меня ужаса, а иногда, напротив, готов был смеяться самым искренним и добродушным смехом.
Личность Чирка вообще представляла какую-то причудливую смесь серьезного с шутливым, комизма с трагизмом, чисто детской наивности и простодушия с самой хитрой плутоватостью и лукавством. Природный ум и лукавство светились в этих серых, всегда с любопытством смотревших глазах, глядели из складок морщинистого лба и углов большого неуклюжего рта, оттененного жесткими, рыжеватыми усами; но в то же время от этого бледного худощавого лица с длинным, как у лошади, черепом, от всей мешковатой, переваливающейся с ноги на ногу и прочно скроенной фигуры веяло чем-то таким простым и хорошим, что редко кто не любил Чирка. Служа предметом вечных и всеобщих насмешек и отругиваясь порой как самый последний извозчик, Кузьма, даже в минуты яростного гнева бывал, в сущности, безобиден, и самые ужасные его ругательства вызывали один хохот. В бранных словах он был большой знаток и мастер; они почти не сходили у него с языка и, однако, не имели в его устах того страшного характера, как, например, у Семенова, или циничного, как у Тарбагана. За несколько лет общей жизни в Шелайской тюрьме я сильно привязался к Чирку, и среди многих треволнений и испытаний всякого рода, о которых будет речь впереди и которые не раз заставляли меня переменять мнение о других арестантах, Чирок всегда оставался в моих глазах все тем же незлобивым и добродушным Чирком, тем же верным и надежным приятелем, никогда не сующимся ни в какие арестантские дрязги. А между тем на воле этот же самый шут Чирок отправил на тот свет с десяток душ и теперь не чувствовал в том ни малейшего раскаяния…
Долгое время я не понимал, почему его дразнят, между прочим, Сахалином, говоря, что скоро и его туда повезут к сестре. Я думал, что это не больше как шутка; но, прислушиваясь раз к таинственному ночному шепоту, узнал из уст самого Чирка следующее объяснение этим насмешкам:
– Из-за Лукейки-то я и пропал больше. Еще экосенькой вот девчонкой она чистый разбойник была. Шары большие, так и горят, глядеть страшно… Лет семнадцати связалась с бродягой Сенькой Пелевиным и зачала с им дела крутить! Я в их круг не мешался, потому я больше на тихой манер норовил: в клеть али в анбар в чужой залезть, чужих баранов али гусей пошарить… Где сено, где дрова… Ну, и пшеницей и чебаками тоже не брезговал… – Среди слушателей тихий смех.
– А чтоб убивать, так уж разве неминучее дело. Так я и тогда удавочку больше в ход пущал али сулему.
Смех еще дружнее.
– Подозревали меня, конечно, во многих делах подозревали, а только настояще уследить не могли. Раз с обыском заявились. Я У соседа трех баранов украл, мясо посолил, шкуры продал… И своего одного барана тут же заколол. «А, говорят, вот оно, мясо-то!» Я говорю: «Это мой баран, вон и кожурина Тимошкина висит…» Тимошкой барана моего звали. «Да разве, говорят, у одного барана восемь почек бывает?» – «Ей-богу, говорю, такой жирный да матерой баран был…» С тем и отступились, ничего не взяли..
– Ну, а зятёк-то богоданный с сестрицей не такими делами орудовали?
– Нет. Те надумали старуху одну убить и ограбить. Верст за семьдесят от нас богатая старуха, ровно монашка, жила с девочкой-приемышем. Вот они к ним и заявились, убили обеих, обобрали, уехали и стали, как водится, гулять. Взяли их в подозренье, – арестовали и осудили. Лукейку на двадцать лет, а Пелевина навечно. На Сахалин обоих угнали. Только кончили с имя, тут и Егоркино дело подоспело. Не будь Лукейкина убивства, меня б и не засудили, пожалуй. А то прокурор шибко уж основывался: так и так, мол, коли уж сестра разбойник такой, братья тем больше должны быть разбойники. Из-за нее, шельмы, из-за змеи подколодной, я на одиннадцать лет угодил!
– А что это у тебя за знак на голове? Должно полагать, не так все с рук сходило, как сказываешь?
Чирок ухмыляется и начинает скрести себе голову рукой в прошибленном месте.
– Это точно, робята: оплошал я таки однова, пришлось стяжка отведать. По крупчатку мы с Егоршей ночью поехали. Его я на стрёме с конями поставил, а сам ношу да ношу, знай, мешки из анбара. Только Егорка-то видит, что тихо все, никого нет, и разинул рот: стоит себе да ковыряет в носу… Потому молодой еще был, глупый! Вот несу я куль на спине… Вдруг кто-то как оглоушит меня стягом по башке!.. У меня аж разные огоньки в глазах забегали, и синие, и зеленые, и красные. Будто из ружья кто выпалил – гулы кругом пошли… Уронил я кулек, прислонился к дереву (дерево, спасибо, поблизу стояло) и стою гляжу. Но, он тоже стоит, глядит на меня. Должно быть, тоже шибко испужался.
– Испужаешься небось этакого дьявола, что и стяг не берет!
– Опамятовался я потом – и наубёг скорей! Кликнул Егоршу, сели в телегу – и айда домой! Голова у меня здорово проломлена была… Крови что вышло! Только я отговорился, когда пошли розыски: конь, мол, лягнул.
И долго еще на нарах у Железного Кота продолжается в том же роде шепот, прерываемый изредка сдержанным смехом и отдельными замечаниями слушателей. Страшные образы и дикие, кровавые сцены проходят передо мною, сплетаясь в одну мрачную фантасмагорию. Лукейка с огненными шарами вместо глаз, убивающая старуху с маленькой девочкой и идущая на Сахалин со своим любовником-бродягой; десятилетние дети, накидывающие мертвую петлю на пьяного мужика; Чирок, ворующий сено и убивающий при этом свидетеля-черемиса… Удавка, вожжи, топорик, сулема… Удары стяжка по голове, подобные ружейным выстрелам… Крупчатка, чебаки, дрова, Тимошкина кожурина и его восемь почек… Кровь, острог, каторга… И плутоватое лицо рассказчика, и сочувственный хохот слушателей… Наконец я засыпаю; но и во сне продолжаются те же видения, душат те же кровавые кошмары. Я стараюсь спастись от них, бегу, задыхаясь… Счастливо миную часового со штыком, бегу мимо светлички с выглядывающим из нее стариком сторожем, подозрительно воззрившимся в меня, бегу по болоту, по сопкам… И вдруг падаю, оступившись, на дно мрачной, холодной шахты! Воздух, рассекаемый моим трепещущим телом, свистит, и страшное, ненавистное чудовище шепчет: «Ага! попался, голубчик!..» Вот-вот ударюсь я об один из его гранитных выступов, и череп мой разлетится в мелкие дребезги…
– Ах!..
И я просыпаюсь, весь обливаясь холодным потом, охваченный смертельным ужасом. В коридоре слышится свисток надзирателя и крик: «Вылазь на поверку!» В окнах еще темно, но уже наступает тяжелый каторжный день, и сожители мои, позевывая и потягиваясь, начинают лениво подниматься.
XIV. Лучезаров
В одно декабрьское воскресное утро в камеру вбежал запыхавшийся Тарбаган с известием, что меня к воротам зовут. Под воротами я узнал от дежурного, что начальник требует меня на квартиру.
– Может быть, в контору? – переспросил я.
– Нет, на квартиру велено.
Мне дали выводного казака, и я отправился с ним к бравому штабс-капитану.
– С черного крыльца пойдешь? – спросил казак, останавливаясь в некотором недоумении.
Но я решил войти через парадное крыльцо и дернул за колокольчик. Звонить пришлось, однако, долго. Наконец появилась какая-то женщина и при виде арестанта с сердцем захлопнула дверь, крикнув:
– Чего с парадного хода шляетесь? Барин серчает. Сконфуженный, я должен был отправиться на черное крыльцо и вошел в кухню. Там переругивалось несколько женских фигур. При моем входе они замолчали.
– Чего надо? – грубо спросила одна, с пожилым лицом и высоко засученными рукавами, очевидно кухарка. Я сказал. Отправились докладывать.
– Барин велел в кабинет идти, – удивленно объявила горничная, перед тем выпроводившая меня с парадного крыльца. Мы с казаком пошли вслед за нею через длинный и темный коридор, по бокам которого виднелись в растворенные двери комнаты с кадками и горшками цветов на окнах и по всем углам и с яркими масляными картинами на стенах, сюжетов которых я не успел разглядеть.
– Сюда, – указала горничная, и я робко вступил в небольшую комнату, устланную коврами и занятую шкафами книг и всевозможных бумаг. В большом кресле за письменным столом восседал сам Лучезаров. Услыхав шорох, он поднялся с места и быстрыми шагами подошел почти вплоть ко мне.
– А! – протянул он, пытливо уставив в меня свои круглые глаза, и лицо его, румяное, пышущее здоровьем, подернулось довольной улыбкой.
– А я – должен сознаться – на днях только узнал… совершенно случайно… что в моей тюрьме находится арестант с высшим образованием.
Признаюсь, меня удивила эта бесцельная ложь со стороны бравого штабс-капитана: из одной уже моей переписки с родственниками, не говоря о статейном списке, он с самого начала должен был знать о моем общественном положении до суда.
– Я ценю образование, – продолжал он развязно, – но полагаю только, что для русского человека не оно самое главное. Гораздо важнее дисциплина ума и характера. Я, право, отказываюсь понять, как может попасть в каторгу человек, получивший высшее образование?
Мне был тяжел подобный оборот разговора, и я уклончиво отвечал, что в моих бумагах, конечно, подробно указано, за что я осужден.
– О да, разумеется, – сказал Лучезаров, – я знаю, я читал… Но тем не менее могла ведь быть судебная ошибка, могли быть смягчающие обстоятельства, как-нибудь ускользнувшие от внимания…
– Нет, – сухо возразил я, – насколько мне известны русские законы, я осужден по ним вполне правильно.
– Да?.. – Лучезаров в течение нескольких минут пытливо глядел на меня, все по-прежнему иронически улыбаясь. Потом вдруг лицо его сразу сделалось серьезным и официальным. Он быстро повернулся на каблуках к столу и сказал:
– Тут получилась посылка… Собственно, за этим я и вызвал вас.
До сих пор в обращении ко мне он не употребил ни одного личного местоимения, ни «ты», ни «вы», видимо, колеблясь между ними и как бы разведывая почву; но теперь вдруг бросил колебания и заговорил решительно вежливо.
– Пришли книги на ваше имя… От вашей матушки.{30}30
В действительности книги на каторгу присылались не матерью, а сестрой П. Ф. Якубовича Марией Филипповной (1862–1922). Л. В. Фрейфельд так характеризует ее отношение к брату: «Письма ее были полны бесконечной любви и преданности: мне кажется, не было той жертвы, которую бы она не принесла во имя любви к брату. Она жила им» (Л. В. Фрейфельд. Из прошлого. – Журнал «Каторга и ссылка», 1928, № 5, стр. 91).
В семейном архиве П. Ф. Якубовича сохранились книги, бывшие у него на каторге, с любопытной печатью: «К чтению в тюрьме допущена» и с подписью: «Начальник Акатуйской тюрьмы И. Архангельский».
[Закрыть] Судя по письмам, она, должно быть, прекраснейший человек. Я, знаете ли, не люблю этих слабонервных дам, вечно хныкающих, с сантиментами. А она не то, совсем не то. Бодростью этакой, даже веселостью веет от ее писем… Совсем мужской характер. Да, так вот она вам книги прислала. Когда-то я сам любил читать, но теперь, конечно, поотстал от века. Делами завален по горло, бездельничать некогда. Выбор книг, могу сказать, недурной; есть общеизвестные имена. Матушка ваша сама пишет, что классиков старалась выбрать.
– Значит, я могу получить их? – забежал я вперед.
– Н-ну, это, положим, еще не значит, – отвечал Лучезаров, и лоб его вдруг нахмурился.
– Как так?
– Видите ли: относительно чтения арестантами книг я не имею, к сожалению, вполне ясных и определенных инструкций. Я во всем люблю точность. Я солдат; я люблю, чтоб каждый мой шаг был правилен и последователен… Если ступил левой ногой, то знай, что дальше следует поднимать правую, а не прыгать на той же левой. Вот, например, я имею самые обстоятельные и несомненные указания относительно того, как должна происходить поверка, работа, каковы должны быть отношения арестантов к начальству, их пища и прочее.
– Однако, – не утерпел я, – в вывешенной в тюрьме инструкции не сказано, например, чтобы запрещалось покупать пищу на свои деньги, а вы же запрещаете?
– Да, пожалуй… Если хотите, вы правы: в инструкции и этот пункт недостаточно ясно обоснован. Что будете делать! Знаете, каков умственный уровень большинства исполнителей высших начертаний? Вы правы: упущений много. Но запрещение частной пищи логически вытекает из всего каторжного режима. В инструкции отчетливо и до мелочей подробно указано, что именно полагается арестанту от казны: столько-то мяса, столько-то хлеба. Очевидно, закон признает это количество пищи вполне достаточным.
– Он, может быть, вовсе не признает достаточным, но казна не настолько богата, чтобы давать больше.
– Н-ну, не думаю этого… Наконец, это вяжется и с моими личными убеждениями: каторжный режим должен быть также и пищевым режимом. На солдат – заметьте: на солдат! – отпускается казною немногим больше. Это ненормально. Да, да! Я буду ходатайствовать, я стану настаивать перед губернатором, чтобы этот пункт инструкции был определен точнее и именно в том смысле, какой я указываю. В каторгу приходят не есть и спать, а страдать и нести возмездие. Нет, нет, вы не знаете еще этих артистов; дай им вдоволь хлеба и пищи – они валом повалят в тюрьму! Необходима узда, необходимы строгие рамки во всем, между прочим и в пище. Повторяю, это мое глубокое убеждение…
Я поглядел на дышавшее здоровьем и румянцем лицо Лучезарова, на его круглый живот и с достоинством выпяченную грудь и понял, что таково действительно было его искреннее и глубокое убеждение… Но внутри меня что-то клокотало, что-то подталкивало сделать еще одно-два возражения.
– Но ведь это… негуманно, – сказал я, – жить на подобной пище в течение многих и многих лет, исполняя тяжелые работы, не имея свободы, немыслимо!
Народ неизбежно ослабеет и начнет болеть. Разве можно сравнивать арестантов с солдатами? Солдаты – лучший цвет народа, самая здоровая часть молодежи, тогда как арестанты – люди всех возрастов и всевозможных родов здоровья. Солдаты не истомлены, как они, долгим предварительным сиденьем по тюрьмам и получают они все-таки больший паек. Наконец, им не запрещается тратить свои деньги. Мне кажется, ваш «пищевой режим» равняется для нас медленной смертной казни, которую вряд ли имеет в виду закон!
Лучезаров, казалось, очень внимательно слушал мою речь, нахмурив лоб и даже сочувственно кивая головой.
– Все это, может быть, и так, – отвечал он, пожав плечами, – но… отсюда один выход: не попадать в каторгу.
Он понизил при этом несколько голос и приятно улыбнулся. Я перестал спорить.
– Что же хотели вы сказать относительно книг?
– Да, книг! – радостно встрепенулся Лучезаров. – Я хочу сказать, что нахожусь в большом затруднении. Я, видите ли, человек, в сущности, не жестокий и надеюсь, что при дальнейшем знакомстве со мною вы в этом убедитесь. Мне даже приятно было бы доставить вам некоторое удовольствие: я вижу, что вам очень хочется получить эти книги. Но… опять-таки должен сказать, что по рукам и ногам связан инструкцией. А составители шелаевской инструкции, очевидно, не предполагали даже, что найдутся такие арестанты, как вы. В самом деле, где и когда арестант интересуется чтением? Помилуйте, да разве книжка нужна этим артистам! И вот, в инструкции я читаю только: «Разрешаются книги религиозного и нравственного содержания». Даже не так: союза «и» нет! Сказано: «религиозно-нравственного содержания», но так как книг религиозно-безнравственных не может быть, то я считаю это за простую описку и самовольно ставлю союз «и».
Не будучи уверен в справедливости догадки бравого штабс-капитана, я покривил душой и поспешил подтвердить, что догадка эта вполне уместна и основательна.
– О да! Я много об этом думал… Вчера и сегодня думал… И полагаю, что я прав. Итак, кроме чисто религиозных книг, закон разрешает еще книги нравственного содержания. Но вот тут-то и загвоздка! Откровенно сознаюсь вам, что быть судьею того, нравственны или безнравственны присланные вам книги, я отказываюсь. Конечно, я тоже читал и знавал когда-то всех этих Гоголей и Шекспиров, но это было так давно… Очень многое я уже позабыл. Да, по-моему, не стоит и помнить всякую дребедень. Перечитывать же теперь все это заново – прошу покорно! У меня нет для этого времени. Это раз. А второе и самое главное: то, что может назваться нравственным для чтения на воле, совсем другое влияние может оказать на людей, сидящих в тюрьме! Подите узнайте, что вынесут они – ну хоть из этого Гоголя? Вот, например, «Мертвые души»… Я, право, не помню. Не отыщут ли они тут какой-нибудь аллегории? Да вот и дозволения цензуры к тому же не указано…
Я горячо вступился за Гоголя, начав доказывать, что это один из самых нравственных русских писателей, классик, допущенный решительно во все школы, средние и низшие; объяснил также и существование в России с 1865 года закона, по которому большинство книг печатается без предварительной цензуры.
– Все это так, все это, может быть, и так, – кивал головой Лучезаров, – но скажите, пожалуйста, зачем вам нужны эти книги? Вы, по-видимому, и так все чуть не наизусть знаете. Верно, вы хотите читать их арестантам?
Я отвечал, что действительно имею в виду эту цель, и начал пространно развивать свой взгляд на воспитательную роль художественной литературы, говоря, что чтением хороших книг и развитием в арестантах высших умственных интересов можно скорее и вернее исправить их, чем всеми командами, строями и пр.
Лучезарова удивила эта идея, и между нами завязался оживленный спор.
– Конечно, – сказал он, – исправить арестантов вещь хорошая. Я и сам задаюсь этою целью; но в первый раз слышу, чтобы на этот народ могло что-нибудь другое действовать, кроме страха. Собственно, я далеко не поклонник, например, телесных наказаний; это я не раз уже высказывал и самим арестантам. Если хотите, я даже принципиальный противник плетей и розог: к чему они? Что они значат для таких артистов? Арсенал карательных мер, находящихся в моих руках, и без того достаточный… Повторяю, я по натуре вовсе не жестокий человек. Я держусь только во всем строгой законности, буквы закона. И потому я не вижу иных средств исправления, кроме тех, какие указаны мне инструкцией. Современные тюремные деятели признают одно только средство – страх, и я вполне с ними согласен. Это все прочее, что вы указываете, это еще гадания только одни… Нет! книжечками этими вы подобный народец не проберете. Я уже десять лет в Сибири живу и лучше вас его знаю. До мозга костей испорченные канальи! Впрочем, попытайтесь. Впредь до разъяснения этого вопроса высшим начальством я, пожалуй, выдам вам некоторые из книг. Пользы они, конечно, не принесут, но и вреда, думаю, особенного тоже не будет…
– Каких же из присланных мне книг вы все-таки не выдадите?
– Некоторых. Ну, вот эти можно. Гоголя два тома, Пушкина, Лермонтова… Хотя стихи, по моему мнению, совсем бы не годились для тюрьмы… Ну да уж так, на время… «Отелло», «Король Лир» – не помню, что это такое, но, вероятно, можно. Костомаров, Мордовцев…{31}31
Костомаров Н. И. (1817–1885) – русский историк, этнограф, писатель. Мордовцев Д. Л. (1830–1905) – автор романов и повестей на исторические темы.
[Закрыть] историческое… Ну, пожалуй. А вот этих иностранных, писателей не могу выдать: Гюго, Диккенс… Их я, признаюсь, совсем не знаю. Нет, нет, не могу! И не просите!
– А Фламмариона{32}32
Фламмарион Камиль (1842–1925) – французский астроном, автор научных и популярных трудов по астрономии, а также научно-фантастических романов.
[Закрыть] почему же нельзя?
– Это что-то о небе, о звездах?.. Нет, и этого невозможно выдать, никоим образом. Небо, знаете ли, вещь щекотливая… Роль духовного цензора я никак не могу на себя взять… И знаете ли что: напишите вашей матушке, чтобы она не присылала больше книг. К чему? Довольно и этих.
Я раскланялся и с ворохом книг в руках поспешил к выходу. Лучезаров любезно проводил меня сам на парадное крыльцо. Я летел к тюрьме, не чуя под собой ног от радости, ежесекундно боясь, что вот-вот бравый штабс-капитан раскается и велит мне вернуться. Но он уже заинтересован был другим, я слышал, как раздался его зычный окрик на кого-то:
– Это что за беспорядок? Что за сор на дворе? Разве не знаете, что я не люблю этого. Чтоб сейчас было подметено и прибрано. В карцер, что ль, захотели?
Во дворе тюрьмы меня обступила толпа арестантов.
– Николаич, книги? Братцы мои, книги!
– Нам, нам, Миколаич, во второй нумер… Хоть одну, самую махонькую!
– Эвона книжища-то… Вот тут, ребята, должно быть, ума-то! И не лень было писать ему?
– Нам! Нам!
– Разорвать тебя придется теперь, Миколаич. У нас во всем номеру Гришка один по складам мало-мало знает.
– Уж вы мне одну книжечку пожалуйте, Иван Николаич, мне-то уж, бога ради!
– А ты чем святой противу других?
– Постойте, постойте, господа, всех удовлетворю, По справедливости разделим… Пойдемте в мою камеру.
С шумом, гамом и топотом вломилась почти вся тюрьма в мой номер и обступила меня и книги.
– Да не суйтесь вы, ребята, к книгам! Дайте покой. Ивану Николаевичу, смотрите, он и так потом обливается… Успеете еще! – говорил общий староста Юхорев, атлет-мужчина с представительной и энергической физиономией, усаживаясь сам около меня и отстраняя прочь назойливо лезшую шпанку. – Вы сейчас же прочтите нам что-нибудь, Николаич, – прибавил он.
– Сейчас! Сейчас! – загудели все хором. Я взял один из томиков Пушкина и раскрыл «Братьев-разбойников». Все немедленно стихло. Я начал:
Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей
– За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
– Это про нас! – закричало сразу несколько голосов. Все лица оживились и приняли разудалое выражение.
Зимой, бывало, в ночь глухую
Заложим тройку удалую,
Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной.
При этих словах некоторые из арестантов попытались пуститься в пляс. Юхорев прикрикнул на них; но когда я стал читать дальше:
Кто не боялся нашей встречи?
Завидели в харчевне свечи —
Туда! к воротам, и стучим,
Хозяйку громко вызываем,
Вошли – всё даром: пьем, едим
И красных девушек ласкаем! —
он вдруг сам привскочил с места, подбоченился, притопнул ногой и в порыве восторга загнул такое словцо, что я невольно остановился в смущении.
– Это как я же, значит, на Олёкме с Маровым действовал! – закричал он. – Знай наших!
Такого сюрприза я, признаюсь, положительно не ожидал. Мне стало совестно и за себя и за Пушкина… Больше всего за себя, конечно, за то, что я выбрал для первого дебюта такую неудачную вещь, не сообразив, с какой аудиторией имею дело. Я хотел было остановиться и прочесть что-нибудь другое, но поднялся такой гвалт, что я принужден был окончить «Братьев-разбойников». На шум явился, однако, надзиратель.
– Что за сборище? – закричал он. – По камерам! На замок опять захотели?
Юхорев с другими имевшими вес арестантами бросился уговаривать и умасливать его.
– Вы послушайте сами, какова тут у нас лекция происходит. Читает-то как Николаич, просто ведь любо-дорого! Вы не сомневайтесь: ведь эти книги сам начальник прислал.
Надзиратель замолчал и тоже с любопытством подошел к столу. Я продолжал «Братьев-разбойников». В конце поэмы было мало, конечно, веселья: облако грусти и задумчивости отуманило на минуту лица даже и моих бесшабашных слушателей.
Но это длилось именно минуту только. Тотчас же все опять развеселились и принялись восхищаться началом рассказа. Надзиратель велел затем разойтись по камерам. Отовсюду протягивались ко мне руки, просившие книг. Очень многие требовали «Братьев-разбойников».
– Я наизусть их выучу, Иван Николаевич! – восторженно кричал Ракитин, только что перед тем начавший азбуку.
Я роздал все книги, оставив для своей камеры Пушкина.








