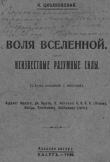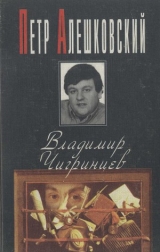
Текст книги "Владимир Чигринцев"
Автор книги: Петр Алешковский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Воля облегченно вздохнул:
– Пей, вольница, гуляй, веселись?
– Нет, нет, но Цимбалин почти уверен, что папа выкарабкается. Мы особенно должны быть благодарны доктору Самвеляну, реаниматору, он от него ни на шаг не отходил. Это тот чернющий! Благодарна? Да я его озолочу!
– На то и намекалось, – заметил Чигринцев презрительно.
– А что? Почему нет? Во-первых, мы с Цимбалиным откровенно договорились, что все будет оплачено; во-вторых, часть отделения – коммерческая, само собой я куплю папе отдельную палату, и в-третьих – врачи во всем мире получают хорошие денежки, и только у нас…
– Только у нас они всегда получали отличные денежки, – перебил ее Чигринцев, – не все, конечно, но профессор Цимбалин никогда не страдал от бедности. Павел Сергеевич вечно ему конвертик в халат совал после консультаций.
– Воля, на жизни не экономят! – решительно заявила Татьяна и умчалась в свою комнату. Вернулась она преображенная: в вечернем черного бархата платье, в туфлях на высоком каблуке. Отцовское колье облегало шею.
– Лилея! – вздохнул Чигринцев. – Что тебе взбрело в голову?
Татьяна посмотрела с влекущим кокетством, чуть раскосыми, красивого дербетевского разреза глазами. Расправив плечи, продефилировала на середину кухни, слегка коснулась рукой стола и, глядя в окно, понимая, что Чигринцев неотступно следит за ней, эффектно произнесла:
– Александр Сергеевич дает добрый совет: «Давайте пить и веселиться, давайте жизнию играть!» Хочешь шампанского?
– Мерси, богиня, я от вида вашего одного пьян немало, – откликнулся Воля.
– Тогда у старости отымем все, что отымется у ней, – прошептала Татьяна. – Я все знаю, – добавила серьезно, – не гляди так, я не буду реветь. Никогда раньше не жила одна… папа вернется, я знаю. Знаю, что рак неизлечим, но не хочу сейчас думать об этом. У меня к тебе просьба: расстегни, пожалуйста, колье, – она повернулась спиной, – там такой гвоздик хитрый.
Пришлось повозиться – замок был простой, но очень тугой, добротный. Татьяна терпеливо ждала. Наконец цепь неограненных рубинов распалась, Татьяна растянула ее на кухонной скатерти.
– Пять рубиновых кабошонов в тяжелом серебре – центральный большой, далее уменьшаются. Сколько дадут, как думаешь?
– Хочешь продать? – Чигринцев с интересом смотрел на нее. – Профукаешь, а потом?
– Во-первых, мне неоткуда взять деньги на лечение. Нет, не думай, сестрица сама навязывала, просила, но я отказалась. Пока папа здесь и я с ним, я за него отвечаю, значит, и плачу, тут у нас с Олей старые и, быть может, глупые счеты. Во-вторых, это камни папины, всю жизнь он за них цеплялся, как всю жизнь цеплялся за несуществующую Пылаиху. Разве ты не понял? Он помешан на прошлом. О, ты его спроси, он тебе ответит, как все они говорят: мы ни о чем не жалеем, это было не наше, принадлежало народу, все давно прошло. Ах, майн либер Августин, словом. Но он этим жил и пока живет. Он не узнает. Я же жить тем, чего не видала и не знаю, не хочу и не буду. Понял?
– Да…
– Наш век – торгаш, знаешь, в сей век железный без денег и свободы нет! Ясно я выражаюсь?
– Куда как…
– То-то. Воля, все эти побрякушки – туфта. Кроме того, ты же поедешь в Пылаиху, добудешь клад, и опять заживем на чужие, а? Мы доживаем чужие, чужое, а жить надо на свое, свои. Так что дуй в скупку, сколько дадут – бери не задумываясь. Да и времени нет – платить надо скоро. Может, что и на конфетки останется. Должно остаться.
– Ты серьезно?
– Очень, ты не понял?
– Понял, но жалко.
– Жалко знаешь где? В пчелкином афедроне, как выразился бы Александр Сергеевич Пушкин, вперед! – Она даже подтолкнула его и вложила ожерелье в руку, с силой впечатала.
– Танька, прекрати, да найдем мы денег. – Воля предпринял последнюю попытку.
– Нет! – сказала она строго, и Чигринцев вдруг ощутил волю, столь, казалось, Татьяне несвойственную.
Она поднялась, картинно блеснула глазами, ушла в комнату и вернулась вскоре переодетая, обычная, в джинсах и легкой маечке с жизнеутверждающим американским призывом: «Не волнуйся, будь счастлив – хунта побеждает!» Встала к плите, сготовила на скорую руку поесть, с аппетитом накинулась на мощную шпикачку. Чигринцев последовал ее примеру.
– Ну что – поедешь? – спросила, хитро подмигнув.
– Куда деваться, уговорила, боюсь только, сегодня поздно, полвторого.
– Как раз обеденный перерыв кончается, но я не о том, я – о Пылаихе.
– А-а… – Он многозначительно повел головой. – В гости к Вурдалаку Ивановичу? А ты веришь?
– Ни во что я не верю, а вдруг? Папа – тот верит, я знаю. Не столько даже верит, сколько всю жизнь хотел верить.
– Почему же сам не искал? Или правда его ведьма на помеле отвадила?
– Ведьма не ведьма, но я от мамы еще эту историю слышала. Нет, думаю, он боялся не найти.
– Брось, Татьяна, какая-то романтика. Человек, столько переживший, и, прости, в такие годы…
– Вот именно что вы его не знаете, а он всякий бывает. – Татьяна отодвинула пустую тарелку. – Ну а теперь давай за дело! Позвони мне вечером, как там, ладно?
– Конечно!
– И завтра я еще имею на тебя виды. Если продашь, поедем совать взятку, а потом вали на все четыре стороны, но лучше всего – в Пылаиху, в деревню: свободною душой закон благословить, роптанью не внимать толпы непосвященной! – Она выпроводила его за дверь, чмокнула по-родственному в щечку на прощанье, как благословила.
13
Колье продалось легко, но и не без приключений. Чигринцев подъехал к «Жемчугу» на Олимпийском проспекте наудачу, более чем уверенный, что за день такую редкую вещь не спулить, зная к тому же понаслышке о бесконечных очередях в скупке. Действительно, хвост был бесконечный – последний желающий числился под номером 938. Чигринцев решил сперва хоть оценить изделие – оценщиков было двое, и к ним, странным делом, стояло всего двое же посетителей.
Все же и здесь пришлось постоять: длинный парень в сером квадратном пиджаке в черную толстую клетку, бородатенький, но никак не бородатый, с несуразным пухом на подбородке, нырнув в большую комнату, не выходил оттуда больше получаса. Второй эксперт, верно, не спешил, как вообще не принято спешить в подобных заведениях.
Наконец зажглась лампочка над словом «Оценка». Чигринцев шагнул во вместительный официальный зал, где, огражденные общим широким столом, вдоль стен в волшебной тишине восседали скупщики и оценщики. У входа на стуле со скучающим лицом сидел дюжий омоновец при кобуре и с резиновой дубинкой.
Оценка проводилась в стороне, сбоку. Чигринцев понял это, увидев бородатенького верзилу, что-то гневно доказывающего на удивление приятному старичку за столом. Рядом, у молодого человека, место было свободно. Он подошел, вынул колье, завернутое в тряпочку, протянул эксперту. Тот занялся делом, правда, сперва бросил оценивающий взгляд, короткий, но профессиональный, на Чигринцева, а затем, покачав вещь в руке, принялся колдовать. Прошелся по ней с лупой, подложил под бинокуляр, принялся замерять камни специальным приборчиком – помесью шагомера со штангенциркулем. Стараясь убить время, Воля стал разглядывать самих экспертов. Что молодой, что старик разительно отличались от раскрашенных, утопающих в дешевом, но обильном золоте скупщиц. Неброские, но добротные костюмчики (у молодого даже тройка), в тон, со вкусом галстуки и рубашки, очки тонкой золотой оправы у старика, годами выработанное умение держаться с юморком, но без потери достоинства – словом, психология человеческая не была для них тайной, а обстоятельная внешность и деловитость с лозунгом «поспешай, не торопясь» выдавали акул – специалистов серьезных, посаженных не на поточную мелочевку.
Бородатенький меж тем, не желая уходить, гневно обличал старика. Перед ним на стойке стояли шесть серебряных стаканчиков, графинчик, легковесная масленка и сливочник с утиным носиком – типичные вещи начала века, серийный модерн с эстетскими цветочками, резанными по серебру резцом десятого подмастерья.
– Нет, никак не может быть, пять тысяч долларов, не меньше, вы просто хотите меня обмануть, – кипятился бородатенький.
Старик за стойкой снял очки, вяло положил их на стол, как бы давая понять, что разговор в который раз окончен, и, скрывая презрение, чеканно произнес:
– Здесь не покупают, а называют стоимость, я вам сказал: цена лома, ну чуть, может быть, больше.
Чигринцев, вдруг в нем что-то взыграло, желая поддержать симпатичного старика, атакуемого маньяком, и тем привлечь к себе внимание, с ходу ввязался в их разговор:
– Простите, что вмешиваюсь, но я человек со стороны, сам пришел за помощью, значит, вашей весовой категории. Вот смотрю, даже клейма не видел, вероятно, восемьдесят четвертая проба, но сами вещи – штамповка, и дешевая, начала века. Кабы Фаберже или братья Грачевы, накинули б вам за имя, есть люди – коллекционируют, но здесь, видно, обычный поток. Век – нынешний, вещи – ординарные, ну как подстаканники в поездах были (их тоже, к слову, принялись собирать). Безусловно, есть своя цена, но не раритет, понимаете?
Старичок скосил на него глаз и в который раз, но жестко уже проговорил бородатенькому:
– Попробуйте на Арбате, в ювелирных, там вам еще меньше поставят, ибо они берут большой процент, мое слово последнее, за дверью люди ожидают.
– Ага, понял! – вскричал клиент. – Хорошо, не хотите – не надо, я в другом месте покажу, но машины-то это точно стоит! – Сгреб вещицы в тряпичную сумочку и, не сказав даже спасибо, гневно бросился к выходу.
– И сколько таких за день, понимаете? – вдогонку ему бросил предназначенное для Чигринцева старичок.
– Понимаю, проблемы, наверное, как у врача, коли больной не согласен с диагнозом, – поддакнул Воля.
– Лев Васильевич, погодите вызывать, – произнес вдруг молодой, – тут по вашей части, гляньте. – Он протянул колье старику.
– Да-да. – Тот потянулся к очкам, водрузил их на нос. – Давненько не видали, клад отрыли? – улыбаясь, спросил Чигринцева.
– Почти, – невольно вздрогнув, отозвался Воля, – семейные.
– О нет, это скорее музейные, старинная вещица, – не отрываясь от камней, произнес эксперт. – То есть я не оговариваю, быть может, в семье хранилась, но это почти археология. Понимаете, о чем я?
– Даже очень, ибо знаю предание, но Бог с ним, оцените, пожалуйста, и, если можете, помогите продать.
– А вы представляете цену?
– По правде – нет, знаю, что много, но сколько… – признался Чигринцев.
– Ну, Паша, кому: Ашоту или Николаю Егоровичу?
– Лучше Николаю Егоровичу, – ответствовал без всякой эмоции молодой.
– Стало быть, вот: вещица красивая, редкая, старая. Но мой вам совет: везите ожерелье на Запад, ищите спеца-коллекционера, тот вам оценит выше, но, правда, переезд, экспертиза, почти баш на баш и выйдет. Дело в том, что камни большие, чистой воды, кроме двух крайних, но неграненые, а значит, малоценные. Попробуйте на улице продать, не купят – не поймут. Им подавай современную компьютерную огранку, брильянт, и побольше. Я вам дам адресок с телефоном, подъедете? Вы на машине?
– Да, стоит на улице.
– Отлично. Тысяч на пять-шесть долларов набежит, если Николай Егорович клюнет, он любит старину – больше, пожалуй, некому. – Эксперт написал адрес на бумажке, передал Чигринцеву.
– Спасибо, большое спасибо, признаться, я ожидал другого и других людей, – раскрылся до конца Воля. – Сколько я вам должен?
– Ничего, абсолютно ничего, пятьсот рублей в кассу, тысяча пятьсот за справку, если желаете, но Николай Егорович в ней не нуждается. Я позвоню. – И, поймав Волин взгляд и даже потеплев от его наивности, добавил: – У нас с ним свои счеты, не волнуйтесь.
– Я и не волнуюсь, – расцвел Воля. – Мне, признаться, все равно, камни не мои.
– А это вы зря мне рассказываете. – Старик уже общался с ним один на один, Паша выписывал справку. – Цену же можно и скинуть при наличии информации.
– Да не учите меня, надо – объегорите как липку, кажется, мы друг друга понимаем, не так ли?
– Что да, то да, – кивнул старик, – приятно с вами иметь дело.
– Взаимно, – раскланялся Чигринцев, заплатил, что требовалось, молодому, сложил справку, завернул ожерелье (как правильно его назвал оценщик) в тряпочку и, еще раз кивнув, поспешил к машине.
Николай Егорович жил в Замоскворечье, недалеко от Балчуга, в хорошем сталинском доме, за крепкой железной дверью, замаскированной наружной – старой, но дубовой, крашенной плинтусным суриком.
В доме чувствовался вкус: старая стильная мебель, книги, иконы давнего письма, хрусталь в горке, но не дешевый чешский, а тоже тех времен, когда красота сочеталась с добротностью запросто и обязательно. Правда, одно портило обстановку: вещей было слишком много, хозяин, похоже, был их рабом, а не веселым эпикурейцем.
Но нет, хозяин оказался интересней, чем первое о нем представление.
– Милости прошу. Кофе? – Николай Егорович провел Чигринцева в большую комнату, усадил в кресло за круглым красного дерева столом. Неспешно разлил кофе, потом уже сказал не без рисовки: – Покажите, мне звонили.
Воля вытащил ожерелье.
– Да-с, – с отчетливым старосветским «с» молвил коллекционер, – ко мне пришли. – Небольшой, сухонький, лет, вероятно, шестидесяти или чуть больше, с приятной свинцовой сединой, аккуратный и деловой, он был немногословен, давно научился держать себя в руках, но видно было: вещь ему нравится, по тому хотя бы видно, как он быстро положил ее на стол, якобы оценил мигом, а на деле стараясь скрыть восторг и сбить цену – он не был еще уверен в Воле.
– Ваша цена?
– Вам она должна быть известна, – просто сказал Воля. – Шесть с половиной тысяч долларов.
– Молодец! – Николай Егорович улыбнулся. – Верная цена. До шести мы сторгуемся. Итого: пять – вам, а тысячу, извините, в «Жемчуг», не так ли?
Чувствуя себя в полной его власти, Воля тоже рассмеялся:
– Вас не проведешь, впрочем, я не очень и пытался.
– Достигается упражнением. Помните, как Мышлаевский ответствует изумленному Лариосику?
– Да, конечно, – кивнул Воля, оценивший цитату.
– Ну а раз так – по рукам. Извольте подождать.
Николай Егорович, никак не хотелось называть его стариком и даже пожилым – столь крепок был весь его облик, – ушел в другую комнату и вернулся не очень и скоро с пачкой стодолларовых купюр.
– Считайте, – положил аккуратно на стол.
Проклиная себя, Воля начал считать, сбился, начал снова.
– Погодите, я вас научу: это очень просто, и раз навсегда запомните, делается элементарно: раз, два, три – обязательно откладывайте, каждую бумажку прощупайте, тогда не собьетесь, – ну, продолжайте.
Воля, покраснев от стыда, пересчитал по его методе. Все сошлось.
– Ну вот. – Николай Егорович поклонился и протянул руку: – Приятно было познакомиться.
Воля пожал руку и, чувствуя, что необходимо представиться, произнес:
– Владимир Чигринцев.
– Чигринцев, – задумчиво повторил коллекционер, – если из дворян, а похоже, то хорошая фамилия из шестой бархатной книги будет, я прав?
– Абсолютно! Вижу, вы не только по камням специалист.
– Увлечение, знаете, вторая натура, – признался Николай Егорович, чуть-чуть только тоном приподняв маску сдержанности. – Впрочем, я вас не неволю, вы, вероятно, спешите, – опять вернулся к исходной холодно-деловой воспитанности. – Будет нужда, заходите прямо, смогу – помогу, сферу моих интересов, вижу, усвоили. – Он провел рукой по стенам. – Телефон остался?
– Да, конечно, большое спасибо. – Воля поклонился и вышел. – Интересно, на сколько же они меня обставили? – сказал вслух на лестнице, но странное дело, не было ни жалости, ни зла, наоборот, им овладело восхищение, всякий раз возникающее, когда приходится сталкиваться с редким знатоком своего дела.
Позвонил из дома Татьяне, обрадовал ее, сговорился в десять утром заехать за нею, настроил Ларрин телевизор и с наслажденьем, как ребенок, наигрался с кнопочкой дистанционного управления, то являя, то убивая балаганного с виду, а по сути высокопрофессионального клоуна Якубовича – крупного психолога из передачи «Поле чудес».
14
Получив деньги, Татьяна заметалась, выискала где-то у отца чистенькие продолговатые конвертики.
– Сколько дать?
– Это не ко мне, долларов триста, думаю, за глаза хватит.
– При сегодняшней-то дороговизне? С ума сошел! По тысяче, не меньше.
– Делай как знаешь, тебя не переубедишь, – резко ответил Воля. Знал по опыту: чем больше давить на нее, тем сильнее противодействие.
– Нет, ну какой же ты гад, я же цен не знаю. И они не называют. Цимбалин говорил: сколько дадите, а сколько для них хорошо?
– На то и расчет.
– Дам по тысяче – деньги папины, мне они только руки жгут!
Чигринцев понял: решение принято, не своротить. Пока ехали по городу, пока меняли доллары в обменном пункте – надо было сделать взнос за операцию, палату, лекарства, пока выискивали икру, грейпфруты, соки, Чигринцева не покидало чувство обиды – как-никак он эти деньги добыл, Татьяна же сейчас кидала их на ветер, в угаре не думая вовсе о дальнейшей жизни. Попытался снова остудить ее пыл, но Татьяна осадила: «Отстань! Я тебе серьезно сказала – на чужое жить не стану!»
Наконец до него дошло: не шутит. То ли избавляется от комплекса бедности – Дербетевы никогда не жили роскошно – работал в семье один Профессор, то ли спешит спустить наследство, связывающее ее с отцом, мыслимое как продолжение вечной зависимости. Здесь не купчик неугомонный давил форс, здесь при видимой легкости разыгрывалась другая карта.
Наконец к двенадцати, как условились, постучались в кабинет к Цимбалину. «Мочеполовой ас» ожидал их один. Поднялся с кресла на колесиках, радостно взмахнул руками, улыбнулся, как хорошим знакомым, вселяя уверенность, профессионально от порога начиная терапевтический сеанс театральной больничной магии.
– Все хорошо, все прекрасно, если можно так выразиться, – произнес он с придыханием. – Павел Сергеевич молодцом, мы его переводим в палату.
– Ох, профессор, мы вам так признательны! – Татьяна готова была его расцеловать.
– Во-первых, главная заслуга доктора Самвеляна, я только оперировал, а он не отходил всю ночь, как нянька, он его буквально с того света вытянул; но больной слаб – плохие легкие и сердце, пока он слаб, и, во-вторых, он, конечно, сам нам помог – редкая тяга к жизни. Необходим покой и лекарства, поедете в валютную аптеку, купите, что пропишу. Упреждаю ваши вопросы: рак сейчас не главное. Первое – полная реабилитация, все вредные клетки удалены, сегодня следует восстановить привычную жизнедеятельность организма.
Долго и обстоятельно еще говорил, Татьяна слушала, замерев. Чигринцев понял: Цимбалин отрабатывает деньги. По глазам врача прочел: дело табак. Не сейчас, не сегодня, но… Татьяна этого не понимала, наоборот, хирург влил в нее заряд энергии, она, настроившаяся на худшее, теперь, сейчас могла уже видеть отца! Воля почуял: пора кончать комедию. Поднялся – как мужчина в семье, он должен был совершить дачу.
– Дорогой доктор, мы вам очень признательны, спасибо. – Он протянул конверт.
– Спасибо и вам, – коротко поблагодарил хирург. Бросил, не глядя, конверт в ящик стола. – Идите сейчас на административный этаж, уплатите причитающееся в кассу, а мы будем готовить палату, одноместную, конечно?
– Если возможно, пожалуйста, – взмолилась Татьяна.
– Павел Сергеевич на особом счету, – успокоил ее врач.
Они задержались на какие-то минуты в коридоре – Татьяне необходимо было выговориться. Дверь кабинета распахнулась, Цимбалин только что не вылетел вдогон – по глазам Воля понял: поглядел и пересчитал. Тон мгновенно сменился, он лебезил, взял Таню под руку, сам повел в бухгалтерию, ласково кивал Воле. Исчез, как испарился, вальяжный профессор – мелкий услужливый смерд семенил перед барыней, и только та, дурочка, ничего не замечала, принимая купленную теплоту за неподдельную монету.
Кабы не Самвелян, настроение у Воли было бы вконец испорчено. Чернобородый богатырь встретился им в коридоре. Таня бросилась к нему, как к задушевному другу, схватила за руку и, глядя в глаза, благодарила, благодарила… Тот сконфузился, отступил на шаг, большой, мощный, сколько раз слышавший подобное, печально смотрел на нее своими воловьими глазами. В них тоже сквозил приговор, но не цимбалинский продувной, а человеческий, сострадающий.
Воля отвел реаниматора в сторонку, сунул в карман конверт. Самвелян, как свойственно только могучим и тучным мужчинам, вдруг весь покрылся красной краской, запыхтел и пролепетал что-то вроде: «Понимаете, иначе не проживешь». Тут уж пришлось Воле его уговаривать, хвалить, и хотя конверт лежал в кармане, но здесь было не жалко, не противно, наоборот, меж ними установилось некое духовное родство, позволяющее откровенный вопрос.
– Что, доктор? Скажите мне, плохо?
– Не совсем хорошо. – Глаза его покрылись масленой пленочкой, блестели тепло и добро. – Павел Сергеевич выполз, точнее, выползает – сами увидите, впрочем.
– Что – рак?
– Рак – завтра, сегодня – сердце и легкие, – повторил цимбалинские слова Самвелян. – Впрочем, я надеюсь. Знаете, он уже шутить изволит, наши девочки от него без ума.
– Признаться, на нашего Профессора не похоже, – с изумлением заметил Воля.
– А близко был, близко, тут люди порой меняются, – сказал реаниматор с доверительной интонацией. – Впрочем, вы его не закармливайте только, он еще совсем слаб, ну да я приду, не в деньгах дело, – добавил он, снова смутившись, и похлопал Чигринцева по плечу. – Случалось вытаскивать хуже, – чтоб как-то закончить, произнес он и удалился, оставив Волю одного.
После административных формальностей, быстро улаженных Цимбалиным, сидели у него в кабинете, пили кофе с булочками, предлагалось даже для проформы виски, ждали сигнала. Через час с небольшим медсестра доложила, что больной переведен в палату, на этаж.
– Ну-с, идемте! – возгласил Цимбалин.
С замиранием сердца отправились, ступили на порог. Худой, с ввалившимися глазами, в черных очках синяков, с обтянутым кожей птичьим носом, Павел Сергеевич был не похож на себя самого. Поднял глаза, увидал их и вдруг криво улыбнулся чрезвычайно странной улыбкой, придавшей его гордому лицу необычно теплое выражение, какое никогда раньше за ним не замечалось.
– Восставший с того света приветствует вас! – проскрипел он, не отрываясь от подушек. Таня бросилась целовать, гладила голову, руки, поила из специального поильничка грейпфрутовым соком. Даже Воля приложился к профессорским мощам и услышал небывалое: – Волюшка, голубчик, рад тебя видеть.
В палате воцарился тихий праздник. Цимбалин прилюдно похвалил больного, что тому было несказанно приятно, затем поднял одеяло, проверил, как закреплена трубочка мочеприемника, опять похвалил и оставил их одних.
– Теперь через трубочку буду, – шепнул Профессор Татьяне.
– Не беда, – подбодрила она. – Жив-здоров, а это главное.
– Первый этап, потом опять резать, чтоб напрямую, – пояснил Павел Сергеевич, но видно – сам не верил.
Чигринцев смолчал. Тут заглянул здоровущий Самвелян, с налета принялся ворковать над больным:
– Ваша главная забота – беречься от пролежней. Чистая постель без складок, марганцовка, облепиховое масло.
– От чего они? – с ужасом спросила Таня, глядя на глубокие язвы на ногах и крестце отца.
– Неподвижность. Ворочайте по возможности чаще, протирайте вокруг спиртом, чтоб кровь заходила. Ну, Павел Сергеевич, с выздоровлением! Я еще загляну к вам.
И ускакал.
– Хороший доктор, добрый, – как бабка в поликлинике, жалостливо произнес вдруг Павел Сергеевич и, смежив веки, погрузился в сон.
Дали ему поспать с полчаса, затем принялись ворочать. Тело Профессора, и всегда-то худое, превратилось в скелет, обтянутый складками кожи. На открытые, кровоточащие раны спокойно нельзя было смотреть. Но не Татьяне. Уверенно и ловко, словно всегда ходила за тяжелобольными, она обработала болячки, шепча что-то ласковое и веселое, а после с великим трудом, бережно подняли князя, пересадили на судно, и, пока Воля придерживал его, Татьяна перестелила уже смятую простыню.
В белой больничной рубахе-распашонке князь восседал на «троне», кажется, довольный, нисколько не смущаясь своим видом. Татьяна, врачи, Воля – все колгочение вокруг прибавило ему если не сил, так уверенности, прогнало страх.
– Рубаха – прям фасона: рятуйте, православные, – сострил Воля.
– Да-с, – кивнул Павел Сергеевич и вдруг неожиданно пропел с неуверенной, слабой улыбочкой: – «Я – царь, я – царь, я – царь Менелай. Тьфу! Я – муж царицы, муж царицы – добрый, добрый Менелай!» – Откуда-то из глубин двадцатых – тридцатых припомнились слова оперетки.
15
Четыре сумасшедших дня слились для него в один. Освобожденный Татьяной, отупевший слегка и уставший, не готовый к работе, вынужденно засел за «Золотого петушка». Воля, как и многие собратья по цеху, любил подзапустить дела – для стимула, чтоб перед сроком навалиться и гнать, гнать без роздыху. День сдачи завис дамокловым мечом и хотя всегда почти оттягивался на неделю-другую (издатель, зная привычку художника не спешить, тоже хитрил, назначал с запасом), но все же моральное обязательство понуждало к творчеству. Теперь, проевший почти все наличные, вымотанный, ошарашенный случившимся, одной силой воли засадил себя за стол. Макет, правда, расчертил заранее, подобрал буквицы и шрифт. Оставались картинки, кои тоже, кажется, были обкатаны в голове.
Но придуманное не реализовывалось. Карандаш, коснувшись бумаги, вытянул из подсознания нечто не похожее на первоначальный замысел. Шемаханская царица смахивала на Татьяну, мудрец звездочет был надменен и заносчив, как Княжнин, царь лепился с самого Профессора. Никто не признал бы сходства – тут Воля не ожидал обиды. Образы, выползая из реальных лиц, обрастали карикатурными подробностями, надевали маски, перевоплощались в пушкинских персонажей. Умирали живущие – воскресали вечно живущие, с детства знакомые герои.
Первый день прометался по кабинету, полежал на диване, погрыз кисточку, попялился в Лариошин телевизор. Со второго впрягся и отрывался только на готовку, звонки Татьяне, сон.
Профессор медленно, но день за днем поправлялся, набирая сил. Начал интересоваться происходящим. Врачи разрешили посещения. По часу на дню к нему заглядывали сослуживцы, особо близкие ученики; обязательно и в неприемные часы, чтобы побыть один на один, приходил верный Аристов, завязавший, и – о чудо! – даже тетушка Чигринцева единожды доковыляла до больницы.
Воле даровали свободу. Узнав, что тот гонит книгу, князь благожелательно кивнул и с вечной самоиронией пересказал Татьяне их встречу перед операцией, которую помнил как в тумане. Важно было, что помнил. Про привидевшегося в бреду упыря не сказал ни слова.
Две недели Воля просидел в затворе. Погода за окном резко переменилась – жара спала, кажется, навсегда исчезла. Зарядили дожди. Под холодную капель работалось спокойно. Он предвкушал бобрянские грибы, утиную охоту – дал зарок: разделается со сдачей, поедет в Кострому. Про клад заказал себе думать, но почему-то одежды бояр и царя на картинках обильно, вопреки исторической истине, обсыпал самоцветами, а золотому петушку вместо глаз пририсовал два изумруда.
Двухнедельное заточение привело к отупению – когда закончил работу, вгляделся в зеркало: осунувшийся, бледный, с припухшими глазами – ничего не скажешь, тот еще троглодит.
Наутро отвез работу издателю. Получил добро и – что куда важнее – деньги и следующий заказ – «Сказку о попе и работнике его Балде». Культурный капиталист преотлично зарабатывал на пушкинских сказках, сохраняя лицо, укрепляя марку фирмы, подкармливая истомившегося по классике читателя.
Теперь можно было наведаться в Пылаиху, хотя, что и как там искать, не имел понятия. Решил навестить князя, на всякий случай испросить совета.
Павел Сергеевич уже садился в подушки на кровати, на лице появилась легкая краска, нос набрал если не прежнюю, но плотность. Посетителей у него не случилось, Татьяна забегала с утра – Воля был рад этому обстоятельству.
– Восставший с того света заметно получшел. Здравствуйте, Павел Сергеевич, – поприветствовал с порога.
– Здравствуй, садись, находишь, что получшел? – Профессор внимательно изучал его.
– Заметно, заметно, – подбодрил Воля. – Помните, как спрашивали, на каком вы свете?
– Помню, или кажется, что помню, – попытался уклониться князь.
– Упыря тоже помните? – не отставал Чигринцев.
– Упыря не помню, – явно соврал Дербетев.
– Ну ладно, нет, так и хорошо. Я ведь в Пылаиху собрался, пустите в Бобрах пожить?
– Это к Татьяне, она даст ключ, я нонче не ходок, – печально констатировал больной.
– Погодите, еще попляшете.
– Не обманывай, не дурак, – обрубил князь жестко и вдруг сменил тон, поглядел на Чигринцева лучащимися старческими глазами: – Видно, пора собираться в путь-дорогу, в ту страну, откуда путнику нет возврата, а как бы я сейчас пожил…
Мышцы его лица размягчились, от него повеяло мудрым покоем. Но чудесное преображение длилось секунды, князь не выдержал взгляда, захлопал утомленно ресницами и отвел глаза.
Воля что-то проблеял в ответ, тот, кажется, и не расслышал.
– Ладно, хотел спросить – спрашивай! – приказал князь.
– А вы, Павел Сергеевич, верите в клад? И если да – где его искать, ну хоть приблизительно?
– Моя вера значения не имеет, во всякой старой фамилии верят в клад. Семейную историю мне мать завещала. Где искать, не знаю, знал бы – искал, наверное; не шар же в воздухе меня в самом деле отвадил. Поезжай – отдохни, приглядись, за грибочком сходи, самое теперь время, может, обрящешь. Не в кладе дело, – непонятно закончил князь. Он на глазах скисал, завалился на бок, глядел из-под полуприкрытых век, как старая черепаха. Долгая беседа давалась еще тяжело.
Чигринцев уложил его аккуратно, расправил складки простыни, накрыл одеялом.
Профессор был плох. Одно только пронзительное признание чего стоило, минутный взгляд словно смотрел в глубь Чигринцева, донося не слова, а энергию, последние, дорогие ее остатки, щедро и навсегда делясь простой тайной жизни.
«А близко был, близко, люди меняются», – вспомнилось самвелянское пояснение.
Чигринцев зачем-то вдруг перекрестил воздух палаты, спящего старика, тяжело откатившего тонкую синюю губу. Притворил дверь, побрел к машине – под вечер обещался заехать к Татьяне.
В гостях у нее сидела лучшая подруга – Людка Сотникова, сослуживица из института. Типичная мать-одиночка, недавно истово уверовавшая, горела теперь желанием всех в округе крестить, и немедленно. Чигринцеву всегда было ее жаль, а с ней – скучно. Дважды в неделю Людка навещала сирот в доме ребенка. Сын ее в это время, как полагается, в одиночестве скулил в далеком Бибиреве, дожидаясь мамку. Дом ребенка располагался неподалеку от Дербетевых, Людка забегала к Татьяне излиться, по свежим, так сказать, следам.