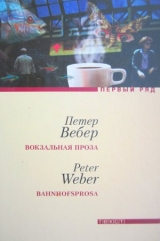
Текст книги "Вокзальная проза"
Автор книги: Петер Вебер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Петер Вебер
Вокзальная проза
1
Под сводами вокзала
Я сижу в помещении вокзала среди буйной поросли разговоров, которые, поднимаясь к потолку, оборачиваются невнятным гулом. Уже не раз и не два я примечал, что на Главном вокзале есть места, где буйно произрастают разговоры, вроде как в Сикстинской капелле, где можно услышать совершенно необыкновенный разговор, составленный из языков со всего мира. Разнообразнейшие звуки соединяются в этакую кашу, она пузырится, разбухает, словно ее кипятят на медленном огне, порой всплескивает до потолка, вздымается волнами, а волны становятся ветрами, которые зовутся речевыми. В этих речевых ветрах, которые весьма переменчивы и, если среди говорящих преобладают немцы или англичане, образуют завихрения, – в этих ветрах сохраняется толика влаги, частью от дыхания, частью от брызг слюны. Влага речевых ветров губительна для красок, какими написаны фрески, и считается причиной желтизны, что, распространяясь от потолка вниз, разъела стены. Речевые ветры – благодатная почва для этой желтизны, ведь чем больше разговоров ведут в Сикстинской капелле, тем усерднее эта желтая гибель проедает себе дорогу вниз по стенам, словно черпает силу в возносящихся к потолку удивленных и восторженных возгласах, в то и дело повторяющихся восклицаниях: «Это ж надо!» Тайный огонь, подогревающий разговоры, – это освобожденный пыл речевых зарядов, выпушенных приезжими со всех концов света, и чем больше громких слов вылетает из широко раскрытых ртов, тем сильней задувают речевые ветры, увлекая людей, понаехавших со всех концов света, к все более грубым обобщениям, со всех сторон слышно большое, важное, значительное, глотки опустошаются, речевого хворосту прибывает, его, понятно, питает упомянутый огонь. Оглушенные сидят средь этого гула вдоль стен, на никогда не пустеющих скамьях, таращатся вверх, они приехали, прилетели, спешили по несчетным залам и переходам, и у них на глазах нарисованные фигуры приходят в движение. Вообще-то разговаривать в Сикстинской капелле запрещено, поэтому каждые несколько минут, когда разговоры смешиваются в кашу и, стало быть, угрожающе разрастаются, кто-нибудь из охранников шикает в гущу людей, испускает протяжное, отточенное скопление согласных, словно вознамерился потолковать о большущих шхунах и большущих шпротах, отчего разговоры сразу стихают, сякнут.
Я и сам разглядывал этих охранников, на них красивая черная форма и черные капитанские фуражки с вышивкой золотом по околышу – «silenzio», «тишина». Форму свою они носят с элегантной важностью, ни дать ни взять студенты консерватории, которые здесь просто подрабатывают. На самом же деле это особое призвание. Maresciallo del silenzio– таково официальное название этой профессии, причем защищенное законом и связанное с серьезной подготовкой. Предпочтение отдается проживающим без семьи и вообще одиноким мужчинам от тридцати до сорока лет, не желающим связывать себя узами брака и без остатка преданным тишине. Работают они от души, а не по временному распорядку. Маршал следит за толпой, за нарастанием разговоров согласно законам прилива и отлива, выискивая паузу, во время которой можно шикнуть. Шиканье должно быть однократным, неожиданным и действенным. Маршал шикает, не меняя выражения лица, без малейших признаков насмешки. Шиканье лишь тогда возымеет действие, если удастся выпустить его, когда волна звуков отхлынет, чтобы оно проскользнуло мимо всех ушей, разделяя морские воды. И маршал пересекает разделенные им волны моря и тем утверждает торжество тишины, хотя бы на краткие мгновенья. Его личная трагедия состоит в том, что за спиной у него неизбежно поднимается шепоток, что он-то сам и служит ростком и поводом для новых разговоров. Того, кто заговорит первым, он изобличит, и нарушителя выведут.
Отзвуки в Сикстинской капелле называются божественными.Если шепоток в капелле может звучать божественно, словно перешептывание ангелов, то крепнущие разговоры оборачиваются адским шумом, усмирение коего необходимо для дальнейшего существования западной идеи спасения.
Божественным отзвуком мы обязаны зодчему, который строил капеллу, руководствуясь своим ухом, ибо считал его ухом Божиим. В конце концов каждое ухо есть ухо Божие – так оправдывал он свою дерзость, ведь ухо есть врата в небо, и небо проникает в голову непосредственно через ухо.
Тишина в Сикстинской капелле торжественна и прекрасна, тогда как полная тишина под сводами вокзала ужасна. На Главном вокзале просто необходим адский гам, весь Главный вокзал есть сосуд для адского шума. Я полагаю своей обязанностью расчленять этот шум и потому время от времени шикаю, хотя шиканье мое редко приводит к сколько-нибудь ощутимому результату. Итак, я сижу под сводами вокзала и шикаю. Кричу: «Шлюп!». Или: «Лещ!» Потом: «Кошма!», «Мышьяк!» И наконец: «Камыш!»
Три чуда
В часы пик я сидел в кафе, которое пристроилось сбоку от зала, под аркадами. Ряды столиков – каждый, словно малая песчаная коса, держит людской поток в русле – расположены вдоль течения этого потока, при этом и стулья стоят в нерушимом порядке, скобами прицеплены один к другому, задают направление взгляду, так что возникает небольшой зрительный зал, откуда смотрят внутрь просторного вокзального помещения.
В большинстве своем под аркады стремятся одиночки, парочки куда реже, потому что сидеть им приходится не лицом друг к другу, а плечом к плечу, стало быть, разговаривать толком не удается, и едва вспыхнувшая любовь может испариться под взглядами голодной публики, которая питается любыми проявлениями жизни. Влюбленность спасается бегством, ее трепет перебегает на сидящих и идущих пассажиров, а те уносят его с собой, и вдруг двое других, что сидят в поезде как раз друг против друга, замечают радужные переливы воздуха! Часто люди, появляясь у нас, бывают совершенно не в себе, еще целиком во власти стремительной езды, и иной, присев ненадолго и по-настоящему не сливаясь с толпой, думает, что закрепление стульев препятствует воровству. Чашки и блюдца с надписью «Вокзал» – это самые ходовые сувениры, белый фарфор с золотым узором без промедления ныряет в карманы пальто, глубокие декольте и широкие рукава. А вот забытые чемоданы, доступные нашему взгляду, остаются на месте, коль скоро проверка покажет, что взрывчатки в них нет; с чемоданов глаз не спускают до тех пор, пока за ними не явится отчаявшийся владелец, изнемогая от счастья. Сторож получит щедрую мзду, мы же, сидящие, проявив чуткость и внимание, опять-таки будем вознаграждены. «Песчаные косы» – так мы называем ряды столиков, упоминаемых в любом вокзальном проспекте.
Я сидел на своем месте, чтобы оказаться, где надо, когда свершится стихийное действо, которое от веку зачаровывает людей. Вечерами красный свет струится сквозь стекло вокзального фасада, облекая фигуры людей в теплый бархат, вымывая спешку из взглядов тех, кто спешит, смягчая лица тех, кто стоит, разверзая одетые камнем аркады, и те бесшумно распахиваются.
Некогда на задней стороне зала, под семью арками, размещалась панорама; она была широко известна, как первое чудо вокзальной архитектуры, в весьма натуралистической манере изображала вид на высочайшие наши горы и находилась всего лишь в нескольких шагах от поезда. Проезжающие, не испытывая желания лезть в горы – а портшезы им были не по карману, – нанимали носильщиков, чтобы те отвели их к панораме. Жалюзи поднимали только в дивном вечернем свете, в пурпурные мгновенья.Сумеречный свет пробуждал вылепленные холмы, воспламенял глетчеры и снега, и горные вершины выглядели до осязаемости реально. Этот пейзаж воспроизведен во множестве музыкальных шкатулок, правда, без певцов, которые во время торжественных приемов появлялись в маскарадных костюмах, на фоне гор, и без пастухов, которые в дни церковных праздников шествовали по синим лугам со своими стадами, причем все они сплошь железнодорожники и держат на своих подворьях мелкую скотину. Для местных жителей, которым некуда уезжать, узкая аллея за сплетением путей означает бескрайний белый свет, они диву давались, глядя на чужеземных гостей с собственной прислугой, на дам в туалетах светлого шитья перед пыхтящими паровозами. Увы, от дыма панорама быстро портилась, вот ее и продали за океан, и лишь некоторые хранят память о ней. А семь арок стали окнами и воротами.
Прежние вокзалостроители в свое время носились с идеей разместить поверх сводчатой крыши колокольню с огромным колоколом, изнутри как бы почерневшим от копоти. Глухие удары этого колокола должны были заглушить все прочие звуки, смягчить все горизонты и подвернуть края, дабы завладеть всем городом. Упомянутый колокол получался, согласно предварительным расчетам, настолько тяжелым, что транспортировке не подлежал, отливать его надо было на месте и уж потом поднимать наверх. Форма для отливки оказалась тяжелей, чем выходило по расчетам, и, когда начали заливать металл, осела, увлекая за собой в глубину рельсы и стрелки. Пока пробовали откопать раскаленную форму, она погружалась все глубже. Только в грунтовых водах и остыла, была там оставлена и благополучно забыта. Зато все уразумели: лишь общие высокие цели разверзают наши крыши. Когда железную дорогу электрифицировали, здание вокзала освободили от рельсов и ему уже не приходилось глотать паровозный дым, строители украдкой начали какие-то работы с пустующей колокольней, якобы сооружая инструмент, который мы величаем домовый орган.На крыше и стенах его могут распахиваться всевозможные дверцы, из которых высовываются, к примеру, ангелочки или львы, а из их разверстых ртов или пастей исторгаются музыкальные тоны и шумы. Такой орган способен издавать очень низкие звуки, уже невнятные человеческому уху, он подражает ветру и грому, непогоде и воде, словам и шуму океана. А вот черный колокол отыскался, когда подземные реки удалось отвести поглубже. Он давным-давно отмылся дочиста, поэтому можно было там, под землей, довести его до ума, отполировать и создать вокруг просторное помещение. Как полагают, именно этот колокол и задает такт, первую секунду нового года отмечают ударом колокола, звук волнами раскатывается по всему строению. Никому из прохожих не довелось видеть ни орган, ни колокол, нам неведомо, не суть ли они всего-навсего вокзальные легенды, какие обычно всплывают в памяти, если долго сидишь под сводами вокзала.
С некоторых пор наружу проникают лишь официальные изображения вокзального интерьера. Там категорически запрещено вести кино– и фотосъемки, и запрет этот неукоснительно соблюдается. Того, кто щелкнет какой-нибудь новый скоростной поезд, детали его оборудования или технические агрегаты, немедля берут под арест, взыскивают солидный штраф и на всю жизнь лишают права посещать вокзал. Из уст в уста передаются диковинные рассказы, они непрестанно будоражат воздух, мы его вдыхаем, произносим это вслух. Ежедневно в часы пик мы наблюдаем группы туристов с экскурсоводами, они движутся предписанными маршрутами в стороне от главных потоков. На всех языках мира воспеваются вокзальные чудеса, экскурсанты черпают удивление из любых мелочей, а их готовность восхищаться поистине безгранична. Хотя в здании вокзала ни одно движение не остается незамеченным, люди чувствуют себя в безопасности и легко теряют стыд и тормоза, охотно проникаются симпатией, проявляют нежность. Поцелуй взасос под темнеющими сводами сулит продленное счастье. Целующиеся, порой прибывшие издалека, нередко склонны бурно проявлять свои чувства – к великой радости зевак, которым до смерти охота посудачить о половом акте, ведь всем известно, что верящие в чудеса представители какой-то неведомой конфессии публично совокуплялись на вокзале, подбадриваемые возгласами единоверцев, стремившихся поскорее распространить новообретенную веру, передавая ее как трепет от тела к телу.
Восток
Меня обслуживал невысокий кельнер в белом костюме. Я заказал еще кофе и стакан воды. Солнце уже садилось, пронизывая серебром тусклые стекла, лучи его рассыпались веером и падали внутрь под углом. Лица у идущих пассажиров обрели подвижность, словно марионетки, они торопились к свету, ожидающие оказались одним боком в тени, большинство их стояло вокруг часов. А эскалаторы доставляли все новых и новых людей к сверкающему серебру, в их собственном, беспокойном ритме, то плотными группами, то прерывистой цепочкой. Недавно при строительных работах задели фрезой горячий источник, желтые пары поднялись вверх по эскалаторным туннелям, превратились у нас на глазах в этакие серные грибы и под опасливые реплики собравшихся поползли к потолку. Большие сводчатые окна над аркадами, напоминающие окна римских терм, запотели, но испарения оказались вовсе не ядовитыми и очень скоро улетучились.
Солнце теперь светило прямо на большие часы. Опираясь на четыре простые колонки, высоко над головами людей, красуется белый куб часов. Эти часы – наш Восток. На все четыре стороны света глядят циферблаты с черными минутными стрелками и красными секундными. На нижней грани куба виднеется металлический шар величиной этак с голову, а под ним на четырех трубках висит синий кубик с белой точкой на каждой грани и с четырьмя стрелками, которые на нее указывают: это и есть место встречи. На полу тот же узор, выложенный из камня. Под часами царит спокойствие, вокруг же – суета и шум. Вновь пришедшие стоят ближе к часам. Чем дольше здесь остаешься, тем больше шанс, что тебя отнесет в сторону.
Первые башни с часами, посредством которых британцы вводили в своих колониях всемирное время, представляли собой уменьшенные копии Биг-Бена. «Время-деньги» – этот девиз, выгравированный на всех без исключения английских часах, некий юный выходец из Вест-Индии воспринял буквально. Он набил английскими фунтами стерлингов корпус часов, расположенных на центральной площади тамошней столицы, рассчитывая таким образом выиграть время. На островах Тихого океана под часами складывали то раковины, то цветочные венки. Чтобы унифицировать разнообразные обычаи в обхождении народов со временем, королевский астроном придумал игры времени.Для этой цели представители всех континентов были приглашены в Лондон; игровым полем служил для них Гринвич-Парк, находящийся подле обсерватории. Пустой корпус от часов установили на треноге над нулевым меридианом, и в ходе церемонии открытия народы должны были украсить сие сооружение своими дарами. Королевская фамилия наблюдала за церемонией с приличествующего расстояния, расположившись на холме, повыше парка. Астроном направил подзорную трубу на дары, подробнейшим образом довел до сведения присутствующих, какие именно сокровища он созерцает и сколько времени тем самым выиграно. Порадел он и о том, чтобы при достаточной нагрузке под часовым корпусом образовался большой восковой сгусток, каковой он назвал общей капелькой времени.Пришла пора «подоить» часы. Главные игроки глаз не сводили с растущего выступа, дожидаясь нужного момента, – и вот подпрыгнули, сорвали восковой шар и вереницами припустили через парк, пасуя этот шар друг другу, причем действовать можно было как руками, так и ногами. Как можно больше касаний как можно большего числа игроков – видимо, такова была цель массовой игры, мяч при этом становился все меньше и меньше, пока от него не остался восковой «булыжничек», который под звук торжественных аплодисментов снова уложили в корпус часов, что и возвестило конец игры. Хотя правила были четко определены, для европейцев с континента даже после длительного их изучения игра едва поддавалась повторению. Однако это культовое действо легло в основу множества игр с мячом.
Раз в год часовому спорту предаются и у нас на вокзале, причем для этой цели зал делят на четыре сектора – Азия, Африка, Америка, Австралия. Европейцы выступают как организаторы и зрители, а игру эту именуют «народный мяч»,или лапта. Из служащих вокзала участвовать в ней разрешено только мужчинам. Мужчины эти вдруг выныривают из своих кухонь, все рестораны в этот день закрыты, а жены игроков пристраиваются на краю поля и предлагают отведать разнообразные кушанья соответствующих континентов. Различные группировки используют время разминки для всякого рода манифестаций, и вот уже проносится слух, что с одиннадцати до двенадцати будет иметь место самая интересная часть «народного мяча». Ароматы лимонника и красных специй, басовая музыка, речитативы, танцы во всех углах и закоулках. Ровно в полдень маленький кельнер взбирается по длинной приставной лестнице и вывинчивает литой шар. Стрелки главных часов замирают, а с ними и стрелки всех остальных часов. Из часового корпуса выкатываются мячи и мячики, игроки быстро их подхватывают и на все лады вводят в игру. Тут и дриблинг, и броски, и пробежки, и финты, и блокировка, башмаки так и взвизгивают по полу. Превосходство африканцев и афроамериканцев в «народном мяче» сразу бросается в глаза, и молодняк, который после работы и по выходным собирается под часами со своими дешевыми мячами, давно уже заразился артистизмом игроков, давно уже одевается, как они, слушает ту же музыку и двигается под те же ритмы. Для многих азиатов, которые выросли в густонаселенных краях, вокзал – единственное место, где они чувствуют себя вполне вольготно. Они изобрели собственную форму упомянутой игры и в своем секторе играют множеством маленьких мячей, лихо посылая их от одного игрока к другому. Скорость, с какой они, стоя за прилавком, обслуживают теснящихся вокруг европейцев, распространяется на все их действия.
Без малого в час все участники образуют человеческую пирамиду. Маленький кельнер собирает оставшиеся мячи в корзину, карабкается по плечам и ляжкам, поднимается наверх и, стоя на плечах самого верхнего в пирамиде, сыплет мячи обратно в корпус часов. Лопаточка секундной стрелки ползет дальше, игры окончены, пирамида рассыпается, и все возвращаются к работе.
В любое время, никому не бросаясь в глаза, стоят между колоннами пожилые люди, наметанным взглядом способные проникнуть в глубины человеческой души. На груди у них желтые значки с надписью «Вокзальная миссия». В миссию входят только добровольцы. Всем известно, что вокзал – это как бы черный магнит, что отчаявшиеся в своих блужданиях рано или поздно приходят сюда, приземляются под часами, прежде чем терпят окончательное крушение, каковому наши миссионерши пытаются воспрепятствовать, охраняя сей эпицентр. С недавних пор в этом месте стоит высокий, по грудь человеку, желтый мусорный контейнер с пепельницами, и под часами общий запрет на курение теряет силу. Как известно, ослабевшие души выкуривают здесь последнюю сигарету, прежде чем унестись с дымком. В это время с ними можно деликатно заговорить, шепотом. Они давно уже ни с кем не разговаривали, разве что с самими собой. Миссионерша создает маленькие словесные островки, старается негромкими словами достичь их слуха, вовлечь в тихую беседу, коснуться рукой и уводит в безопасные зоны, где помощники примут их в свои объятия. Вокзальная обслуга всячески поддерживает миссионеров, которые всей душой отдаются своему делу. Ежедневно им требуется горячая пища, ежечасно – кофе, подаваемый помощниками, опять-таки добровольцами. Вокзальная служба имеет кафетерии у всех входов и расставляет миссионерш на всех неврологических узлах здания. Окольными путями провожает беспомощных и инвалидов сквозь людские толпы, тайком содержит целую сеть бабушек и дедушек – так у нас принято называть стариков, которые знай себе сидят на стульях, большей частью неподалеку от часов. Они благословляют взглядом текущий мимо людской поток, только и желая, чтобы их разбудили, если они заснут. Пусть даже при таком роде занятий глаза скоро сдают, они стараются всегда сидеть с открытыми глазами. Для незрячих же вокзал – это само небо.
Белый шум
Я глянул в нутро вокзала, на открытые кабинки возле эскалаторов, там стройными рядами стоят серебристые объекты – последние общедоступные телефоны-автоматы. В часы пик перед ними возникают целые гроздья ожидающих, напористые очереди, которые непрестанно поторапливают говорящих; телефонные разговоры становятся короче, голоса говорящих приглушенны, а порой пронзительны и остры, словно сверкающие клинки. У толпящихся в очереди, когда они добираются до телефона, уже нет времени и окончательно сдают нервы, а ведь им надо было обговорить весьма важные проблемы, взять на себя некие обязательства или, наоборот, сложить полномочия; беззащитные, они стоят в этом столпотворении, не могут взять верный тон, средь шума и гама последние остатки голосового тепла улетучиваются. Но рядышком, у места встречи, губы вовремя находят друг друга, здесь ожидают влюбленные всех возрастов, и вдруг объятия, и вдруг избавительные поцелуи, искры, легкая вспышка губ. Счастливчики быстро прячутся по своим углам и выключают все наличные аппараты. Все ждут, что мы не сегодня-завтра отречемся от телефонов-автоматов и впредь будем разговаривать только по мобильникам, число общедоступных телефонов уменьшится, растущая растерянность прохожих принята к сведению. Но откуда прикажете взяться достославной вокзальной атмосфере, если голоса то и дело теряют окраску? В кафетерии и за столиками под аркадами категорически запрещается вести телефонные разговоры. Мы сомкнули ряды.
Молодая женщина, только что говорившая по телефону, села рядом со мной за обычно заполненный до отказа ряд столиков. Пахло от нее свежими апельсинами, а сидела она так близко ко мне, что я даже не мог на нее глянуть, не повернув голову в ее сторону. Вот она уже превратила наши ряды в цитрусовый садик. Сидящие рядом, в большинстве мужчины, живут маленькими сенсациями. Мы всячески культивируем соседство по запаху, в разговоры же вступаем редко. Моя соседка по столу, судя по всему, уже привыкла к воздействию, какое она оказывает на рядом сидящих, и не выказала ни малейшего интереса, когда перед нами повернулась чья-то голова, а некий господин подле меня наклонился вперед, чтобы исследовать новый источник аромата. Пальцы этой дамы постучали по желтой сигаретной пачке, две сигареты разом выпали на стол. Кельнер принес для меня кофе, а соседка тем временем искала свою зажигалку. «В общественных местах курить запрещается», – сказал я, не глядя на даму и выложив на стол спичечный коробок. «Стоит мне только подумать о кофе, как сразу хочется курить. Мне вообще пришлось бы отказаться от кофе, если бы я бросила курить», – сказала она, нанизывая мне на шею гирлянды спелых апельсинов. Затем она раскурила сигарету, выдувая колечки дыма, сквозь которые мне теперь приходилось глядеть. Поперечный зал на короткое время почти обезлюдел, большинство поездов как раз отошло, освободив вид на ряды перронов и рельсы, которые красиво ветвились там, впереди, и таяли в красноватом сумраке. Зал до срока окунулся в тусклый, обманчиво-розовый цвет, в этакие фальшивые сумерки, какие являются взгляду, когда туман завешивает закатное солнце и свет медленно окрашивается в теплые тона.
Мне вдруг захотелось курить, захотелось есть апельсины, я встал, чтобы уйти от захватывающей близости. «Вы не могли бы ненадолго придержать мое место?» – спросил я, вышел из ряда, быстро прошагал через переполненный бар и зал ресторана к задней лестнице. Внизу, у туалетов, царил мертвенный синий свет, карточный телефон-автомат был неисправен, трубку вырвали с мясом. Один тип, который всегда звонит отсюда и которому срочно надо было позвонить, для чего он специально наменял мелочи, видимо, никак не ожидал, что аппарат заменили, а потому не скрывал возмущения. Двери туалетов оказались на замке, на них прикрепили записку: «Ключи спрашивать в буфете». Снова поднявшись наверх, я ждал у буфетной стойки. Кельнеры, в большинстве шриланкийцы, сновали между столиками словно офицеры американского флота. Ожидая, я разглядел, что потолок зала украшен алебастровой лепниной – кассеты с разверстыми цветочными сердечками – и что шелестящие занавеси просто нарисованы. Да и мрамор колонн, как выяснилось, тоже нарисован. Пол едва заметно подрагивал. Какой-то кельнер смеясь возник передо мной: «Your key, Sir» [1]1
Ваш ключ, сэр (англ.). (Здесь и далее примеч. переводчика.)
[Закрыть]. С этими словами он протянул мне магнитную карточку.
Я снова спустился в синее подземелье и сунул карточку в одну из прорезей, но явно открыл не ту дверь, помчался дальше по коридорам, так и не сумев обнаружить ни единого туалета, и в конце концов облегчился в быстрый черный ручей, который протекал под какой-то лестницей. С другого конца коридора доносился страшный грохот. Там было машинное отделение с грохочущими цилиндрами, приводившими в движение что-то вроде штамповочных прессов. Шумы, которые обрушивались на меня со всех сторон, засасывала воронка, а засосав, прессовала из них маленькие черные карточки, испещренные тонкими нитями. Когда я наконец снова добрался до телефона, по лестнице стекала холодная синяя жижа, в ресторане же нога по щиколотку тонула в тумане, кельнеры как будто стали двигаться быстрее. Та женщина исчезла, в зале никого не было. Я сел в опустевший ряд, выпил холодный кофе. Мимо скользнули два лебедя, выгребая лапками сквозь пол, словно это была жидкость. Я увидел, что помещение вокзала захлестывает серым потоком, он наплывал от рельсов, обыкновенный стелющийся туман. Длинные, подсвеченные синим стеклянные эскалаторы несли вниз ползучую влагу.
Из ресторана выходили последние посетители. То были ветераны вокзальной полиции, некоторые с до блеска начищенными трубами за спиной, упитанные такие господа с бакенбардами, мясоеды с красными, довольными физиономиями, в том числе несколько усачей. Дирижер тыкал своей палочкой в глубь тумана, трубачи и барабанщики брели за ним, при этом из тренированных глоток сыпались шутки и остроты. Оркестр выстроился перед часами, как положено для игры. Пока дирижер, помахивая палочкой, шагал вдоль рядов, голоса мало-помалу стихли, хотя и звучали более взволнованно, поток шуточек тоже иссяк. Тут дирижер надавил палочкой некую кнопку в полу, и огромное табло в поперечном зале пришло в движение, медленно поднимаясь к потолку. Я услышал, что он восклицает: «Как обычно, все как обычно!» Тромбоны, рожки, трубы, поднесенные в эту минуту к губам, не издали ни звука, только выпустили облачка пара, литавры словно выпекли тучи и дальний гром, с каждым ударом вокруг становилось все темней, и, хотя оркестр заиграл просветленный марш, хотя трубачи раздули щеки и раскраснелись, слышался только шум, шелест, а поверх шелеста гудение электромотора, силами которого табло теперь окончательно прилипло к потолку.
Высоко-высоко над трубачами по левую сторону поперечного зала появился, изящно пошмыгивая, точеный белый нос с золотыми крендельками, иллюминаторы всё двигались вперед, пока наконец не удалось опознать корпус белого корабля, который, собственно, норовил заполнить весь обзор. Пестрые флажки бежали по тросу от носа к мачте. Медленно-медленно подплывал колесный пароход с гордо наклоненной трубой, шел под парами, но что-то там не заладилось: он плевался ангелочками. Носовые волны, расходясь в стороны, намочили мне штанины. Башмаки тоже скрылись под водой, ноги мерзли. Матросы на палубе взялись за работу, отдавали швартовы, один из них прыгнул через поручни в плещущую воду и кинулся к шлифованной тумбе – нашему киоску, – зацепил швартов, после чего пароход остановился. На верхней палубе замерли пассажиры. Музыканты, уже почти до пупа как бы обмотанные ватой, играли одурманивающе мягко и проникновенно. К борту подогнали сходни, и верхами на белых конях два всадника первыми покинули борт корабля, стройные щиколотки рвали туман в клочья, всадники поскакали к эскалаторам, где безмолвно и изящно исчезли. За ними проследовали высокопоставленные духовные лица в светлых рясах, они взмахивали дымящимися кадильницами, сладкий чад подымался к потолку, туда, где беглые ангелочки уже вросли в лепнину. Когда мимо в креслах с колесиками провезли нескольких важных персон, оркестр начал маршировать на месте, погружаясь все глубже и глубже. А когда и дирижер шагнул к эскалатору, он был по самую шею окутан мглой. Шептуны, добросовестные и соглашатели последовали за глохнущим оркестром, от которого в самом непродолжительном времени не осталось видно ничего, кроме самых больших раструбов. Внутрь, вниз. Я встал, увяз до бедер, прошел несколько метров вброд, да как поплыву. Я еще пробовал зацепиться одной ногой за стояк часов, но поток меня затянул, я скользнул к эскалатору, нырнул с последними рожками, которые беззаботно навевали покой, прямиком в белый шум.








