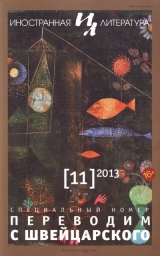
Текст книги "С трех языков. Антология малой прозы Швейцарии"
Автор книги: Петер Штамм
Соавторы: Роберт Отто Вальзер,Анн-Лиз Гробети,Филипп Жакоте,Коринна Стефани Бий,Шарль-Альбер Сангрия,Жан-Франсуа Соннэ,Жорж Пируэ,Корин Дезарзанс,Франц Холер,Роз-Мари Паньяр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Итак:
никакого продвижения, ни малейшего шага вперед, скорее отступление за отступлением, и одни повторы.
Ни одной настоящей мысли. Одни настроения, разновидности настроений, связанных все меньше и меньше; одни осколки, крохи прожитого, видимость мыслей, обломки, вырученные у краха или довершающие крах. Рассыпанные минуты, разрозненные дни, рассыпанные слова, чтобы рука, наконец, прикоснулась к камню, который холоднее холода.
Как бы там ни было, до рассвета далеко.
То, что все-таки нельзя не сказать, потому что это ясно как день. Рука, холодная словно камень.
И стрижи чертят так быстро, так высоко в летнем небе выводят свои знаки, что мертвым их уже не прочесть. А меня, следящего за ними с какой-то радостью, им не вознести до неба.
Ниже, под ними, эти наброски непосвященного. Краткая и бесполезная вспышка, попытки взлететь и долгое падение на камни, долгое отступление.
Отчаяние дезертира – как снег, на котором уже не оставит следа никто живой, никто и никогда. Или плащаница, на которой уже никогда не дано отпечататься ничьему лику, даже ладони.
(И все-таки кто-то пишет на облаках.)
Этот чуть слышный звук…Чувство, что кончается мир, вне которого мне уже нечем дышать.
* * *
Краски вечера вдруг опрозрачневшие как стекла
(или надкрылья)
только сегодня вечером и только здесь
беззвучный мираж
зияющий вход в прозрачную темноту
сквозящий витраж, словно водяная кольчужка,
тончайшая пленка чистой воды
лежит на всем вокруг, на луговинах, изгородях,
скалах
словно кто-то, кого видишь лишь со спины,
любезно приглашает войти
в ночь, яснее которой тебе даже не снилось.
* * *
Если бы это перо держал сам свет
и в словах дышал сам воздух,
вот что было бы лучше всего.
* * *
Отсвет лампы на стеклах. Стихи, отсвет, который, вопреки судьбе, может быть, не угаснет вместе с нами.
* * *
Цветы шиповника, такие нестойкие, просвеченные насквозь, почти невесомые, за которые отдашь все розарии мира; и при этом слышишь последнюю трель уставшего или разочарованного соловья, похожую на ракету, за которой еще долго тянется огненный след.
* * *
В последнем усилии дотянуться – на золотом фоне – до холодка, пронизавшего листву: она уже напоминает не иконы, а, кажется, что-то другое, чье-то другое лицо или попросту несколько знаков жизни, пускай пожухлой.
* * *
Привет растворенному золоту зимних сумерек,
последним листьям, сыплющимся с деревьев,
их высвеченным
покачивающимся ветвям.
Подпирая пространство, кроны к ночи успокаиваются – наконец, понемногу смолкают птицы, укрывшиеся на высоком лавре. Между тем небо светлеет, почти теряя цвет, – разве что у самой земли еще остается немного розоватого; неба уже почти нет, а то, что есть, ничего не заслоняет и ничего не весит – это, в лучшем случае, воздух, который не туманят даже последние проплывающие облака, а далекая гора сама выглядит облаком, только подвешенным, неподвижным. И что напоминает эта звезда, вдруг затеплившаяся на закате? Воздушное украшение для чьего-то невидимого уха, шеи, запястья? Путеводный знак, поднявшийся перед нами из темных глубин времени? Уголек, питающийся каким-то изначальным огнем? Не будем заволакивать его словами, даже самыми чистыми! Сотрем их прямо сейчас. Пусть останется только пчела, опередившая рой сестер.
* * *
Краски вчерашнего вечернего неба под пепельными и снежными облаками, нависшими словно горы: розовый, желтый, зеленый, точнее – почти розовый, чуть желтый и чуть зеленый, словно шелковые ленты, переслоенные самыми тонкими, прозрачными оттенками, нежно сияющими, перед тем как погаснуть во тьме, – цветы, бережно укладываемые рядом друг с другом в невидимую коробку, немой призыв последовать за Флорой, проступившей на горизонте.
* * *
Полная луна над заснеженным Лансом: она такого же «цвета», как снег, и создана из того же вещества, – словно зависшая в воздухе часть снежного покрова. Пятна крови она не смоет, это не удастся даже «всем благовониям Аравии»[23]23
Реплика леди Макбет из шекспировского «Макбета» (V, 1).
[Закрыть].
* * *
День перестал укорачиваться. Каждый год это помогает вернуться к жизни: как будто добавили чайную ложечку света или, если выразиться более высоким слогом, чуть приподняли давящую плиту.
Или по-другому: как будто поднялся на несколько метров и можешь видеть дорогу немного дальше.
* * *
(Этот чуть слышный звук, еще доходящий до сердца,
сердца того, кто уже почти призрак.
Этот несмелый шажок в сторону мира, который как будто уходит от тебя, но, скорее, это сердце его покидает, и не по своей воле.
И все же в конце – ни единой жалобы: пусть ничто не заглушает последний гул жизни; пусть ни одна слеза не туманит вид неба, которое дальше и дальше.
Только неприрученные, неустроенные, повторяющиеся слова, которые еще провожают путника, словно древесная тень вдоль ручья.)
Коринна Бий
Россия, моя спящая любовь
Поэма в прозе
© Перевод с французского Н. Шаховская

Коринна Бий [Corinna Bille, 1912–1979] не нуждается в представлении: русскому читателю уже полюбились ее поэтичные сказки и похожие на сказки рассказы, где быль так искусно переплетается с небылью. Имя Коринны неразрывно связано с кантоном Вале, где прошло детство и юность писательницы и куда она, и трех лет не вытерпев в парижской суматохе, однажды перебирается насовсем. Любовью к Вале пронизано все ее творчество. «Я вернусь сюда после смерти», – говорила она.
Поэма в прозе «Россия, моя спящая любовь» – одно из последних произведений Коринны. В России она побывала трижды, в 1974-м и два раза в 1979 году; вернувшись из поездки по маршруту Москва-Хабаровск – это была ее давняя мечта: прокатиться на Транссибирском экспрессе, – Коринна узнает о том, что смертельно больна. Она достает свои путевые наброски и принимается за работу. Сгустки образов, пунктир мыслей, из которых муж Коринны, поэт Морис Шаппаз, составит сборник поэм и коротких рассказов «Русь, Россия!».
Читатель не увидит в поэме картин советской действительности: Россия здесь преломляется сквозь «магический кристалл» творчества. Так, от реки Амур в поэме осталось одно название, восхищавшее Коринну: река Любовь, а сам Амур преображается в струю водопада, клокочущего в Вале, в долине Реши. И так же каскадами низвергаются на читателя образы…
Среди произведений Коринны – книга стихов «Весна» [ «Printemps», 1939], романы «Теода» [ «Théoda», 1944; рус. перев. 2006], «Венерин башмачок» [ «Le sabot de Vénus», 1952], «Гости из Москвы» [ «Les invités de Moscou», 1977], сборники новелл и сказок «Черная земляника» [ «La Fraise noire», 1968; рус. перев. 2012], «Овальный салон» [ «Le Salon ovale», 1976; рус. перев. 2000] и др.
Перевод выполнен по изданию Rus, Russie! [Editions Empreintes, 1995].
I
Я видела, как валились на меня таежные ели, я принимала их на руки, подбрасывала в воздух. Ветер налетел из-за болот, он снес меня на лед, по которому я скользила быстрее телеги.
Реки казались красными, а потусторонний мир был неким чернеющим островом, где не разглядеть ни человека, ни дома. Но я знала, что мне не нужны больше ни дома, ни люди.
Березы очерчивали круг, а я вращалась в его центре, словно ось. О да, господа хорошие. Все вы будете съедены, все переварены. Мир – это маленький камешек в праще. И вам не ведомо, кто его метнет. Вы не знаете, что пала уже звезда Полынь, что мы теперь всего лишь прозрачные летучие семена.
Я-то хотела бы сбежать. Угомона на тебя нет! – говаривала моя бабушка. Если бы не ее благоразумие, какая была бы авантюристка! Ей бы не пони на Елисейских Полях, а малорослых лошадок Урала.
И диадему из александрита, а сквозь пальцы – зеленые лучи.
Мой розарий – заросли шиповника. Мой здешний дворец – хибарка среди ольх. Но я могу петь, могу мечтать. Я никому не завидую, ибо, раз шагнув, перемахиваю семнадцать гор, двадцать четыре потока и пять радуг моей долины.
Тихо-мирно обходя целый мир.
II
Белое-черное, день-ночь, жизнь-смерть. Красавица жужелица – золотая, с зеленым металлическим отливом, в бурую полоску – выпадает из неподвижного неба и прогуливается по мне. Я хочу ее поймать, она слетает. Как слетают хрусталики моей внучки Айки с качнувшейся скамейки. У них в середке цветет листик слюды. О моя беленькая скифочка с бледными волосами!
Никогда еще река Любовь не рушилась такими мощными каскадами. Они перескакивают через деревья, развеиваются в небе, оседая пылью на ольхах. Прислушаться к этому потоку – значит отрешиться от себя. Сегодня душа моя разбивается вдребезги. Кто побеспокоится о ее разлетевшихся частицах, сверкающих, словно капельки? Кто подставит ладони, чтоб собрать в горсть эту ключевую воду?
Вот букашка, столь редкостная, что впору поместить ее в музей под стекло. «Рассматривать в лупу». Но ее бирюзового цвета, скорее зеленого, чем синего, хватило бы, чтоб окрасить целый луг, куда приходят пастись серны. Ибо я больше не пастушка ни телкам, ни овцам. Моя скотинка – козел-вожак и дикая коза, чья нога ступает тверже, чем раздвоенное копыто дьявола.
III
Сумерки нисходят мне на живот и на пятна снега, еще держащиеся в горах. Непроходимые леса теперь не более чем темный мох на скалах. Моя тяга к перемене мест спит. Я тону в альпийских озерцах, на которых не тает лед, и в ручьях осклизлых камней, где тритон в брачной поре краснеет досиня, синеет докрасна.
А это всем ночам ночь, ночь такая белая, что впору принять ее за рассвет. Осина, береза, лиственница… этот нетронутый воздух, мелодия шалфея и мяты в оживших в памяти часах. В этом счастье, в этой боли пережитой любви.
То было огромное озеро, обрамленное неумолимыми скалами. Вода ледяная. Где мы были, на каком высокогорном плато? В какой стране? Ни одной лодки, ни одного плота. Ни следа туристической ли, семейной ли стоянки: какие тут отпуска, какие каникулы? «Странно, странно…» Задрав голову, я вижу добрую сотню пещер довольно правильной формы, но расположенных на разных уровнях.
Никакого леса. Одни отвесные скальные стены, отбрасывающие горькую тень, продырявленные новыми, еще большими пещерами.
IV
Я ухожу далеко-далеко в какие-то страны, где, чудится мне, я некогда бывала. Я узнаю их, а сама знаю, что никогда их не видела.
Ночной запах: я вдыхаю его сквозь бузинник. Я возвращаю на место звезды. Ночь над вершинами сливается с ночью долин.
Сегодня в воздухе какой-то переполох – не ждать ли с неба перепелов[24]24
По всей видимости, отсылка к эпизоду из Ветхого завета, описывающего чудесное ниспослание израильтянам пищи: перепелов и манны. Исход. 16. (Здесь и далее – прим. перев.).
[Закрыть]? Слышишь, дети кричат?
– В глубинах воздуха только великий покой, – говоришь ты.
А воинства хищных зверей? Тревога лугов, где не косят и не пасут? А все, кто ушел и кто еще уйдет? Мы останемся одни, совсем одни с костерком из сосновых веток и крынкой молока. Ночь без звезд похоронит нас, снег без солнца покроет.
V
Толстый шмель залетел ко мне в комнату и тут же вылетел. Погода пасмурная, я читаю пасмурные рассказы Чехова. Шмель опять прижужжал, черный и золотой, заглядывает мне в ноздри, улетает. О, качаться бы, как он, туда-сюда в безучастном пространстве!
«Калинка, малинка, лазоревый цветок», – напевают ребятишки в России. Я читаю книгу, непролазную, как заросли ольхи[25]25
Речь идет о внушительном – 800 страниц – романе русского прозаика и историка П. Мельникова-Печерского (1818–1883) «В лесах», посвященного жизни, быту, обычаям заволжских раскольников. С этой книгой Коринна ведет внутренний диалог на протяжении всей поэмы.
[Закрыть], где бурые с белыми прочерками птички все пытаются выговорить:
Во городе во Казани
Полтораста рублей сани,
Девка ходит по крыльцу,
Платком машет молодцу.
IV
Меня настораживает вон тот болотистый луг. Он мечен кружком более темной травы. Луг давно запущен, оставлен на произвол ветров, жгучей крапивы, любистека, змей. Откуда этот круг? Уж не кольцо ли фей?
«Котелок-босоножку»[26]26
Легендарное существо, подстерегающее одиноких путников.
[Закрыть] я не встречала, но, может быть, он и пляшет в том магическом круге. Я-то свой котелок (тоже очень черный) пристраиваю на железную треногу в углу очага. А теперь – ну-ка хворостинок, ну-ка бересты, ну-ка спичку! Как красиво языки пламени лижут его бока, а те бормочут под крышкой. Да уж, вспомнится дым и супу, и чаю!
Никогда не видала я таких крупных цветов шиповника, таких длинных плетей спорыша, никогда не видала, чтобы серны паслись так спокойно, чтобы сойки чертили зигзаги так низко. А сернисто-желтые трутовики в лесу? А вертишейка, а юркая белка?
Ах! – думаю я про себя, надо же было мне так долго спать, так ненасытно пропускать через себя моря, степи, грозовые небеса, чтобы заново все это оценить. Мне казалось, я все забыла, мне казалось, сердце мое омертвело, уши оглохли – а вот я восприимчивей, чем стеклянная пластинка фотографа 1900-x.
VII
Моя перина – вот эта поляна, где потягивается рысь. Левой рукой я поднимаю еловую чашу, в которой трепещет свеча. Ее огонек согревает нас и плавит снег. Меня томит жажда! Мне хочется пить пламя. Если смотреть слишком близко, оно двоится. Воск начинает стекать наподобие сосульки. Моя кровать очень старинная, с резными спинками, работы кого-то из чад аббатства Санкт-Галлен.
Первое солнце вскользь касается горы, карликовые ивы глотают росу, распушаются мхи, каждое дерево любуется своей тенью – я жду в этой тени.
…но оно продолжает разрывать лесистый склон. Я уже вижу, как объявляется орел, как начинает обтаивать скала.
Мелодии разворачивают вокруг меня свои живые изгороди и свои ароматы. Они переплетаются между собой, борются, выходят из берегов. Игры барабанов и ножей. Наконец они становятся ручьями, реками, вбирают меня, крутят. Я плаваю в этой легкой-легкой воде. А оттуда взлетаю в небо, как воздушный змей с хвостом разноцветных нот. Ветер, такой сильный, рывками возносит меня все выше, жизнь, которая меня еще держит, вот-вот оборвется. Прощайте!
Я была в самой середине неопалимой купины, я сама была этой купиной. Какая радость – смотреть на листву-пламя, не понимая, что это – я. Эти воздетые язычки огня, совсем по-весеннему зеленые, – мои руки! Эти корни, вспарывающие землю в поисках воды, – мои ноги! Мои глаза с виду еще человеческие, но не принимают ли они уже форму листьев? А взгляд?
VIII
«Воробьиная ночь», – говорят русские про грозовую ночь, ночь шума и ярости.
Мою воробьиную ночь не озаряли молнии, не хлестал дождь. Стояла тишина. Я не спала, и мне было страшно одной, затерянной так высоко в горах. И то, что рядом на кровати спала кошка, не успокаивало меня, ибо я была жалким воробышком.
А сейчас туман. Который поднимается из глубоких долин, клубится, переполняя лог, завивается вокруг моей избы. Он накатывает, подкатывает – вот уже по шею. Но в пальцах у меня альпийская астра нежно-розового свечения. Я не обрываю с нее лепестки. Любовь ушла. Я жду в небесных фумаролах, чтобы меня застигли здесь снежные хлопья, чтобы застыла летящая с обрыва речка и чтоб я стала такой же немой, как она.
А сейчас идет снег, и красная бузина сама на себя наваливается. И высокие бледные травы сгибаются до земли. Куда ни глянь, кругом сплошные преклонения!
Кошка и ее ребенок находят себе убежище в самом темном углу моей постели. Малыш в своей шубке, отсыревшей на холоде, уставился на меня.
Косули и серны прячутся в нашем лесу, нам не собраться вместе. Вскоре ветры небесные, исшедшие из уст Творца, скрутят в клубок тонкие побеги на березах. Вот откуда «вихоревы гнезда»[27]27
«Вихорево гнездо» – гнездообразное уплотнение в кроне дерева, которое, по народному поверью, возникает от бури. Раскольники же полагали, что такие гнезда берутся от дуновения уст божиих, с молитвой брали от них середку и носили на кресте как оберег.
[Закрыть], дарованные людям, чтоб не боялись любить.
IX
Животворящая молния больше не пробудит мертвых, синяя ежевика не даст больше плодов. Моя спящая любовь так и пребудет спящей, ибо при конце света, как писал святой Ефрем, люди побегут в пустыни и будут укрываться в пещерах и пропастях земных.
И владыкой мира будет Велик Гром Гремучий[28]28
Еще одна отсылка к Мельникову-Печерскому, приводящему народное поверье о восстании из мертвых: «Верит народ, что Велик Гром Гремучий каждую весну поднимается от долгого сна и, сев на коней своих – сизые тучи, – хлещет золотой вожжой – палючей молоньей – Мать Сыру Землю… Мать-земля от того просыпается, молодеет, красит лицо цветами и злаками, пышет силой, здоровьем – жизнь по жилам ее разливается… Животворящая небесная стрела будит и мертвых в могиле…»
[Закрыть].
Толпа на улицах Москвы. По случаю какого-то карнавала – красного или оранжевого. Где-то там, вдалеке, я вижу мою любовь. Сколько же лет назад уснувшую? Она посылает мне воздушный поцелуй, который крестом опадает мне на лоб, на сердце, на плечи. Аминь. Сани уносят меня.
Теперь уже не время слушать тринадцать песен курского соловья или журчание источников в железистых грязях. Паралитики, прикованные к постели, увидят простершуюся вокруг них белую пустыню.
Исхудалые пальцы выскользнут из обручальных колец, и расползется ткань свадебной ленты. Но горный хребет одевается зеркалами, и наши лица запечатлены в них.
X
Золото счастливых дней не пропало, пусть даже оно невидимо в песке. Всегда будет заниматься заря над неведомой страной, вновь зазеленеют опаленные леса. Недалеко то время, когда животные вернутся к первозданной дикости. У рыси на острие уха – черный нимб.
Медведи, волки, гигантский ятрышник, пахнущий козлом, медно-бурые гадюки, купоросного цвета лягушки, умирающая туча – вы снова будете царями и царицами.
В моем саду не цветут больше царственные астры, зато есть ромашки, крупные, как головки детей. Детей, которые теперь далеко. Я склоняюсь над этими личиками из пестиков и лепестков – я никогда их не срываю. И больше не допытываюсь у них: «Любит? Не любит?»
Поставь на окно стакан воды, чтоб я могла омыть в ней душу, и пусть качнется кадило в сторону высокого-высокого солнца. Тогда взлетит к нему жаворонок, и малиновка запоет.
XI
Икона какой здешней Богоматери пойдет как-нибудь однажды странствовать в наших туманах? Пойдет своим путем, рыжая, голубая, золотая, поверх наших речек? И остановится – а где?
Под гнетом ночи в телах наших вызревают сны. Но я терпеливо жду в двух шагах от зари. Недвижный час. Из темноты выходит стадо северных оленей – пришли попастись на нашей лужайке.
Далеко-далеко из-за гор поднимается свечение, розовое и серое, цвета лишайника.
XII
И снова огромное голое небо, прозрачный рог луны и тысячи деревьев, тянущихся к нему. Сомнения нет, мы – в этом мире, в долине Реши. Я ем синий виноград с привкусом черной смородины. Пью вино, которое теряет свою терпкость в высокогорных погребах. На вереске тает снег, белой изморози как не бывало. Богородица староверов[29]29
Казанская икона Божией Матери. Коринна ссылается на легенду об основании Шарпанского старообрядческого скита, место для которого «выбрала» сама икона, остановившись в Керженском лесу.
[Закрыть] – надумает ли Она долететь до этих мест?
Мать Сырая Земля стряхивает росу. Полянки с кольцами фей раскрывают навстречу солнцу свои желтые вагины. Курятся бревна изб, розовеют комнаты со стенами соснового дерева.
Пойду сорву последний василек и последнюю гвоздику, поставлю на стол возлюбленному.
Петер Штамм
Перевод с немецкого Н. Федорова

Петер Штамм [Peter Stamm] родился в 1967 году в Шерцингене, кантон Тургау. Окончив школу, Штамм получил экономическое образование и одно время работал бухгалтером. Позднее он изучал психологию и психопатологию, работал в различных психиатрических лечебницах. Первые литературные опыты Штамма не пользовались успехом у издателей. Его четвертый по счету роман, «Агнес», вышел в свет лишь в 1998 году [ «Agnes»; рус. перев. 2004], зато сразу стал широко обсуждаемым событием. За ним последовали сборники рассказов «Гололед» [ «Blitzeis», 1999], «В незнакомых садах» [ «In fremden Garten», 2003; рус. перев. 2006], «Летаем» [ «Wirfliegen», 2008], «Зерюккен» [ «Seerücken», 2011], романы «Расплывчатый пейзаж» [ «Underfähre Landschaft», 2001], «Не сегодня – завтра» [ «Am einem Tag Wie diesem», 2006; рус. перев. 2008], «Семь лет» [ «Sieben Jahre», 2009] и «Ночь – это день» [ «Nacht ist der Tag», 2013]. Стиль Штамма характеризуется обманчивой простотой и недосказанностью. В его книгах почти ничего не происходит, но вместе с тем писателю удается показать характеры своих героев, их богатый внутренний мир. Сейчас Штамм – один из наиболее известных швейцарских писателей. В прошлом году он вошел в шорт-лист международной Букеровской премии.
Перевод «Sommergäste» выполнен по изданию «Seerücken» [S. Fischer Verlag, 2011].
Дачники
Вы приедете один? – еще раз спросила моя телефонная собеседница. Имя ее я не разобрал, акцент определить не смог. Да, ответил я. Я ищу место, где можно спокойно поработать. Она посмеялась, чересчур долго, потом спросила, что у меня за работа. Пишу, сказал я. Что же вы пишете? Работу о Максиме Горьком. Я славист. Ее любопытство меня раздражало. Вот как… – сказала она. Секунду помедлила, словно не была уверена, интересна ли ей эта тема. И наконец решилась: Ладно, приезжайте. Дорогу знаете?
В январе я участвовал в конференции, посвященной женским персонажам в пьесах Горького. Мой доклад о «Дачниках» планировалось опубликовать в сборнике, но в суете университетских будней руки не доходили переработать текст и подготовить к печати. Для этого я зарезервировал свободную неделю перед Вознесением и искал место, где никто и ничто до меня не доберется, не отвлечет от работы. Курортную гостиницу порекомендовал мне коллега. Ребенком он не раз проводил там летние каникулы. Хозяин ее давно обанкротился, но коллега слышал, будто несколько лет назад гостиницу вновь открыли. Если ищешь место, где ничего не происходит, поезжай туда, в горы, наверняка не прогадаешь. В детстве я этот курорт ненавидел.
Автобусы ходили к гостинице только летом. Та женщина, не называя причин, сказала по телефону, что встретить меня, увы, не сможет, но от ближайшей деревни можно дойти пешком, это недалеко, максимум час ходу.
По узкому серпантину автобус карабкался вверх по горным террасам. Пассажиров было мало, и на конечной остановке, кроме меня, вышли лишь двое-трое школьников, тотчас затерявшиеся между домами. Из одежды я взял с собой только самое необходимое, но из-за книг и ноутбука рюкзак оказался увесистым – килограммов двадцать. Что вы там везете? – спросил шофер автобуса, помогая мне вытащить рюкзак из багажного отделения. Бумагу, ответил я, а он смерил меня недоверчивым взглядом.
Возле почты стояли дорожные указатели, отсылающие в разных направлениях. Я пошел по улочке, затем по тропе, которая вела вверх по крутому лугу, а дальше сбегала вниз, в узкое лесистое ущелье. На опушке росли лиственницы и одинокие ясени, в глубине – красные ели. Повсюду бурелом, засохшие остовы елей, под которыми еще виднелись последние остатки снега. Почва была сырая, ноги глубоко увязали в черной земле. Незримая паутина то и дело липла к лицу и рукам. Следов других путников я не заметил – наверно, был первым в этом году.
Через некоторое время я вдруг сообразил, что уже довольно давно не видел никаких дорожных знаков, а вскоре тропа вообще затерялась среди деревьев. Поворачивать обратно мне не хотелось, и я продолжил путь вниз по склону, который становился все круче. Кое-где приходилось хвататься за сучья или корни, один раз я не устоял на ногах и, поскользнувшись, проехал несколько метров, да еще и брюки порвал. Плеск речушки внизу становился все громче, а когда я наконец добрался до ее берега, отыскалась и дорога. Бурный поток мчал свои серые воды в широком русле из светлых скал и осыпей, среди темного лесистого ландшафта оно казалось открытой раной. Идти стало легче, и примерно через полчаса я вышел к небольшому деревянному мосту. Опоры подмыты, а сам мост наискось перегородило вывернутое с корнями дерево. Оно сорвало перила, и своей тяжестью проломило несколько досок настила. Я осторожно перелез через него. На другой стороне ущелья дорога забирала круто вверх, и я вспотел, хотя в лесу было прохладно.
Я шел уже без малого два часа, когда за деревьями завиднелась гостиница. А пятью минутами позже очутился перед огромным зданием в стиле модерн. Дно долины успело утонуть в тени, но дом, стоявший на возвышенном месте, сиял белизной в лучах вечернего солнца. Все окна, кроме одного в нижнем этаже, закрыты ставнями, кругом ни души, слышен только плеск речушки. Парадная дверь была открыта, и я вошел. В холле царил полумрак. Сквозь цветные стекла внутренней двери на истертый персидский ковер, застилавший каменный пол, падали полосы солнечного света. Мебель накрыта белыми полотнищами.
Есть кто-нибудь? – негромко спросил я. Никто не откликнулся, и я толкнул дверь, над которой старомодным шрифтом было написано: Столовая. За дверью обнаружилось просторное помещение с тремя десятками деревянных столиков и перевернутыми стульями на них. Освещен только один, в дальнем углу. Там сидела молодая женщина. Есть кто-нибудь? – окликнул я чуть погромче, и направился к ней. Она тотчас встала, пошла мне навстречу и, протянув руку, сказала: Добро пожаловать, я – Ана, мы с вами говорили по телефону.
Судя по всему, моя ровесница. Одета как официантка – черная юбка, белая блузка. Блестящие черные волосы до плеч. Я спросил, не закрыта ли гостиница. Уже нет, улыбнулась она. На столике стояла тарелка с недоеденными равиоли. Минутку, сказала женщина. Села за столик доедать свой ужин. Уплетала быстро, как будто бы нисколько не смущаясь, что я смотрю на нее. У меня с обеда маковой росинки во рту не было, и вообще-то я проголодался, но сперва хотел занять номер, принять душ и переодеться. Я сел напротив нее, она запоздалым жестом предложила мне стул и сказала: Расскажите про свою работу. Я еще раз объяснил, зачем приехал. Она вытерла салфеткой губы, спросила: А почему вас это интересует? Я пожал плечами и ответил, что меня приглашали на конференцию. Гендерные штудии нынче в моде. Но почему всегда женщины? – спросила она. Не знаю, сказал я. Мужчины не так интересны. Глотком вина она запила последний кусочек. Сейчас покажу вам комнату.
В холле она зашла за стойку, порылась в ящиках. Немного погодя придвинула ко мне книгу регистрации, попросила заполнить формуляр. Я заполнил. Потом хотел полистать назад, прочесть последние записи, но Ана забрала у меня книгу, спрятала в ящик. Вас не затруднит уплатить вперед, прямо сейчас? Я сказал: Конечно-конечно. Семь дней, полный пансион, подсчитывала она, это будет четыреста двадцать франков включая курортный сбор. Взяла купюры и сказала, что сдачу даст позже. И счет, попросил я. Она кивнула, вышла из-за стойки и быстро зашагала вверх по широкой каменной лестнице. Только теперь я обратил внимание, что она босиком. Подхватил рюкзак и пошел следом.
Она ждала на втором этаже, в начале длинного сумрачного коридора. У вас есть особые пожелания? – спросила она. Когда я ответил отрицательно, она отворила первую же дверь и сказала: В таком случае занимайте этот номер. Я вошел в комнату, довольно маленькую и скудно обставленную: кроме незастланной кровати, стола и стула, там был комод, на котором стояли старый фарфоровый тазик и кувшин с водой. Стены беленые, пустые, если не считать распятия над кроватью. Я подошел к стеклянной двери, ведущей на крохотный балкончик. Туда лучше не ходить, послышался из коридора голос Аны. Я спросил, где ночует она сама. А зачем вам это знать? Просто так. Она сердито посмотрела на меня и сказала, что, хотя она здесь и одна, это отнюдь не означает, что я могу позволять себе вольности. Я ничего дурного в виду не имел и с удивлением воззрился на нее. Спросил, когда мне можно поесть. Она состроила напряженно-задумчивую мину, потом сказала, чтобы я спустился вниз, как только размещусь. Засим она исчезла, а немного погодя вновь появилась в дверях и, не говоря ни слова, бросила на стол рядом со мной постельное белье и полотенце.
Ванна и туалеты были в конце коридора. Я разделся и стал под душ, но, отвернув кран, услышал лишь тихое хрипенье. Слив в туалете тоже не работал. В нижнем белье я вернулся к себе в комнату, вымылся водой из кувшина, надел чистое. Потом спустился вниз, но Аны нигде не нашел. Напротив столовой располагалось помещение поменьше, надпись над дверью сообщала, что это дамский салон. Там стояли несколько кресел, опять же укрытых, и большой бильярдный стол. На зеленом сукне лежали один красный шар и два белых, к столу был прислонен кий, будто кто-то вот только что играл здесь на бильярде. Соседнее помещение, обозначенное как fumoir, то бишь курительная, по-видимому, служило также библиотекой. Книги в большинстве старые, пыльные, и авторов этих мне читать не доводилось. Классиков совсем немного – Достоевский, Стендаль, Ремарк. Вдобавок несколько зачитанных до дыр американских бестселлеров.
Я вернулся в холл и оттуда прошел в бальный зал, самое большое помещение, где, кроме скатанного в рулон ковра, ничего не было. С потолка, опирающегося на колонны из фальшивого мрамора, свисала старинная латунная люстра. Во всех комнатах весьма холодновато, и света сквозь закрытые ставни проникало мало. На кухне, расположенной в полуподвале, было еще темнее. Там стояла огромная чугунная плита, явно дровяная, а на серванте громоздились десятки грязных винных бокалов и горы немытых тарелок, словно после недавнего банкета. Я снова поднялся на первый этаж, вышел на улицу.
Меж тем тени старых елей, на некотором отдалении окружавших гостиницу, стали длиннее, дотягивались уже до белых стен. Я обошел вокруг здания. С одного боку обнаружилась засыпанная гравием площадочка, где стояли несколько железных столиков, складные стулья и шезлонги. Только подойдя ближе, я увидел Ану. Сел рядом и спросил, не наслаждается ли она последними лучами солнца. Зима выдалась долгая, сказала она, не открывая глаз. Я рассматривал ее. Необычно широкие брови, довольно крупный нос. Узкие губы придавали лицу некоторую суровость. Она поджала ноги, и юбка слегка задралась. Верхние пуговки блузки были расстегнуты. Я не мог отделаться от ощущения, что все это ради меня. Тут она открыла глаза, провела ладонью по лбу, словно стирая мои взгляды. Я кашлянул и сообщил, что душ не работает. Разве я вас не предупредила? И слив в туалете тоже. Придется импровизировать, сказала она с приветливой улыбкой, снега нет, и то хорошо. Когда здесь начинается сезон? – спросил я. Она ответила, что это зависит от многих вещей. Минуту-другую мы оба молчали, потом она поднялась, одернула юбку, застегнула пуговки и сказала: Вы же вроде хотели спокойно поработать? Насчет этого у меня возникли кой-какие сомнения, ответил я, а когда она досадливо посмотрела на меня, добавил, что очень не прочь закусить. Ужин в семь, сказала она, встала и ушла.
Я вернулся в номер, пытался работать. Голод отвлекал меня, и я вышел на балкон выкурить сигаретку. Тут мне вспомнилось, что Ана не советовала пользоваться балконом. Впрочем, выглядел он вполне устойчивым, только железная ограда была изъедена ржавчиной и кое-где попросту в дырах. Прямо подо мной было ущелье, я слышал плеск речушки. Обернувшись, я снова увидел Ану в шезлонге на гравийной площадке.
Ровно в семь я спустился в холл. Вскоре с улицы вошла Ана. Ах, сказала она, идемте. Впереди меня она прошагала на кухню, зажгла керосиновую лампу и провела меня в маленькую кладовку, где стояли картонные коробки с консервами. Равиоли? – спросила она. А ничего другого нет? Ана быстро повернулась кругом, словно хотела взглянуть, что еще есть, потом наизусть перечислила: Яблочный мусс, зеленая фасоль, горошек с морковью, тунец, артишоки, кукуруза. Я выбрал равиоли. Она взяла с полки банку, сунула мне в руки. На кухне показала, где брать посуду и приборы, дала консервный нож. Не потеряйте, он нам еще пригодится. А где бы разогреть равиоли? Она наморщила лоб и сказала: Мне что же, ради одной банки растапливать плиту? Вдобавок она, мол, не знает, как это делается. Я попросил вина. Она исчезла, а через минуту-другую вернулась с бутылкой итальянского, которую поставила передо мной. Вино оплачивается отдельно, сказала она, приятного аппетита, я наверху.








