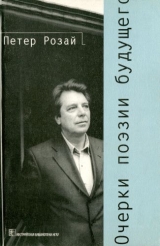
Текст книги "Очерки поэзии будущего"
Автор книги: Петер Розай
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
ADHOC к части IV:
1. Дополнение к adhoc части III:
a) Не подлежит сомнению, что мы можем подходить к произведению искусства и, приступая к работе, спросить себя, какова актуальная потребность, на что имеется спрос. Это напоминает о художественных произведениях прошлого, создававшихся на заказ; или об Энди Уорхоле.
Ценность художественного произведения несомненно определяется многообразием возможностей его использования, богатством возможных ответов, потенциально в нем заложенных.
Ктольет воду на мельницу художника, не имеет значения.
b) Рынок, каков он сегодня, требует товаров высоко стандартизированных, заставляющих покупателя думать, что он собирался купить именно этои ничто другое.
В мире товарно-денежного производства огромную роль играет товарная марка —в таком мире и художнику надлежит поставлять на рынок товар, отмеченный его маркой;такой товар, который видишь, и, видя, узнаешь и знаешь, кто его произвел.
Какой же должна быть стратегия того, кто желает мыслить? – Рынок никогда меня не заботил.
c) Рынок регулирует многое, но не все, например, любовь к истине ему не подвластна, это знает каждый ребенок.
2. Мы производим абстракцию уже потому, что выводимотдельный факт из потока событий.
Перед лицом бесчисленных возможностей (мира) искусство всегда избирает тот инструмент, который нужен в данный момент – для творчества формы:за сложнейшей конструкцией может следовать самое наивное описание.
Во всяком случае я не верю, что скоро наступят времена, когда творческий процесс сможет воспроизвести машина. Думаю, напротив, что произведение искусства, в особенности искусства словесного, могло бы очень многому научить создателей умных машин.
3. «Высшее понимание в том, что все фактическое есть уже теория» (Гете) – или, как писал я когда-то, «что созерцание есть уже мышление».
V
Проекты (Проект безлюдного мира/Проект бесцельного путешествия)были для меня опытом растворения и разрушения параболической формы путем ее оптимизации. Взяв простую структуру, я вложил в нее заряд такой мощности, что – если продолжить энергетическое сравнение – она, эта структура, начала испускать лучи, и создалось – как своего рода побочный продукт – впечатление некой длительности, пронизанной диффузными силами.
Тогда я очень близко подобрался к «миру», достиг своей эстетической цели: с помощью формы я усмирил хаос, не потеряв при этом ни одного известного и осознанного мною факта. Я вступил в схватку и был вынужден одержать верх. Это предательски выдают слова, которыми заканчивается первый из моих текстов: «Как же долго пришлось мне идти, говорим мы себе, так вот, значит, какая она, эта Земля обетованная. – К чему относится это последнее утверждение, остается невыясненным, может быть, мы говорим так только для того, чтобы не впасть в последнюю немоту, в немое отчаяние».
Тогда я впервые начал понимать, что мир не меняется от того, что кто-то из нас думает, будто бы теперь-то он наконец знает, как все устроено.
Некоторые утверждают, что когда они пишут, это помогает им преодолеть страх, заглушить его, забыться – что-то в этом роде.
На это следовало бы ответить: Любое сильное средство, которое мы применяем против страха, ведет к еще большему страху: правда, теперь это страх другого рода.Как говорится, страх – плохой советчик, и это верно.
«Нет сомнения, мой интеллект не слишком велик: во всяком случае, производство идей – не моя сильная сторона, – пишет Френсис Понж в своем эссе Мой творческий метод: —Наилучшим образом обоснованные взгляды, самые гармоничные (лучше всего выстроенные) философские системы всегда представлялись мне особенно уязвимыми, вызывали у меня известное внутреннее сопротивление, ощущение непрочности, неопределенное и неуютное. Когда во время дискуссии я что-то высказываю, у меня нет ни малейшей уверенности, что это действительно так. Противоположные суждения, с помощью которых меня оспаривают, кажутся мне не менее правильными, точнее: не более и не менее правильными. Меня легко убедить, легко преодолеть мое сопротивление. И когда я говорю, что меня убедили, то это значит, если не в истинности того, что было высказано, то в уязвимости моих собственных взглядов. К тому же ценность идей, в большинстве случаев, обратно пропорциональна той пылкости, с которой они излагаются. Тон убежденности (и даже искренности) служит, по моему мнению, едва ли не чаще всего для того, чтобы убедить самого себя, а не своего собеседника, и, может быть, еще в большей степени для того, чтобы замещатьубеждения. В известном смысле именно для замещения отсутствующей истины. Это я чувствую очень ясно».
Подобного рода тихий анархизм вызывает у меня большую симпатию. Вообще говоря, возвращаясь ко всему тому, что уже было мною высказано, я чувствую, что слишком акцентировал элемент расчета.
В действительности отношение здесь диалектическое – между расчетом, применением его и, с другой стороны, непрерывной корректировкой, или, лучше сказать: веселым, то планомерным, то яростным разрушением всяких расчетов.
Художником в наибольшей степени бываешь тогда, когда не знаешь, что делаешь. – Это положение наилучшим образом согласуется для меня с требованием абсолютного самообладания: ибо я ведь обязан – так или иначе – но за все, что я делаю – быть в ответе.
Итоговый счет называется форма.
В предыдущем изложении меня смущает, пожалуй, только то обстоятельство, что все выглядит так правильно, стройно, почти добропорядочно.
Потому что искусство не может быть добропорядочным; как только установлен порядок, в него всегда врезается молния и все разрушает.
Искусство – это даже нельзя назвать дискурсом.
Даже если я хочу или хотел бы выстроить дискурс: то, что в моих вещах является искусством, это и есть как раз то, что взрывает дискурс. Или же скажем так: То, что мне интересно в искусстве, не есть дискурс.
Ненавижу сектантов. Почему? Потому что они устанавливают правила, которых необходимо придерживаться.
Плевать мне на правила, я ведь знаю, что самое важное в том, чтобы их нарушать.
Вот почему мне так нужны правила: чтобы нарушать их.Причем, когда я говорю о правилах, я имею в виду не правила, установленные кем-то другим, а мои собственные расчеты.
Если уж пошел такой резкий тон: Есть известные типы, которые кажутся мне смешными именно потому, что они верят, будто бы искусству можно предписать готовые решения. Как если бы каждый из нас не должен был находить только свои собственные!
Тот, кому они интересны, эти отлитые в медь «решения» под покровом художества, – сам во всем виноват.
В разряд «сектантов» входят для меня и некоторые формалисты.
«Часто случается, что помогает то, что было ошибкой». Вот весьма любезное моему сердцу правило, которому я всегда старался следовать.
Говоря конкретно, это вот что: Когда работаешь, надо делать противоположное тому, что собирался. Или что-то такое, за что в настоящий момент еще не можешь нести ответственность. Идти «по следу». – Что такое след?
Нечто инстинктивное, случайное, проблематичное, темное.
Существует поэтика, рекомендующая преподносить самому себе сюрпризы, содержанием которых являются твои мысли, чувства, короче, твои собственные возможности – брось себе вызов, подвергни себя психическому риску, опасности обнаружить такую правду, написать такие слова, которые могут тебя уничтожить: такая поэтика мне и нравится.
Мысль эта связана с тем, что говорилось вначале: «Думай так, чтобы не играть в мышление, а думать по-настоящему, то есть жертвуя всякой уверенностью».
Жертвовать всякой уверенностью – все ставить на карту: Если ты художник, то поставь на карту все.
Я думаю, в искусстве должна быть прямота.(Это связано со значением слова показывать. —Искусство нам нечто показывает.)
«Я хотел бы вонзить в твое сердце неслыханность мира как нож», – что-то в этом роде я написал еще много лет тому назад.
«Старайтесь найти в книге такие места, с которыми вы знаете, что делать. Традиционный способ чтения и письма больше не существует. Наступила не смерть книги, а эра нового чтения. Книги не содержат ничего, что надо было бы понимать, но много такого, с чем можно что-нибудь сделать. Книга должна представлять собою единый механизм с чем-то другим, она должна быть маленьким инструментом, работающим вне себя. Не репрезентация мира и не выявление его смысловой структуры. Книга не растет как дерево из одного корня, но является частью ризомы, широко распластанным корневищем – для того читателя, которому она подходит. Комбинации, пермутации и способы применения никогда не бывают имманентными книге, они определяются ее связью с тем или иным, что лежит вне ее. Так что берите, что вам угодно». – О таких вещах шла речь у Делеза/Гваттари, и я, параллельно с ними, развивал тогда же сходные представления. Это было в начале восьмидесятых.
Мысль об инструментальном характере слов, предложений, вообще литературы была мне знакома из Витгенштейна. А пафос всеобщей человеческой солидарности, которая каждому сохраняет его свободу, это коренилось глубоко в моей душе, это шло, если можно так выразиться, изнутри меня самого.
Понятие ризомы, или корневища, с множеством образующих его маленьких боковых побегов – это с одной стороны, с другой – художественный bric-a-brac: С точки зрения тактики художника это означает: Нет ничего, что было бы для меня слишком ничтожным; все может идти в дело!
Определение открытого произведения искусства могло бы звучать так: Как художнику мне годится любой материал, чтобы выразить в нем себя. Состоявшееся произведение – это матрица многих вещей. Отсюда следует: старайся писать ясно и точно, но ничего не проповедуй. Имманентность – смерть мысли. И в особенности это важно для читателя: Не позволяй себя убаюкать! Оставайся самим собой – и распахни глаза! Думай!
Что касается Делеза/Гваттари: На самом деле у меня с самого начала были сомнения в правильности, я хочу сказать, в законченности их теории. – Автор может, конечно, попытаться поставить свою власть на службу открытой информации (понятие информации я беру в самом широком смысле), но все же его присутствие в тексте всегда заметно. Он присутствует со своими пристрастиями, идиосинкразиями, суждениями, предрассудками, со своей ограниченностью и своими прозрениями – бог, отступивший в тень, на задний план, но то и дело обнаруживающий себя в выборе акцентов, образцов, в той игре, которая идет между ними.
Открытая конструкция не решает проблему власти, определяющую отношения между теми, кто владеет языком и теми, кто им не владеет; Это всего лишь шаг в верном направлении.
Принцип ризомы слишком часто низводится до оправдания постмодернистской пестроты смыслов. Тяга к свободе от единообразия соприкасается при этом с интересами промышленности, которая непрерывно производит все новые товары и, обещая свободу, навязывает их людям, мужчинам и женщинам.
Книги, которые я пишу,всегда представляют собой смысловые структуры, и любая книга не может быть ничем иным: это не зависит от нашего стремления к противоположному результату, от нашего сознания, что мы должны к нему стремиться.
В мире, где отношения между людьми определяет власть, художник не должен отказываться от власти. Он обязан, нравится это ему или нет, взять власть и что-то предпринять.
Впрочем, можно позволить себебыть мечтателем или мазохистом.
Под конец не могу удержаться от короткой филиппики. Мне хочется связать ее с известным изречением Пикассо: Когда его спросили, в чем секрет его искусства, он ответил: «Я не ищу, я нахожу». – Думается, что моя привычка все сказанное сопровождать возражениями и оговорками не дает оснований упрекать меня в робости и нерешительности. Напротив: Я держусь того мнения, что тот, кто сомневается всегда,вообще не сомневается. Он просто нашел удобную позицию.
Всякая книга – это лестница.
ADHOC к части V:
1. Фантазия – это прежде всего: Случай.
«Там, где было Я, должно быть ОНО», – так звучит давний (мой) девиз анархиста. Подразумевалась под этим в первую очередь свобода от плоской рассудочности, прорыв к духовности, к остроте атакующей мысли.
Анархическое право быть ленивым всегда понималось мною как право самому определять, в чем твоя «работа».
Я – работник.
Компромисс, как бы ни был он полезен в области социальной жизни, для мысли вреден, она мутнеет и путается.
2. Название моей книги Поток мысли, текущий сквозь мозг – тожепрограмма.
3. По поводу Витгенштейна и моего романа Млечный путь:
«Проблематичным кажется мне у Витгенштейна внеисторический способ мышления: Он берет жизнь с ее формами как нечто заданное, статическое: а между тем сегодня мир уже другой, не вчерашний (или это мы хотим, чтобы он менялся). Возникает вопрос, не определяется ли достоинство человека его надеждами, можно ли сохранить достоинство, не надеясь».
Во всяком случае в период работы над Млечным путемя стремился к созданию открытых конструкций (впрочем, даже мои ранние притчи не были закрытыми произведениями). Мне хотелось, чтобы книга развивалась легко и свободно, как растение, чтобы она не была результатом атлетического напряжения творческих сил, не рождалась, как рождаются животные, как рождаются «произведения».
Я широко пользовался приемом монтажа, не стесняясь включать самый разнообразный материал; различие между своими чужимстало относительным, почти стерлось: самость начала превращаться в море, становится такой, какова она и есть в действительности; море было – чтобы еще раз вызвать отдаленное воспоминание о Кафке – оттаявшее, теплое, хранящее в себе все богатство видов.
«Превращение чужого в свое, присвоение есть непрекращающаяся работа духа» (Новалис).
Приспособление к другому и приспосабливание другого к себе – в этом и заключается жизнь всей природы.
4. Применительно к политике в узком смысле: Выбирай подходящее средство.
VI
С нынешней моей точки зрения было ужасным кокетством постоянно подчеркивать, как я делал это в моих ранних поэтологических опытах, будто бы в моей работе меня интересует преимущественно чтои очень мало интересует как.
В беседе с Вильгельмом Шварцем, записанной несколько лет тому назад в Канаде, я даже заносчиво говорил о том, что мои произведения можно было бы издать в сокращенном виде, изготовить, так сказать, A shorter Peter Rosei, что, конечно, полнейшая чепуха.
Я всегда стремился подчеркнуть первенствующее значение жизни, и это часто заставляло меня вступать в противоречие с самим собой – не говоря уж об «авторитетах».
В действительности идея неотделима от техники, техники исполнения, создания конструкций.
Привожу две цитаты из своих прежних рассуждений на литературные темы: «Интерес вызывает, следовательно, не то, как написано, а только что написано. На что направлен взгляд. Куда устремишь ты свои глаза…»
«Форма возникает сама собой, ибо уже само то, о чем хотят сказать, обладает формой. Или в заостренной формулировке: Владение формой существенно для искусства, для художника это всегда будет лишь второстепенной проблемой…»
Похоже, я просто поворачивал проблему другой стороной, подчеркивал примат жизни.
Правда, тот, кто настаивает на примате жизни, неизбежно должен прийти к «реальной жизни», а следовательно, к политике.
Политика художника – это, в сущности, его произведения. – Из чего, разумеется, не следует, что – будучи членом того или иного сообщества – он не может и не должен принимать участие в политической жизни.
То, что действительно придает писательству интерес, – это порой очень трудное, порой возникающее как бы само собой, соответствие между идеей и формой – причем под идеейя подразумеваю расчет как в мельчайших, почти мелочных деталях, так и в самых широких, всеохватывающих обобщениях, и к тому же еще и то, «чего нельзя знать».
Как говорит Музиль, великий конструктор и мыслитель: «В сферу поэтического входит существенной частью то, чего не знаешь; почтительный трепет перед этим. Готовое мировоззрение не выносит поэзию. Оно отводит ей роль угодливой фронтовой прессы, видит в ней отдел лизоблюдства. – Это относится ко всем видам так называемого готового мировоззрения».
Музиль, как и я, принадлежал к разряду писателей «небезоговорочно рассудочных»:
«Очевидно, что истина относительна не только по горизонтали, поскольку самые разные вещи могут считаться истинными одновременно, но и по вертикали, в глубинном измерении. Истиной реализма было достоверное изображение поверхности. Попытка измерить глубину приводит к вопросу, как вообще соотнесены между собой поэзия и правда, как возможен этот удивительный брак.
:С какой целью поэзия использует познание? В какой степени она зависит от истины? Как она с нею обращается? Что она вообще такое, если она не фотография, не фантазия, не игра, не иллюзия? Трудно или даже невозможно дать на это удовлетворительный ответ. Целый ряд вопросов, каждый интересен, ни один не имеет окончательного решения. Несколько раз я делал на эту тему наброски, но они не претендуют на полноту. Вероятно, уместным было бы сосуществование нескольких равноправных теорий.
Я даже не уверен, что правильно передам свою личную точку зрения, если скажу: Поэзия имеет своим заданием изображать не то, что есть, а то, что должно быть: или то, что могло бы быть, как частичный ответ на то, что должно быть».
Вы видите: Музиль точно формулирует здесь предварительную стадию всех тех размышлений, которые я стараюсь развернуть перед вами: Относительность истины; разнообразие теорий как следствие этого; в формальном отношении это ведет к ризоматическому построению или к чему-то подобному.
Смысл как пена на волнах бессмыслицы, было сказано мною выше, но иной раз бессмыслица превращается в смысл; объяснить этот процесс проще всего на языке энергетики.
Сюда, в частности, относится: Заблуждение как генератор новых миров. Это подходит ко всему, от механизма наследственности до самых утонченных конструкций. – «Ошибка» появляется часто post festum в качестве необходимогообходного пути.
Что следует из этого для поэтики, я уже изложил.
Мысль о том, что искусство имеет «задачу», как не задумываясь постулировал ее Музиль, я не разделяю. Разве что считать, что когда художник произвольно выбирает ту или иную систему расчета, то этим он определяет «задачу». Или же эту «задачу» можно конструировать, исходя из бесчисленных факторов, от которых художник зависит: культурных, социальных, экономических, исторических.
Все, что можно требовать от художника, это, говоря попросту, чтобы он выражал свои мысли ясно и отчетливо. Настолько, насколько это возможно. И случается так, что писать можно только чертовски неясно и неотчетливо.
Искусство коренится и движется, как мне представляется, также и в области предчувствий; это пространство в преддверии мышления и знания, пространство, в котором еще возможно чудесное.
Я не ревнитель веры, но бывает так, что вера оказывается нашим первым и последним адресом.
Еще раз Музиль: «Поэзия имеет своим заданием изображать не то, что есть, а то, что должно быть; или то, что могло бы быть, как частичный ответ на то, что должно быть» – такова однаиз формул политической ориентации в искусстве.
Какова вторая? – «Искусство ориентировано на реальность и всегда находится в поисках реальности. Ибо искусство есть часть того всеобщего стремления к ценности, которое именуется культурой и также является ничем иным, как поисками реальности, а тем самым постижением реальности». – Брох.
Мысль Броха мне очень симпатична, близка мне.
Когда, например, ученый, скажем, литературовед, астроном или химик сидит напротив политика или какого-нибудь другого обывателя, то последний думает, что он хорошо знает, чем занимается первый. Ученый, ну, он занимается «наукой», он проводит исследования и обучает тому, что он сам исследовал или чему сам научился. О том, что такого рода занятия общественно полезны, в обществе существует согласие.
Нечасто встретишь, однако, человека, который усматривал бы стратегию исследования и освоения действительности – в искусстве. С другой стороны, едва ли кто-нибудь стал бы отрицать, что искусство приносит общественную пользу самого разного рода: помогает преодолевать жизненные трудности, развлекает, критически оценивает жизнь – вот те основные функции, которые приписываются искусству.
Тот факт, что наряду с тем, что именуется религией, и с тем, что именуется наукой, искусство предоставляет человеку, может быть, наилучшую возможность удостовериться в существовании самого себя и всего мира, – вот об этом мало кто знает.
Когда приглядываешься к современному обществу, то сразу же понимаешь, что религиозная мотивировка со всеми заключенными в ней возможностями – я думаю в первую очередь о возможности окрыляющей утопии – почти полностью утратила свое значение. Смотри в какую хочешь сторону: В области традиционных религий положение такое же, как и в области политической идеологии: распад и пустота; и даже радость освобождения от веры в те или иные системы уже сменилась чувством глухой неудовлетворенности.
Что касается роли научного знания, то оно – я следую здесь преимущественно теории Пауля Фейерабенда – завоевало себе монополию на все, что имеет отношение к разуму; можно почти поверить, что наука и есть разум.
«Научный вокабуляр пропитан навязчивым запахом, вызывающим неприятные ощущения: такую неприязнь испытываешь к помощнику, который уверен, что он незаменим. Не в том дело, что он бесполезен, напротив: претит только его претензия на абсолютную компетентность», – писал я еще в 1981 году. К этому следует прибавить еще вот что: Начиная с XIX века наука и государство заключили такой прочный союз, что, придав мысли парадоксальную остроту, можно было бы утверждать: наука является единственной религией нашего времени. Ее главная догма, будто бы научное постижение мира есть постижение мира как таковое, почти никем не подвергается сомнению, и, поскольку, она во всех отношениях могущественна, ее чрезвычайно трудно оспаривать.
За всем этим легко забывается, что, как я писал уже в цитированном выше эссе, истинность есть категория, включающая в себя заблуждение. Вследствие того, что доминирующую роль в науке играет аспект технический – противовесом было бы спекулятивное мышление – вследствие такой доминанты еще более усиливается вредная тенденция принимать Status quo за истину в последней инстанции и замыкать сознание в сфере технически осуществимого.
Теперь я ввожу в фокус моих размышлений социальные процессы, протекающие параллельно вышеописанному: Функционализм, являющийся, как представляется, свойством неизбежного в массовых демократиях бюрократического аппарата, находит себе идеального партнера в том другом функционализме, который насаждается рынком и законами рынка и все глубже проникает во все поры социального организма. Прибавим к этому, что ведь и техника не предполагает ничего иного, кроме как обеспечения гладко, без помех протекающего процесса. Следствием является то, что альфой и омегой всей человеческой деятельности видится функциональность, то есть ее значение всецело определяется экономической эффективностью и способностью как можно быстрее приносить доход и пользу.
Искусство всему этому, к сожалению, противоречит: С его принципиальной установкой на индивидуальное переживание, чувство, мышление, искусство прямо-таки своевольно отстаивает свое право на заблуждение. Оно не приемлет стандартов и, если не отрицает их прямо, то по крайней мере ведет с ними ироническую игру. Бюрократия, наука и техника корпоративны – это значит, они опираются на некий, по меньшей мере кажущийся обязательным канонический свод правил. Искусство, в отличие от этого, индивидуально; каждый художник волен ex definitione находить свои собственные правила. Искусство заботится не об устранении помех, боже упаси, а об истине, о том, «что суть»; именно в том смысле, что только так и можно найти то, что должно быть.
С точки зрения эффективности имеется еще одно различие, которое дополнительно дискриминирует искусство: В каких случаях произведение искусства является общественно полезным и является ли оно таковым вообще, это определяется законами и условиями исторического контекста, которые едва ли поддаются анализу. В противоположность этому наука и техника, взаимодействующие с экономическими и политическими механизмами, ведут игру по заранее заданным правилам: Они «знают», каким должен быть ответ поставленной ими задачи, и им остается только найти верное решение.
Музиль: «Как-то я назвал поэзию наукой жизни в примерах и образцах. Exempla docent. Это, пожалуй, чересчур. Она дает только фрагменты учения о жизни». – Отсюда ведет путь к образу ризомы и к инструментальности искусства одновременно.
Я бы сказал, что искусство изобретает игры, предоставляя людям играть и доигрывать по заданному образцу.
Играя, обучаешься всему.
Не следует забывать, что ты не пишешь книгу, а хочешь нечто понять.
Идея A shorter Peter Rosei была навеяна разбитыми греческими и римскими скульптурами, торсами, которые все еще доступны пониманию. И в этом смысле идея была правильна. – Расчет, встроенный в художественное произведение, должен быть настолько точен, чтобы обнаруживать себя в каждой его части, в любом обломке целого.
Примечательно, что и Музиль говорит об «Образном мышлении»: за этим стоит представление, что мир состоит из образов, из структур, образцов или контекстов, которые могут быть выделены на некоем общем фоне.
Известное высказывание Юрия Лотмана сводит весь процесс к кратчайшей формуле: «Искусство познает жизнь, пользуясь средствами для ее отражения».
Процесс, как я его понимаю, еще раз об этом: Как художник я пользуюсь средствами, завещанными традицией или изобретенными мною самим; сюда относится рифма или, к примеру, план романа; любая иконография точно так же, как и музыкальность; любая теория, к какой бы области науки она ни относилась и т. д. – Применение этих средств в их предопределенной тем или иным расчетом форме заставляет меня, если я отношусь к искусству и к жизни серьезно, прорабатывать весь доступный мне жизненный материал в надежде, что, пользуясь моими средствами, я натолкнусь на те образы, формы или образцы, которые идут от самой жизни и – быть может – являют собою жизнь.
Я знаю, что никогда не смогу провести четкую границу между собою и жизнью, ведь и я тоже только ее часть. В ходе работы я становлюсь материалом для себя самого.
Я думаю, что именно в силу своей субъективности искусство подрывает господство любого строя жизни: Оно неизменно пытается – своими средствами – воздействовать оттуда, где порядок еще не установился.
И это тоже я хотел выразить, когда говорил: Поставь на карту все!
Конечно же, я каждый раз, при каждом новом расчете, с каждой новой работой делаю попытку – подвести итог миру, справиться с жизнью; но потом выясняется, что это снова не удалось, что я далеко еще не справился.
Я пою, некак птица поет.
Когда, в ходе напряженных систематических усилий, сопровождаемых свободой созерцания, в художественном произведении на мгновение вспыхивает материал жизни – и ты точно знаешь, что это мгновение то самое! – вот тогда ты у цели.








