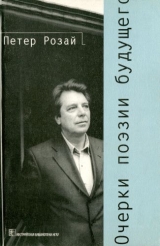
Текст книги "Очерки поэзии будущего"
Автор книги: Петер Розай
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
ADHOC к части II:
1. Я испытываю глубокую антипатию к бумагомаранию. И вместе с тем должен признать: я не знаю ничего более возвышающего, великолепного, прекрасного, чем – чем что?
Если попытаться дать «этому», этой одной написанной странице имя, то в голову сразу же приходит понятие, введенное Хоркгеймером: тоска по совершенно иному; или, говоря проще: Энтузиазм.
«Я признаю, что дважды два – четыре – вещь превосходная, – говорит Достоевский, но если уж мы начали восхищаться, то я должен все же заметить, что дважды два – пять тоже звучит не так плохо».
Когда мы всматриваемся в мир или – лучше сказать – чувствуем себя включенными в мир, то, с одной стороны, мы хотели бы отдаться миру, а это означает, постигнуть его как целое, или же – им завладеть; а это значит, внести в него порядок.
Эти два желания друг другу противоположны.
Мы ясно чувствуем, что мир торжествует над нашими построениями, что он – совсем другой;и что мы, когда пытаемся понять его как целое во всех его противоречиях и несообразностях, попросту теряем себя в нем.
(Есть ли уже что-нибудь такое, что ты безжалостно разрушил? – В особенности именно то, что ты сам создал, чего достиг, что придавало тебе уверенность.)
Можно сказать: Человек старается всеми силами, своей мыслью, трудом и жизнью – описать процесс, совершающийся между двумя полюсами – созданием конструкции и деконструкцией; процесс качания на штормовой волне.
И в образе качания, в глубине его, содержится, быть может, залетная надежда на: развитие.
2. Думается, что моя неспособность думать по прямой линии (в сущности, не столько неспособность, сколько нежелание преждевременнодобиться результатов, не говоря уже о конечномрезультате), эта моя склонность к предварительности, промежуточным стадиям мышления отражает состояние исторической эпохи. Ведь у истории тоже есть время снимать урожай, а есть время сажать семена. А между ними тянется время созревания.
Другой вопрос, также имеющий к этому отношение, это вопрос о дикаряхв истории цивилизации. – Поскольку человечество и его мудрецы также представляют собою, как всякое другое явление природы, предварительный результат эволюционного процесса, в глубинной структуре современного человека переплетаются все черты характера, свойственные человеческому существу на различных стадиях его развития. Очевидно, что художник мобилизует весьэтот потенциал. Очевидно также, что такая конфигурация мысли вызывает множество вопросов и что анализ произведений искусства под этим углом зрения весьма плодотворен.
3. Исходной точкой и главной движущей силой в работе художника является, насколько я могу судить, полная неустойчивость и лабильность душевной сферы, тесно соприкасающаяся с областью явлений физики и физиологии, со всем этим хозяйством кислот и ферментов, даже с химическими процессами в клетках.
III
Существует индуктивное мышление, которое не верит в возможность проникновения в тайну мира, в возможность ее постижения. Строго говоря, такое мышление и есть единственно истинное, ибо может ли мысль проникнуть в тайну мира…
Мы не знаем и никогда не узнаем, что такое наша мысль, в чем она коренится, что есть мир, что есть мы.
Псевдоиндукция у Фрейда: Он только притворяется, будто бы не знает. Но ключ у него всегда наготове. Фокусы, мошенничество.
Личность формируется в сообществе?
Не подлежит сомнению, что некоторые из наших способностей, наших «мускулов», мы можем испробовать и развить только в окружении других, в совместном бытии. – Вопрос в целом (проблема) должен ставиться скорее в связи с дискуссией о биологическом базисе человека, а вовсе не в сфере легко манипулируемой моральной надстройки.
Искреннее чувство окружено в наших глазах неким сиянием, которое мы склонны принимать за правду. Это факт. И с ним следует считаться, когда вступаешь в общение с людьми.
Это сияние есть монета, которая пользуется не слишком хорошей, но и не слишком дурной славой.
Все, что я действительно чувствую (говорит персонаж одного романа), это всего лишь постепенное, идущее толчками погружение в обыденность; а на дне обыденности – смерть.
Каллиграфия – это сочетание красоты и смысла в знаках.
Китайская каллиграфия представляет собою образ, причем он имеет абсолютно конкретный смысл: это образ безмятежного мировоззрения, исповедуемого обществом, которое не является для самого себя проблемой.
Мудрость привлекательна, с одной стороны, тем, что она рассматривается как социальная ценность, высоко ценится обществом, с другой стороны, потому, что обещает покой и ясность духа.
То, что мы называем «ходом вещей», есть абсолютная имманентность.
Чем больше мы размышляем, тем больше мы обогащаемся переживаниями.
Почему не говорят «смертельно счастлив», а только «до смерти несчастен»?
Не исключено, что Христос имел сына от Марии Магдалины: а от него произошел род художников.
(мифология)
Сильного спор ослабляет, более слабому же, наоборот, придает силы.
Цепи, которые люди носят на себе бесшумно – чтобы никто не заметил.
Я приветствую все, что вращается вокруг оси демократизма (свобода, равенство, братство), потому что я все это считаю желательным. Мои убеждения основываются, с одной стороны, на представлениях о человеческом достоинстве, с другой – на принципе сострадания (солидарности).
Любое напряжение человеческих сил, то есть труд, способствует утверждению истины: или скажем проще: реальности. Усилия, предпринимаемые во имя этой истины = реальности, оправданы до тех пор, пока она не вредит другому (или может повредить).
В последней части предыдущего предложения заключается огромный риск: и тот, кто трудится, должен ему себя подвергать.
Мышление является наиболее универсальным родом деятельности, поскольку мысль заключает в себе почти бесконечные возможности.
Мысль, образно говоря, это орел, сидящий на краю утеса. Подожди, пока он взлетит!
Для познающей мысли ничто не бывает слишком глупым, слишком банальным: она «все умеет использовать!»
Возможно, люди просто заряжают «мир» попеременно то страхом, то радостью, то еще какой-нибудь из возможных эмоций: так возникают различные «стили». (Стиль моих заметок я бы назвал: дезангажированностью.)
Исследуй себя внутри или «снаружи», это совершенно безразлично: Опыт интроспекции будет для тебя такой же хорошей школой, как и любой другой опыт.
Я предпринимаю экспедиции в область сознания (в своей работе).
Моя «этнография» заходит так далеко, что на какое-то время я сам становлюсь то негром, то индейцем, то безумцем.
У меня сознание исследователя.
Исследователь сидит в негритянской хижине с аборигенами и руками ест поджаренные в масле гусеницы: Кто он? Гость? Ученый? Гурман? (смешанное сознание; shift).
То, что меня интересует, не может быть ничем иным, кроме как богатством структур, глубиной мира.
Множество структур, и как они между собой связаны.
В поисках «правды» я должен вместе с тем помнить, что имеется факт страдания: и этот факт заставляет меня (временами) высказываться на темы политики. Ибо страдание присутствует в настоящем и требует немедленной помощи.
Факт страдания в известном смысле мешает мне, позволю себе насмешку, достичь своего рода мудрости.
Во внутреннем мире людей (если он вообще существует, внутренний мир) все выглядит приблизительно как carceri Пиранези: Я имею сейчас в виду не жуткое в этих рисунках, а только сложное и запутанное: Тут лестница, ведущая наверх, там – уводящая в глубину галерея, тут стоят колонны, там – дыра в полу и снова лестница вниз и т. п.
Это я и хотел бы знать – и показать.
С размышлениями дело обстоит так: Чем дольше думаешь, тем менее отчетливой становится твоя картина мира, с которой ты начал, точнее: она в общем сохраняется, но как бы преодолевается во все стороны, вправо и влево, вверх и вниз, образ разрастается, и от этого первоначальная картина выглядит в конце концов как маленькое пятно на картине гораздо большего размера; это пятно иногда еще можно отыскать, если искать с любовью.
«Событие», то, что происходит, оформляется в различных структурах одновременно: социальных, исторических, психологических и т. д.
Следует ясно сознавать, что это общепринятое распределение по структурам осуществляется более или менее произвольно (возможно, что тут царит полный произвол).
Глядя на мир, мы всегда схватываем только мгновенные состояния бесконечно совершающегося процесса.
Структура характеризуется двумя особенностями: Переплетения, ее составляющие, сливаются по краям с неисчерпаемостью мира. – Частицы самой структуры следует представлять себе постоянно движущимися, состояние – всегда переходное.
Элементы структуры – это просто ее представители.
Элементами структуры являются первичные и вторичные показания чувств. То, что мы называем образованием, состоит из вторичных показаний чувств.
Искусство состоит из вторичных показаний чувств (для внешнего наблюдателя).
Надо представить себе речной поток, в котором частицы структур, эти текстуры или сплетения, пронизывают движущиеся пространственные образования, например волны.
«Воды» мирового потока состоят из частиц, и мы вписываем их попеременно в различные структуры, а потом – в этом переплетенном состоянии – интерпретируем в качестве образцов.
Динамическое взаимоналожение образов: вот что такое рассказ.
Но чем вызывается «появление образов»? – Вероятно, это дестабилизация заложенных в сознании (врожденных, воспринятых в процессе воспитания) структур (накопленных): Тут встречаются содержательные элементы и компоненты образов, до этого строго разграниченные: поэтому образы «высвечиваются». В особенности волнует нас разрушение полярных противоположностей – или, если придать этому положительный смысл: соединение того, что до сих пор мы считали несоединимым (вода и пламя, красное и зеленое, доброе и злое).
Отложившаяся в сознании структура характеризуется, вероятно, внутренним иерархическим членением: Так, имеются «сильные» и «слабые» помехи, элементы сопротивления, элементы неравномерности, которые стремятся к выравниванию, к разрядке напряжения, к перераспределению.
Или, может быть, эта предположительная иерархия тоже всего лишь материальный образ языковых и мыслительных моделей? – Вполне вероятно.
Записные книжки и заметки всегда сопровождали мою работу над поэтическими произведениями. – Размышления, в них содержащиеся, часто касаются взаимосвязи языка и мышления, языка, мышления и мира. Номенклатура при этом изменчива, понятия лишены твердого ядра, имеют нечеткие, расплывчатые границы.
«Человек стоит у темной воды; на воде плавают три деревянных кубика: первый кубик – это мир, второй мышление, третий – язык. Кубики не лежат на воде неподвижно: они качаются и под воздействием каких-то неведомых человеку течений расходятся все дальше. В руках у человека только длинный прут, и с его помощью он пытается подогнать кубики друг к другу, удержать их вместе».
Думается: То, что мы именуем миром, имеет продолжение в нас самих, это – те же самые структуры, фибры, частицы – все, что мы можем себе представить, что мы хотим упорядочить.
Вчерашний мир вписан в ДНК новых поколений; когда человек этого нового поколения начинает свой рассказ, внутреннее и внешнее в нем уже перемешаны, и это смешение не прекратится никогда.
Основой моих размышлений всегда было представление о «заполненном» мире, в котором, как можно об этом прочитать у «древних», нет пустоты.
Мир организован как непрерывность, континуум, то есть: Там, где есть холодное, есть и горячее, где есть тяжелое, есть и легкое и т. д. Цветовой спектр также может служить примером.
Непрерывная организация и соответственно наше представление о ней – с этой платонической точки зрения одно отражает другое – для художника она очень важна: Он может без труда дополнить недостающие частив своем воображении, исследуя пространство вдоль образцов континуумов.
«Рационалистическое искусство? Не приведи бог. Лучше уж так: Наше «Я» есть только кристаллическая решетка, трансформирующая мир в процессе его восприятия. Гора, на которую ты смотришь, уходит в глубь земли, образует подземную пещеру. Подножие горы отражено в водах горного озера». – Так я писал лет пятнадцать назад.
Важно, чтобы представление об универсальных законах – или, на моем языке: о всепроникающих структурах – не вступало в противоречие с представлением о мире, состоящем из фигур.
Прежде так глубоко мне ненавистное, потому что я со всей искренностью ненавидел самого себя, то, что называют миром, устроено, как понимаю я сегодня, в форме фигур.
Фигура: это означает просто организационную единицу. Посредством акциденции (их может быть и несколько) то или иное единство выделяется из своего окружения, с которым в остальном оно связано безгранично действующими законами или структурными образцами.
Это можно представить себе в виде таких картинок для детей, где те или иные формы надо раскрасить так, чтобы одинаковые краски не оказались по соседству – то есть контур (в нашем размышлении: фигура) останется ненарушенным.
С представлением о фигуре тотчас же ассоциируется представление о компьютере, обрабатывающем введенную программу, причем различие между функциями (Hardware) и программой (Software) имеет лишь временной и инструментальный, но не сущностный характер.
Один из аспектов всякой организации состоит в том, что она поддается усовершенствованию, оптимизации лишь до определенного предела. Достигнув этого предела совершенства, она, во всяком случае потенциально, должна начать саморазрушаться, распадаться на отдельные элементы. Это верно для цветка, как и для государства, для произведения искусства, как и для социального организма, для универсума, как и для индивида.
При определенной степени напряжения дальнейшая оптимизация ведет к распаду, или, если формулировать иначе, распад становится единственно возможной формой усовершенствования.
В связи с этим мне хотелось бы еще коротко обрисовать мои взгляды на то, как функционирует наше так называемое «Я»: Наша «компьютерная» программа, приобретенная путем опыта, преобразуется отчасти в систему функций, которые – через своего рода обратную связь – гарантируют управление будущим опытом и в особенности способами его приобретения в специфической, узнаваемой форме. «Я» есть воспоминание, следовательно, знание, в том числе специально операциональные приемы, которые формируются и обретают известную устойчивость также путем обучения и опыта.
ADHOC к части III:
1. Если одинимпульс в том, чтобы творить, в желании быть одному, то другой, противоположный – соединить себя со всем – проистекает из опыта одиночества, из его холодной и пустой глубины.
Когда я говорю: Мой импульс – это чаще всего всеобъемлющая человечность, или сочувствие, это звучит как пустая фраза. Но, может быть, это звучит как пустая фраза не потому, что в действительности не так, а потому, что никто не может этого услышать.
2. Конечно, истина есть наипервейшая ценность, к которой стремится художник. Это устремление определяет для него все.
Красота – это естественное одеяние, в котором является истина.
И если истина невыносима, то единственный выход – обучиться именно такойкрасоте.
Воля к добру проистекает из ощущения раскола между истиной и красотой.
Отношение между представлением и действительным миром в произведении искусства (и вообще) строится как игра, подчиненная строжайшим правилам: но природы игровых костей игроки не знают.
3. «You don't understand anything, if you understand it only in one way», – говорит Минский (или нечто в этом роде). – Многозначный ответ, ответ «богатый» – это во всех случаях ответ наиболее правильный.
4. Господство реализма, определенного типа реализма, назовем его: тавтологическим реализмом, каков он, в частности, в сфере киноискусства и телевидения, означает совершенно особую блокаду: Связь между чувственной данностью и расчетом превращается в этом случае в одноколейку, в автобан, поглотивший все возможные ответвления и проселочные дороги.
Когда какой-нибудь тип расчета господствует относительно безраздельно, в сознании людей его вскоре окружает аура веры. Расчет хитростью завоевывает себе право представлять истину.
Бросается в глаза, что концепт действительности, выдвинутый реализмом этого типа, с его однозначностью в том, что касается персонажей, пространства и времени, отнюдь не согласуется с результатами современного естествознания, напротив. Такая однозначность, хотя и небесполезная для существующего строя общественной жизни, нисколько не соответствует истинному пониманию мира. Этот тип расчета доминирует, видимо, не в последнюю очередь потому, что хорошо служит сохранению status quo. – Или, может быть, он утвердился как доминирующий (насаждался в качестве такового господствующими социальными группами), потому что он так прост и незатейлив?
В действительности демократия, преимущества которой мы ныне чувствуем, по крайней мере в богатых странах, проистекает не столько из господствующих методов управления, как они представлены в технике, в сфере рынка и бюрократии, сколько являются просто-напросто надстройкой, «языковой нормой» или, в лучшем случае, символом веры. Между применением реалистического концепта в средствах массовой информации и естественнонаучными представлениями, на которые ведь и опирается техника, пролегает глубокая трещина, пропасть.
5. Искусствоустанавливает связи и отношения между абстракциями всех степеней, от факта, данного в чувственном восприятии, до сложнейшего расчета; оно устанавливает их в рамках формы.Такой метод далек от «чистоты» (ведь он пользуется всем инструментарием, не признавая никакой специализации): но он функционирует, и мы это чувствуем – это значит, что, если произведение состоялось, оно говорит нам нечто, что мы еще не слышали и не знали.
IV
В моих книгах встречаются многочисленные чувственно-наглядные описания природы. О них, как и по поводу своей работы в целом, я могу только сказать, что они носят смешанный характер: С одной стороны, они выносят на поверхность материал сознания, а не описывают сознание извне, с другой стороны, повествование размышляет в известном смысле о себе самом и становится от этого параболой, то есть: как интенция эта параболичность присутствует с самого начала, но описания ландшафтов и лиц, которые в собственно параболическом рассказе выполняют лишь функцию аргумента, доказательства, у меня получают самостоятельное значение, становятся потоком, он уносит с собой все, и парабола выныривает из него лишь на какие-то мгновения. В моей прозе идет, таким образом, борьба между сознанием как таковым, которое материализуется в образах природы etc., и трактовкой этого сознания.
Это мое первое в узком смысле поэтологическое высказывание датируется 1974 годом и восходит к «Опыту о Штифтере».
Двадцать лет спустя, в своей речи по поводу присуждения мне премии имени Франца Кафки, одного из моих учителей, я вернулся к этому давнему высказыванию и формулировал иначе. Я говорил:
Я с самого начала любил жизнь больше, чем мой учитель Кафка, а именно в том смысле, что мне хотелось найти себя там, в живой жизни, в ее ситуациях, радостях и катастрофах: Я хотел жить, чтобы стать самим собой.
Для Кафки характерны слова, написанные им в письме к Максу Броду, где он жалуется на шум и свою крайнюю чувствительность к шуму: «Как я уже сказал, я должен сначала от этого отдохнуть – (т. е. от шума в доме), – пока же мне еще все мешает, иногда мне почти кажется, что это сама жизнь, то, что мне мешает: иначе отчего же я ощущаю все как помеху?»
Вот здесь и проходит линия границы между Кафкой и мною, вдоль нее шло мое освобождение от его влияния.
Мы объясняем жизнь; но жизнь идет вперед. Имеется значительный разрыв между конкретным фактом чувственного опыта или переживания и тем или иным планом или структурой, в которые мы этот факт включаем, чтобы понять.
Две цитаты на этутему:
«День яблочно-серых, летящих к морю облаков». Строка, погода и окружавшая его сцена слились в один аккорд. Слова! Разве дело в их окраске? Он дал словам разгореться и угаснуть, одному цвету за другим – золоту восхода, зелено-рыжему цвету яблочных садов, синеве волн, сероватости, окаймляющей руно облаков. Нет, дело не в окраске. Дело в строении и в равновесии самой фразы. Что же? Значит, для него ритмичный взлет и падение самих слов важнее, чем их связь со смыслом и с цветом? Или, будучи и близоруким, и робким, он упивался не столько пламенеющим, чувственным миром, как он отражается в призме многоцветного и многослойного языка, сколько созерцанием внутреннего мира личных эмоций, отраженного в совершенной, ясной и гибкой прозе?» (Джойс).
«Я сравнил это множество счастливых впечатлений друг с другом и установил, что одно было для них общим; в моих ощущениях они жили одновременно в настоящем и в далеком прошлом: например, звон тарелки, когда об нее ударяется вилка, или неровности обоев, или особенный аромат пирожного «Мадлен» в точности совпадали с их нынешними pendants и заставляли меня недоумевать, в каком же времени я сейчас нахожусь. Личность во мне, которая наслаждалась теми или иными впечатлениями в настоящий момент, наслаждалась в них тем, теми свойствами, которые тогда и теперь были одинаковыми: и эта личность существовала только потому, что благодаря процессу отождествления прошлого и настоящего она обретала для себя ту единственную среду, в которой она могла жить, то есть в известном смысле абсолютно вне времени» (Пруст).
Я всегда пытаюсь слить образ и идею воедино. Когда идея соединится с образом, художник чувствует, что теперь, говоря языком детской игры, становится «горячо».
Я хочу показывать– а не объяснять; или, как пишет Валери: вызвать впечатление, минуя скуку рассуждений.
Собственно говоря, мне хотелось построить свое выступление стереоскопически,по крайней мере попытаться вызвать у вас стереоскопическоепредставление о логических связях: Ибо таким образом вижу логические связи я сам. Иными словами, мне следовало бы развивать мысль и вести рассказ постоянно во всехнаправлениях. И эта поистине простая стратегия, королевский путь оказывается для меня невозможным или усложняется до невозможности только потому, что так несовершенна наша техника – техника записи и, конечно, еще нашего мышления!
Ведь должно же это в конечном счете получиться: соединение образа с идеей, сколь бы ни были сложны внутренние отношения между ними. Когда идея становится образом, в этот момент, важнейший и единственный, созерцание уже неотделимо от учения.
«Следует все упрощать насколько это возможно, но не больше того», – говорит Эйнштейн. К этому нечего добавить.
Противоречия, которые невозможно разрешить, следует принять, каковы они есть. То, что нерешенное существует, то, что имеется, во всяком случае на какой-то определенный момент, неразрешимое, – это нужно выдержать.
Истина всегда проста: об этом следует всегда помнить.
Хотя вначале я писал параболические тексты, мое главное желание тогда, как и сегодня, состояло в том, чтобы прояснить для себя положение дел и свое собственное / наше положение в мире: желание основное и наивное, смелое и безумное, граничащее с манией величия.
Миру свойственна сомнительная, временная стабильность. Ничего статического в нем нет, все только транзит.
Вся человеческая жизнь представляет собой проект.
Смысл и форма бесконечны.
Полярные противоположности, приводной механизм мира, примиряются в непрерывном пространстве, в континууме. – Если представить себе процессы как циркуляцию, перед глазами возникает картина потока, бурлящего от водоворотов.
Кто знал, как счастья день бежит,
Кто цену счастья знает,
Взгляни в ручей, где все дрожит
И, зыблясь, исчезает.
(Ленау)
Меланхолия видит в мировых процессах бренное и преходящее– и бывает такая меланхолия, которая видит глубоко и остро. Тогда как жажда жизни и отвага схватывают конструктивные возможности циркулирующих процессов. Ибо, развивая намеченный образ, мы можем представить себе, как из потока жизни и ее непреложностей поднимаются и врезаются в небеса сгустки смысла – как скульптуры из стекла и света.
Поток жизни стремится – через случайности эволюции, через учебу – ибо учится всё! – подняться на более высокий уровень; точнее: на другойуровень.
В жизни художника, применительно к его творческому пути, это означает непрерывную смену расчетов, художественных представлений; постоянную и неизбежную «правку», совершенствование.
Отсюда следует, что одно искусство может быть «лучше» другого. Но это не так: Один расчет дает одно, другой – другое. Оценке поддается лишь то, насколько осуществлен замысел, насколько воплощение соответствует плану. И существует еще связь между отдельными расчетами, связь по большей части генетически-органическая, то есть одно восходит к другому и вырастает из него.
Как говорится: искусство порождает искусство.
Но встречаются и парадоксальные решения, т. е. верх может одержать противоположное, причем без всяких разумных на то оснований.
Это относится, кстати сказать, и к смене культур. Смысл – это только гребешки пены на темных водах бессмыслицы.
Образом для этого вновь является играющий ребенок, который бросает камни в сторону небольшого углубления в земном шаре, – и замечает, что один камень ложится ближе, другой дальше; так родилась игра: одна из игр.
Роль случая и произвола в художественном творчестве неоспорима, нравится нам это или нет.
Игровой характер носит все, что мы предпринимаем, вся человеческая деятельность; многие обманывают себя, не желая этого сознавать.
От этого всякая власть становится еще могущественнее.
Мне совершенно ясно, что тогда, двадцать пять лет назад, у меня была иллюзия, будто бы все, что я вижу, чувствую и думаю, должно быть сводимо к символическим образам; они, эти символы, резко выделяются на диффузном фоне жизни. На фоне хаоса, который шевелится на заднем плане. И так вот – изобретая параболы – можно понять жизнь, думалось мне, и тем самым ее обуздать; а значит, отвоевать хотя бы чуточку покоя. Подлое желание?
Что касается воли к форме, как она свойственна искусству, то я подозреваю, что художник, когда он создает форму, воплощает мечту человечества о мире, об окончательной и наконец безмятежной уверенности в бытии.








