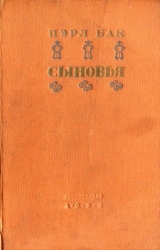
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Перл Бак
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
XV
Оба старшие брата Вана Тигра с искренним нетерпением ждали известия о том, удалась ли его попытка, но у каждого из братьев оно проявлялось по-своему. Ван Старший с тех пор, как повесился его сын, притворялся, что ему нет больше дела до младшего брата, и, вспоминая своего сына, горевал о нем. Жена его тоже горевала и находила утешение своему горю, попрекая мужа, и нередко замечала ему:
– Я с самого начала говорила, что не следует его отпускать. Я с самого начала говорила, что такой семье, как наша, не годится отдавать сына, да еще такого хорошего, в солдаты. Жизнь у них грубая и простая – я это и говорила.
Сначала Ван Старший был настолько неразумен, что отвечал ей:
– Ну, госпожа, почем же я мог знать, что ты этого не хочешь; наоборот, мне казалось, что ты охотно его посылаешь, тем более, что он шел не в простые солдаты, – брат мой возвысил бы и его, возвысившись сам.
Но госпожа твердо верила, что так она и раньше говорила, и негодующе закричала:
– Ты никогда не помнишь, что я говорю, оттого что постоянно думаешь о чем-то другом, – уж наверно о какой-нибудь женщине. А я говорила прямо, и не один раз, что ему не следует уезжать, да и кто такой твой брат? Простой солдат, больше ничего. Если бы ты меня послушал, наш сын и посейчас был бы жив и здоров, а он у нас был лучше других детей, и ему на роду было написано стать ученым. Но меня никогда не слушают в этом доме!
Она вздыхала, делая грустное лицо, а Ван Старший чувствовал себя неловко оттого, что вызвал такую бурю, бегал глазами по сторонам и молчал, надеясь, что гнев ее скорей пройдет сам собой. Правду сказать, жена его после смерти сына постоянно плакалась, что он был у нее лучше всех, а когда он был жив, бранила его, была им вечно недовольна и находила, что старший сын у нее куда лучше. А теперь и старший сын не мог ей ни в чем угодить, и потому умерший казался лучше. Был еще третий, горбатый сын, но о нем она перестала даже спрашивать, узнав, что ему нравится жить у Цветка Груши, куда он теперь совсем перебрался, и если речь заходила о нем, она говорила:
– Он слаб здоровьем, и деревенский воздух ему полезен.
Иногда она посылала подарок Цветку Груши в знак благодарности, какую-нибудь пустячную, совсем не нужную вещь: небольшую чашку, расписанную цветами, или дешевую материю, не из чистого шелка, но красивую на вид, а Цветок Груши не носила ярких одежд. Однако Цветок Груши всегда ее благодарила, каков бы ни был подарок, и посылала ей свежие яйца или какие-нибудь овощи, заботясь всегда о том, чтобы отдарить чем-нибудь и не остаться в долгу. Она брала материю и отдавала ее дурочке или шила пестрый халат или башмаки, чтобы позабавить бедняжку, а расписную чашку дарила горбуну, если она ему нравилась, а то и жене крестьянина, который жил вместе с ними в старом доме, если расписная посуда из города была той больше по вкусу, чем простая, синяя с белым. А Ван Средний по своему обыкновению выжидал вестей от младшего брата, тайком прислушиваясь повсюду к разговорам, и наконец до него дошли слухи, что главарь бандитской шайки к северу от их города убит новым молодым военачальником, но он не знал, верно ли, что этот военачальник – его брат. И он ждал, копя деньги к приходу братнина доверенного, осторожно сбывая с рук землю Вана Тигра, когда представлялся случай, а деньги отдавал в рост за хороший процент, и если удавалось обернуть их раза два, а то и больше, то об этом никто не знал, и эту прибыль он брал себе, считая ее справедливым вознаграждением за все хлопоты, которые нес ради брата; да и брату не было никакой обиды, потому что никто не сумел бы заключить для Вана Тигра сделку так выгодно, как заключал ее Ван Средний.
Но в тот день, когда человек с заячьей губой переступил порог его дома, Ван Средний едва мог дождаться рассказа и с непривычно приветливым лицом повел его к себе в комнату, сам налил ему чаю, и тогда верный человек рассказал все, что должен был передать, а Ван Средний слушал его, не проронив ни слова.
Человек с заячьей губой передал все верно и точно и закончил так, как приказал ему Ван Тигр:
– Твой брат, а мой генерал велит передать тебе, чтобы ты не торопился и не думал, что он дошел уже до вершины горы, – это только первая ступень, – он занимает небольшое место, а задумал покорить целые провинции.
Ван Средний спросил, затаив дыхание:
– Как ты думаешь: можно ли на него положиться и рискнуть ради него своими деньгами?
И верный человек ответил:
– Твой брат очень умный человек, многие на его месте были бы довольны тем, что захватили гнездо бандитов, грабили бы область и считали бы, что это уже достаточно высокое положение. Но брат твой слишком умен для этого, он знает, что военачальнику из бандитов нужно добиться уважения, прежде чем он сможет стать правителем, и потому он заручился поддержкой государства. Да, хотя это должность в небольшом городе, все же она государственная, и он теперь генерал и на службе у государства, а когда он будет сражаться с другими военачальниками и найдет случай поссориться с кем-нибудь из них, что он намерен сделать весной, то выступит как человек, имеющий власть, а не как мятежник.
Такая предусмотрительность пришлась по душе Вану Среднему, и так как час близился к полудню, он сказал гораздо приветливее обычного:
– Пойдем, поешь и выпей чаю с нами, если тебе понравится наша простая еда. – И он повел его с собой и усадил за семейный стол.
Увидев человека с заячьей губой, жена Вана Среднего громко и добродушно поздоровалась с ним и спросила:
– Как поживает мой рябой сынок?
Тот поднялся с места и отвечал ей, что сын ее здоров и живется ему неплохо, – генерал, должно быть, хочет его повысить, потому что держит всегда при себе. И не успел он еще вымолвить слова, как она уже кричала ему, чтобы он не стоял из вежливости, а садился поскорей. Усевшись снова на свое место, он хотел было рассказать им о том, как мальчик ходил в гнездо бандитов, и какой он ловкий, и как хорошо исполнил все, что ему поручили. Но он во-время удержался, вспомнив, что женщины – удивительный народ, и нрав у них непостоянный, а всего удивительнее матери, которые видят страхи и опасности для своих детей там, где их вовсе нет. И потому, рассказав, сколько было нужно, чтобы удовлетворить ее любопытство, он ограничился этим и замолчал.
Через несколько минут она уже забыла, о чем спрашивала, потому что у нее было много дела, и она хлопотала и суетилась, доставая чашки и расставляя их на столе, и в то же время кормила ребенка грудью. Ребенок спокойно сосал, а она свободной рукой проворно раскладывала по чашкам еду гостю, мужу и крикливым, проголодавшимся детям, которые ели не за столом, а стоя в дверях или на улице, куда выбегали с чашками и палочками, и, опорожнив чашки, прибегали обратно, прося еще риса, овощей или мяса.
Когда обед кончился и после еды все напились чаю, Ван Средний повел верного человека к воротам старшего брата и там попросил его подождать, пока он вызовет брата, и тогда они пойдут разговаривать в чайный дом. И он велел ему стать в сторонке, чтобы госпожа его не увидела, а не то им придется войти в дом и разговаривать с ней. Предупредив его об этом, Ван Средний скрылся в воротах и, пройдя через один-два двора, вошел в комнату брата, где застал его крепко спящим на ложе возле жаровни с пылающими угольями, – он храпел, заснув после обеда.
Почувствовав, что брат слегка дотронулся до его плеча, он проснулся, громко всхрапнул и довольно скоро понял, чего от него хотят; потом, поднявшись на ноги, натянул лежавший возле меховой халат и вышел потихоньку за братом, стараясь, чтобы его не заметили. Никто их не видел, кроме хорошенькой наложницы, которая просунула голову в дверь посмотреть, кто идет, и когда Ван Старший поднял руку в знак молчания, она не стала его задерживать – это была добрая, кроткого нрава женщина, и хотя она была робка и боялась его жены, однако, если бы ее спросили, она солгала бы по своей доброте, сказав, что не видела его.
Братья пошли вместе в чайный дом, и там человек с заячьей губой снова повторил свой рассказ, и Ван Старший сетовал про себя, что у него нет сына, которого можно было бы отдать младшему брату, и завидовал, что сыну среднего брата так повезло. Но он сдержался на этот раз, благодушно беседовал с Заячьей Губой, соглашаясь со всем, что говорил брат о деньгах, которые нужно было послать, однако с трудом дождался времени, когда можно было уйти домой.
Сердце его, казалось, готово было разорваться от зависти, и он пошел разыскивать старшего сына. Юноша лежал в своей комнате на кровати с пологом и, весь раскрасневшись, читал пустую, развратную книгу под названием «Три красавицы»; завидев входящего отца, вздрогнул и спрятал книгу под халат. Но отец даже не заметил книги, – мысли его были заняты тем, о чем он пришел говорить, и он торопливо начал:
– Скажи, сын мой, ты все еще хочешь поехать к дяде и с его помощью добиться высокого положения?
Но для сына его прошло уже время, когда он этого хотел, и теперь он слегка зевнул, и приоткрывшийся рот его был розовый и красивый, будто у девушки, и, взглянув на отца, он улыбнулся лениво и сказал:
– Неужели я был когда-нибудь так глуп, что хотел итти в солдаты?
– Но ты не будешь простым солдатом, – настаивал встревоженный отец. – Ты с самого начала будешь гораздо выше, будешь первым после дяди. – Потом он понизил голос, уговаривая сына: – Твой дядя уже генерал, и своего места он добился как нельзя более ловко, и самое худшее уже позади.
Но юноша упрямо качал головой, и Ван Старший, сердясь и не зная, что ему делать, смотрел на лежащего перед ним сына. Словно какая-то пелена опала у него с глаз в эту минуту, и он ясно увидел, что его сын праздный, избалованный и изнеженный юноша, ни к чему не стремящийся, кроме удовольствия, и боящийся только того, как бы не показаться одетым хуже и не модно, как другие молодые люди, его знакомые. Да, Ван Старший видел, что сын его лежит на шелковых одеялах, одетый в шелка, даже и белье на нем было шелковое, обутый в атласные башмаки; кожа у него надушена и умащена, словно у какой-нибудь красавицы, и волосы надушены и напомажены заграничной помадой. Он всячески заботился о красоте своего тела, и чуть ли не молился на него – такое оно у него было красивое и нежное, и наградой ему были похвалы тех, с кем он проводил вечера в игорных домах и театрах. Да, это был молодой господин из богатого дома, что каждому было видно, и никому не пришло бы в голову, что дед его был какой-то Ван Лун, крестьянин, пахавший землю. На минуту Ван Старший ясно увидел, что такое его старший сын, хотя в другое время вечно путался и терялся от множества пустяков, и, испугавшись за сына, закричал пронзительным голосом, совсем непохожим на его обычный внушительный голос:
– Я боюсь за тебя, сын мой! Боюсь, что ты плохо кончишь! – Он закричал так резко, как никогда еще не кричал на сына: – Говорю тебе, ты должен проложить себе дорогу в жизни, а не стариться здесь без дела, в праздных удовольствиях!
И в страхе, которого не понимал сам, он пожалел, что не воспользовался той минутой, когда в юноше проснулось честолюбие. Теперь было слишком поздно, эта минута прошла.
Услышав, как странно звучит отцовский голос, молодой человек встрепенулся, сел на кровати и отозвался полуиспуганно, полуобиженно:
– Где моя мать? Я пойду и спрошу у матери, пустит ли она меня, – неужели ей так хочется от меня отвязаться?
Тогда Ван Старший сразу пришел в себя и сказал поспешно и миролюбиво:
– Ну, что же, пусть, делай, как хочешь, – ведь ты мой старший сын!
Минута ясности прошла, и пелена снова заволокла его глаза. Он вздохнул, думая про себя, что правду говорят, будто молодые господа совсем не то, что юноши из простонародья; правда и то, что жена его брата – простая женщина, а рябой племянник, должно быть, немногим лучше слуги при дяде. Так пытался утешить себя Ван Старший и, шаркая ногами, вышел из комнаты сына. А сын его, беспечно улыбаясь, снова улегся на шелковую подушку, заложив руки под голову, и немного спустя протянул руку за спрятанной книгой, достал ее и опять с жаром принялся за чтение – это была дрянная, развратная книга, и ее расхвалил ему приятель.
Но Ван Старший не мог избавиться от своего смутного страха, и он так тяготил его, что впервые жизнь показалась ему не так хороша, как прежде. Ему было очень обидно видеть, как уходит верный человек, с полной серебра котомкой, с туго набитым поясом и с таким тяжелым узлом, что он едва мог взвалить его на спину; это было обидно, и он забыл о том, что Ван Тигр мог быть полезен и ему, и жизнь казалась ему тяжела, потому что у него не было сына, который мог бы добиться славы, не было ничего, кроме ненавистной ему земли, с которой он все же не смел разделаться. Даже жена заметила его уныние, и он дошел до того, что поделился с нею и рассказал о своих огорчениях, – она так хорошо изучила его, что в глубине души он считал ее умнее себя, хотя, если бы его спросили, он в этом ни за что не признался бы. Но на этот раз она ему ничем не помогла, и когда он захотел рассказать ей, как возвысился младший брат, она визгливо и презрительно смеялась и сказала:
– Генерал в маленьком, провинциальном городе не такое уж важное лицо, и глупо ему завидовать! Когда он станет военачальником над целой провинцией, будет еще время послать к нему нашего младшего сына, а еще вернее – последнего твоего сына, малыша, которого кормит сейчас грудью та, другая!
И Ван Старший замолчал и после того уже без прежней охоты ходил веселиться в чайные и игорные дома, и даже разговоры с бесчисленными приятелями потеряли для него прежнюю цену. Нет, он сидел один, а такое занятие было вовсе не по нем, потому что он любил бывать там, где народ снует взад и вперед среди шума и суеты, хотя бы это были домашние хлопоты и служанки пререкались с каким-нибудь продавцом, а дети кричали и ссорились и стоял обычный шум повседневной жизни. Даже это ему нравилось больше, чем сидеть одному.
А теперь он сидел один и чувствовал себя несчастным, не зная сам почему, – разве потому, что впервые ему пришло в голову, что он уже не так молод, как был когда-то, и что старость незаметно подкралась к нему и в жизни, думалось ему, он не нашел счастья, какое мог бы найти, и не добился положения, какого мог бы добиться. Самой тяжкой из его забот была забота о земле, которую оставил ему отец. Она была сущее проклятие, потому что только землей он и жил, и не присматривать за ней было нельзя, иначе ему нечего было бы есть, – и не только ему, но и детям, и женам, и слугам, и казалось, что в этой земле кроются какие-то злые чары: то начинался посев, и нужно было итти в толе; то пора было удобрять землю, и за этим нужно было присмотреть; то подходила уборка урожая, и нужно было стоять на самом припеке, отмеривая зерно; то наступало время собирать арендную плату, – и весь этот ненавистный круговорот заставлял его работать, когда по своим склонностям он был человек досуга, знатный господин. Да, у него был управитель, но он и сам не лишен был сообразительности, и ему не по нутру была мысль, что управитель наживается за его счет, и, как ни было ему это ненавистно, он против воли тащился каждый раз из дому и сам наблюдал за всем, что делалось в поле.
Теперь он сидел то у себя в комнате, то под деревом во дворе, если пригревало зимнее солнце, и вздыхал, думая о том, что год за годом он должен таскаться в поле, – не то разбойники, которые арендуют у него землю, ничего ему не дадут. Да, они вечно ноют: «Ах, в этом году у нас было наводнение!», «Ах, такой засухи еще не бывало!», или: «В этом году все поела саранча»; у них с управителем сотни уловок против помещика, и оттого, что ему надоело с ними бороться, он поносил и ненавидел землю. Он не мог дождаться того дня, когда Ван Тигр добьется высокого положения и старшему брату его не нужно будет выходить из дому в жару и холод, не мог дождаться того дня, когда он сможет сказать: «Я – брат Вана Тигра» – и этого будет достаточно. Когда-то он был доволен и тем, что люди начали звать его Ван Помещик; так звали его и теперь, и еще не так давно это имя казалось ему почтенным.
Сказать по правде, Вану Помещику приходилось очень нелегко, потому что при жизни своего отца Ван Луна он привык без отказа получать от него деньги на все, что ему было нужно, и за всю свою жизнь ни разу не трудился ради них. А после раздела наследства он работал как никогда, и, несмотря на все эти непривычные для него труды, ему все же не хватало серебра, а сыновьям его и женам не было и дела до того, что деньги достаются ему не даром.
Сыновья его желали носить только самое лучшее, и чтобы подбить платье на зиму, им нужен был один мех, а на весну и осень другой – нежный и легкий, и для каждого времени года – особого сорта шелк, и для них было настоящее лишение и нешуточное горе, если приходилось надеть халат чуть подлиннее или пошире скроенный, чем принято было носить в этом году, и больше всего на свете они боялись насмешек городских щеголей, с которыми водили знакомство. Так было со старшим сыном, а теперь и четвертый сын начинал к этому приучаться. Ему было всего тринадцать лет, но ему нужен был и халат модного покроя, и кольцо на палец, и духи, и помада для волос, и особая служанка, и слуга, который водил бы его гулять, а так как он был любимец матери и она боялась, как бы ему не повредили злые духи, то он носил в ухе золотую серьгу, чтобы боги обманулись и приняли его за девочку, которая ничего не стоит.
Жену свою Ван Помещик никогда не мог убедить в том, что серебра в доме гораздо меньше, чем было прежде, и если он говорил ей, когда она просила денег: «У меня нет таких денег, я могу дать тебе только пятьдесят монет», то она возражала: «Я обещала дать в храм на новую крышу, и если не дам, то достоинство мое пострадает. У тебя же есть деньги, я знаю, они у тебя уходят, как вода, на игру и вино и на всех этих дрянных женщин, а я единственный человек в доме, который заботится о душе и о богах. Когда-нибудь ты попадешь в ад, и мне придется молиться о твоей душе, – вот тогда ты пожалеешь, что не давал мне серебра!»
И Вану Помещику приходилось где-нибудь доставать серебро, хотя ему была ненавистна мысль о том, что его деньги перейдут в руки вкрадчивых и лицемерных священников, которых он терпеть не мог и не доверял им, так как слышал о них много дурного. А все же нельзя было сказать наверное, – может быть, они и умеют колдовать, и, притворяясь, что не верит в богов, которые, будто бы, нужны одним женщинам, он не был вполне уверен, что боги над ним не властны, и даже в этом он путался и не мог разобраться.
Правду сказать, жена его стала весьма благочестива и только и делала, что молилась богам и ходила по храмам; она постоянно навещала то один, то другой храм, и ей доставляло величайшее удовольствие входить в ворота, опираясь на служанок, как подобает знатной госпоже, и видеть, как священники, и даже сам настоятель, бегут к ней навстречу, угодливо кланяясь, и расточают ей льстивые слова, называя ее любимицей богов и сестрой, близкой к Великому Пути.
Слушая их, она жеманилась и улыбалась, опустив глаза, и отнекивалась, и очень часто, сама не зная, как это выходило, обещала дать им денег, и при этом гораздо больше, чем ей хотелось бы. Священники не давали промаха и не скупились на похвалы, и имя ее красовалось повсюду, как пример всем благочестивым людям, а один храм принес ей в дар деревянную доску, выкрашенную в ярко-красный цвет, на которой золотыми буквами было написано, какая она благочестивая и как почитает богов. Эту доску повесили в храме, правда в боковом приделе, но и там многие могли ее видеть. После этого она возгордилась еще больше, стала еще благочестивее с виду и приучилась сидеть всегда неподвижно, сложив руки, и часто, когда другие сплетничали или праздно болтали, она не выпускала четок из рук и шептала молитвы. Будучи такой набожной, она очень немилостиво обращалась с мужем и во что бы то ни стало требовала серебра для поддержания своего доброго имени.
Видя, что госпожа получает, сколько ей нужно, младшая жена Вана Помещика тоже захотела своей доли, правда не на богов, хотя в угоду госпоже и она выучилась о них пустословить, но все же и она требовала серебра. И Ван Помещик не мог понять, куда она тратит столько денег: она не одевалась в дорогие, затканные цветами шелка, не покупала драгоценных камней и золотых украшений на платье и в волосы. Однако деньги быстро уплывали у нее из рук, и Ван Старший на это не жаловался, боясь, что она пойдет плакаться к госпоже, а та станет упрекать его и скажет, что если он взял девушку в дом, то должен платить ей. Обе эти женщины были дружны по-своему, хотя дружба эта была довольно холодная, и держалась она тем, что обе вместе нападали на мужа, если им что-нибудь было нужно. В конце концов Ван Помещик все-таки узнал, в чем дело: он заметил как-то, что младшая жена его выскользнула в боковую калитку и, достав что-то из-за пазухи, передала стоявшему там человеку, и, вглядевшись пристальнее, Ван Помещик узнал в этом человеке ее отца. И Вану Помещику было горько это видеть, а про себя он подумал:
«Так, значит, я кормлю и этого старого мошенника с семьей!» И Ван Помещик ушел к себе в комнату, и, вздыхая, долго сидел там; он горевал и даже стонал потихоньку. Но толку от этого не было, и сделать он ничего не мог, потому что, если она захотела отдать то, что получила от мужа отцу, а не потратила на сласти и наряды, – это было ее право, хотя жена прежде всего должна была бы прилепиться к дому мужа. Ван не чувствовал себя в силах спорить с ней и оставил ее в покое.
И Ван Помещик терзался тем сильнее, что не мог справиться со своими желаниями, хотя теперь, когда ему было под пятьдесят, он честно старался поменьше тратить на женщин. Но от этой сладости он так и не мог избавиться и не желал прослыть скрягой у женщин, когда у него появлялась новая привязанность. Кроме этих двух женщин в доме, у него была еще временная жена, певица, которая жила в другой части города. Она присосалась к нему, словно пиявка, и не отпускала его, угрожая покончить с собой и говоря, что любит его больше всего на свете; она то плакала у него на груди, то запускала свои острые ноготки в толстые складки жира на его шее и висла на нем так, что он не знал, как от нее отделаться, хотя она надоела ему.
С нею вместе жила старуха-мать, сущая ведьма, и та, в свою очередь, визжала:
– Как же ты можешь бросить мою дочь, когда она отдала тебе все? Как же она будет жить теперь, когда все эти годы она жила с тобой и бросила театр, и голос у нее пропал, и другие заняли ее место? Нет, я этого так не оставлю, я подам жалобу судье, если ты ее бросишь!
Это очень испугало Вана Помещика, так как он боялся, что весь город станет смеяться над ним, услышав на суде бесстыдные речи старухи, и он торопливо доставал сколько у него было серебра. Заметив, что он боится, обе женщины сговорились и пользовались каждым случаем, чтобы поднять вой и плач, зная, что он поторопится дать им денег, стоит им только заплакать. А всего непонятнее было то, что, нажив себе столько забот, этот большой, толстый и бесхарактерный человек никак не мог из них выпутаться, и снова поддавался соблазну, и где-нибудь на пиру нанимал себе новую певицу, хотя, вернувшись домой и придя в себя на следующий день, он стонал и проклинал свое безумие и похотливость.
А теперь, размышляя обо всем этом в те недели, когда находился в унынии, он сам испугался своего равнодушия к жизни, он даже ел теперь гораздо меньше прежнего, и, заметив, что охота к еде у него пропала, он испугался, как бы не умереть раньше времени, и сказал себе, что нужно освободиться хотя бы от половины своих забот. И он решил, что продаст большую часть земли и станет жить на серебро и тратить то, что ему принадлежит, а сыновья пусть сами позаботятся о себе, если им недостанет наследства. И ему пришла в голову мысль, что не стоит человеку отнимать у себя ради тех, кто будет жить после него. Он решительно поднялся с места, пошел к среднему брату и сказал:
– Нет, у помещика слишком много забот, и такая жизнь не по мне; я горожанин и люблю досуг. И положение и годы мои уже не те, мне не под силу ходить в поле во время посева и жатвы, а если буду ходить, то непременно умру от жары или от холода. Мне не приходилось жить с простонародьем, и они обманывают меня во всем, что касается земли и работы, и мне за ними не углядеть. Вот о чем я попрошу тебя. Замени мне управителя, продай добрую половину моих земель, а потом дай мне денег, сколько понадобится, а остальные отдай в рост и освободи меня от этой проклятой земли. Другую же половину я оставлю в наследство сыновьям. Ни один из них не хочет мне помочь, и когда я посылаю старшего сына, чтобы он вместо меня пошел в поле, ему вечно некогда: то он спешит на свидание с приятелем, то у него болит голова. Если так пойдет и дальше, мы умрем с голода. Одни только арендаторы наживаются с земли.
Ван Средний посмотрел на брата и, презирая его в душе, вслух оказал вкрадчиво:
– Я тебе брат и ничего не возьму с тебя за хлопоты, и продам землю тому, кто даст за нее больше других. Только ты должен сам назначить крайнюю цену каждому участку.
Но Вану Помещику хотелось поскорее развязаться с землей, и он поторопился сказать:
– Ты мой брат, – продавай за ту цену, какую сочтешь справедливой. Неужели я не поверю родному брату?
Он ушел от него в очень хорошем расположении духа, потому что наполовину отделался от забот и мог жить без хлопот, поджидая, когда серебро потечет к нему в руки, чего ему давно хотелось. Но жене он не стал рассказывать, что сделал, а не то она набросилась бы на него с упреками: зачем он отдал землю в чужие руки, и сказала бы, что если он хотел продать ее, то должен был продать сам кому-нибудь из богачей, с которыми постоянно пирует и с которыми он, повидимому, в такой тесной дружбе; а Ван Помещик вовсе этого не хотел, так как, несмотря на свое бахвальство, он больше доверял уму брата, чем своему собственному. И теперь, покончив с этим, он снова возвеселился духом, ел по-прежнему с охотой, и жизнь попрежнему стала казаться ему прекрасной, и он утешился, думая про себя, что есть люди, у которых куда больше забот, чем у него.
А Ван Средний был доволен, как никогда, потому что теперь все было в его руках. Лучшие земли брата он решил купить сам. Правда, он заплатил за них настоящую цену, потому что для этого был достаточно честен, не хуже других, и даже не скрыл от брата, что купил самую лучшую землю, чтобы она осталась в семье. Но сколько он купил земли, Ван Помещик не знал, потому что брат дал ему подписать бумаги, когда он был навеселе, и тот даже не посмотрел, чье имя стоит в купчей, а так как он был в хорошем расположении духа, то Ван Средний казался ему прекрасным человеком, вполне достойным доверия. Если бы Ван Помещик знал, что так много участков земли перейдет к брату, он, может быть, и не согласился бы, и потому Ван Средний старался обратить его внимание на участки похуже, которые он продавал арендаторам и всем, кто хотел их купить. И правда, Ван Средний много земли продал и чужим. Но Ван Лун в свое время был дальновиден и покупал самые лучшие участки земли, и когда дело было доведено до конца, во владении Вана Среднего и его сыновей остались лучшие, самые отборные участки отцовской земли, потому что таким же образом ему удалось приобрести и лучшую часть из наследства младшего брата. Большая часть зерна со всех этих участков должна была, по его замыслу, поступить в его же лавки и умножить запасы золота и серебра, и с тех пор он стал человеком значительным в своем городе, и люди начали звать его Ван Купец.
Тому, кто этого не знал, и в голову не могло притти, что этот маленький, тощий человек так богат, потому что Ван Купец был попрежнему умерен и ел только простую пищу и попрежнему носил все тот же халат темно-серого узорчатого шелка. В доме у него не прибавилось утвари, а во дворах не было ни одного цветка и ничего лишнего, и даже то, что росло прежде, засохло, потому что жена его была хорошая хозяйка и сама разводила кур, и куры эти забегали в комнаты и подбирали с пола объедки, брошенные детьми, и, расхаживая по дворам, склевывали каждую травинку и каждый листок, так что во дворах совсем не осталось зелени, кроме нескольких старых сосен, а земля была вся вытоптана и затвердела, как камень.
И сыновьям своим Ван Купец не позволял приучаться к праздности и расточительству. Нет, каждому он назначил свой удел, каждый из них должен был учиться несколько лет и выучиться читать и писать и искусно считать на счетах. Но он не позволял им затягивать годы учения, чтобы они, чего доброго, не стали считать себя учеными, потому что ученые никакой работы не любят, а, по его мысли, они должны были приучаться торговать, а потом войти в дело. Рябой в счет не шел, потому что отдан был дяде; второго сына он решил сделать управляющим своими землями, а остальные в свое время, начиная с двенадцати лет, должны были приучаться к торговле.
Цветок Груши попрежнему жила в старом доме с дурочкой и горбуном, и каждый день ее жизни был похож на предыдущий, и она просила только одного, чтобы так продолжалось и дальше. О земле она больше не горевала, видя, что средний сын ее покойного господина приходит вместо старшего в поле перед жатвой смотреть, как растут хлеба, наблюдать за тем, как развешивают зерно, и за всеми другими делами. Да, она слышала, что Ван Купец, хоть и горожанин, еще прижимистей брата, как помещик, потому что, взглянув на поле стоящей на корню, еще не созревшей пшеницы, он мог точно сказать, сколько тут будет зерна, и его раскосые глазки сразу замечали, не придерживает ли тайком арендатор ногой мешок с зерном, чтобы на весах потянуло больше, и не плеснул ли он воды в рис или пшеницу, чтобы зерно разбухло. Годы, проведенные им в лавке, научили его всем уловкам, какими пользуется крестьянин, чтобы обмануть купца-горожанина, своего исконного врага. Но если Цветок Груши спрашивала, не сердится ли он, обнаружив плутовство, ей всегда отвечали, что нет, никогда не сердится, и в ответе слышалось невольное восхищение перед ним. Нет, он был только неумолим и тверд, и гораздо умнее всех крестьян, и прозвище ему вся округа дала такое: «Тот, кто наживается на каждой сделке».
Прозвище это было презрительное, полное ненависти, и все крестьяне от души ненавидели Вана Купца. Но он не обижался, скорее был доволен, что его так прозвали, а узнал он свое прозвище от одной рассердившейся крестьянки, которая стала его бранить за то, что он поймал ее, когда она опускала большой круглый камень в корзину с зерном, стоящую на весах, думая, что он не заметит, потому что стоит к ней спиной.



![Книга Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр] автора Филип Хосе Фармер](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-vlastelin-tigr-vladyka-tigr-bog-tigr-vlastitel-tigr-lord-tigr-192841.jpg)




