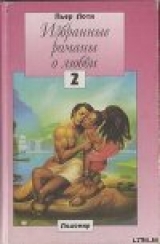
Текст книги "Рамунчо"
Автор книги: Пьер Лоти
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
16
И вот ясным апрельским утром они открывают ставни узких, как бойницы, окон, пробитых в толще старой стены.
И тотчас же в комнату вливаются лучезарные потоки света. Снаружи бушует весна. Никогда еще не видели они так близко таких высоких горных вершин. Но по зеленым склонам поросших деревьями гор в глубину долины спускается солнце, делая ослепительной белизну выкрашенных известью старых домишек с зелеными ставнями.
Оба они, Рамунчо и Аррошкоа, полны молодых сил и радости. А все дело в том, что сегодня утром они собираются посетить кузенов мадам Даргеньярац, чтобы повидать двух девушек, Грациозу и Панчику, которые должны были приехать к ним вчера.
Взглянув на площадь для игры в лапту, где будут тренироваться вечером, они отправляются в путь по восхитительно зеленым тропинкам, вьющимся в глубине долин вдоль прохладных ручьев. Над бесконечным легким кружевом папоротников тянутся к небу длинные розовые веретена наперстянок.
Похоже, дом кузенов Ольягаррэ находится довольно далеко, и они время от времени останавливаются, чтобы спросить дорогу у пастухов или постучать в какой-нибудь прячущийся среди зелени одинокий домишко. Они никогда раньше не видели таких ветхих и таких убогих баскских домов под сенью таких огромных каштанов.
Они идут по странно узкому ущелью. Выше линии густых, словно нависающих над дорогой дубов и буков виднеются лишенные растительности вершины, отвесные и голые, упирающиеся коричневыми шпилями в ослепительно голубое небо. Но здесь внизу, в глубокой мшистой долине, защищенной от обжигающих солнечных лучей, апрельская зелень сверкает всем своим свежим великолепием.
И эти двое, шагающие по тропинке среди зарослей папоротников и цветов наперстянки, чувствуют себя частью этого весеннего великолепия.
Понемногу под влиянием этих будто лишенных возраста мест в них пробуждаются древний охотничий инстинкт и жажда разрушения. Аррошкоа в азарте прыгает то вправо, то влево, ломает, вырывает с корнем травы и цветы; он устремляется вперед, едва что-то зашевелится в зеленой листве, будь то ящерица, которую можно поймать, птица, которую можно вынуть из гнезда, или плавающая в ручье форель; он носится туда, сюда, жалеет, что у него нет под рукой ни удочки, ни палки, ни ружья. Есть что-то дикое и первобытное в его бьющей через край юной силе… Рамунчо же, сломав несколько веток и вырвав пучок цветов, успокаивается и погружается в задумчивость; он созерцает и грезит…
Вот они остановились у скрещения двух долин; вокруг – ни людей, ни жилья. Лишь темные ущелья, где теснятся огромные дубы, а выше – повсюду нагромождение рыжих, обожженных солнцем гор. Никаких следов современной жизни; ничем не нарушаемая тишина и покой первобытных времен. Подняв голову к бурым вершинам, они замечают там, наверху, очень далеко, крестьян, которые идут по невидимым тропинкам, погоняя маленьких осликов; на таком расстоянии эти безмолвные путники кажутся крохотными насекомыми, ползущими по склону гигантской горы. Баски старых времен, почти сливающиеся, если на них смотреть снизу, с этой красноватой землей, из которой они вышли и куда они должны вернуться, прожив свой век, как и их предки, даже не подозревая о существовании иной жизни, иных краев…
Аррошкоа и Рамунчо снимают береты, чтобы вытереть лоб. В этих ущельях такая жара, и они столько бегали и прыгали, что совершенно взмокли от пота. Здесь, конечно, очень здорово, но все-таки им хотелось бы добраться до ожидающих их двух белокурых девчушек. А кругом ни души, и не у кого спросить дорогу.
«Ave Maria»[39]39
«Радуйся, Мария». Начальные слова вечерней католической молитвы, содержащей благословение Марии как Богоматери.
[Закрыть] – доносится из чащи совсем рядом с ними старческий хриплый голос.
За восклицанием следует поток слов, изливающихся стремительным крещендо.[40]40
Крещендо – оттенок исполнения музыкальной фразы: «постепенно увеличивая силу звука» (ит.).
[Закрыть] Это баскская молитва, произносимая на одном дыхании, сначала очень громко, а под конец чуть слышным голосом. Из-за папоротников, опираясь на палку, появляется нищий, грязный, седой, бородатый, настоящий леший.
– Хорошо! – говорит Аррошкоа, опуская руку в карман. – Но в награду за милостыню ты отведешь нас к дому Ольягаррэ.
– Дом Ольягаррэ! – отвечает старик. – Я только что оттуда, а вы, милые, уже пришли.
Действительно, как же они не заметили в сотне метров среди каштанов черный край островерхой крыши!
Он стоит у самой воды, дом Ольягаррэ, большой, старинный, под сенью вековых каштанов. Красная голая земля изборождена следами стекающих с гор потоков; узловатые корни деревьев извиваются, словно чудовищные серые змеи. А нависающие со всех сторон тяжелые глыбы Пиренеев придают этому месту что-то суровое и трагическое.
Обе девушки здесь, в тени каштана; со своими белокурыми волосами и изящными розовыми платьицами они кажутся удивительными маленькими феями, очень современными среди этой дикой первобытной природы.
Они тотчас же вскакивают и с радостными криками бегут навстречу гостям.
Конечно, было бы лучше сначала зайти в дом и поздороваться со старшими. Но они говорят себе, что их наверняка никто не видел, и предпочитают устроиться у ручья, на корнях гигантских деревьев, каждый рядом со своей белокурой невестой. И как бы случайно они садятся так, чтобы не мешать друг другу, разделенные скалами и ветвями деревьев.
И начинается бесконечный разговор Аррошкоа с Панчикой, Рамунчо с Грациозой.
О чем они могут так долго и так оживленно болтать?
И хотя их выговор не такой певучий, как в горных районах, все равно он звучит ритмичными, скандированными строфами, нежной мелодичной музыкой, где голоса юношей смягчаются и кажутся почти детскими.
О чем же они говорят так долго и так оживленно, сидя на берегу этого потока, в этом ущелье, под жгучим южным солнцем? Боже мой, это не имеет никакого значения; это просто шепот влюбленных, напоминающий тихий щебет ласточек в ту пору, когда они вьют гнезда. Это ребяческая болтовня, сотканная из несуразностей и повторов. Да, в ней действительно очень мало смысла, если только в ней не заключено самое возвышенное, самое глубокое и самое подлинное из того, что можно выразить земными словами… Это ничего не значит и в то же время звучит чудесной бессмертной песней, ради которой и был создан язык людей и животных и по сравнению с которой все кажется суетным, жалким и пустым.
В этом зажатом со всех сторон ущелье удушающе жарко. Даже смягченные тенью каштанов, солнечные лучи все равно жгут огнем. В этой голой кроваво-красной земле, этом ветхом доме, этих вековых деревьях, под которыми болтают влюбленные, есть что-то суровое и враждебное.
Никогда еще Рамунчо не видел свою подружку такой разрумянившейся на солнце: горячая молодая кровь прилила к тонкой матово-прозрачной коже, и щеки ее зарделись, как розовые цветы наперстянки.
Мухи и комары жужжат над ними. Один комар ужалил Грациозу в подбородок, почти что в губу, и она пытается достать укушенное место языком, почесать верхними зубами. Рамунчо видит ее совсем близко, слишком близко; внезапно его охватывает какая-то странная слабость, и, чтобы справиться с ней, он с силой вытягивает обе руки и откидывается назад.
– Что ты тянешься, как кот, Рамунчо?
Но когда она в третий раз начинает покусывать то же место, высовывая кончик языка, он, отдавшись неудержимому влечению, осторожно, словно боясь раздавить, как прекрасный плод, захватывает губами ее свеженькую губку, укушенную комаром.
Оба, трепещущие и восхищенные, замирают. Она дрожит всем телом от прикосновения чуть пробивающихся темных усов.
– Ты не сердишься на меня, скажи?
– Нет, мой Рамунчо… Нет, я вовсе не сержусь… Тогда, совсем потеряв голову, он снова приникает к ее губам, и в этом томном и жарком воздухе их уста сливаются в долгом и страстном поцелуе…
17
На следующий день, в воскресенье, они все вместе благочестиво отправились в церковь к заутрене, чтобы в тот же день, сразу после большой игры в лапту, вернуться в Эчезар.
Нужно сказать, что это возвращение интересовало Грациозу и Рамунчо еще больше, чем игра, так как Панчика и ее мать, возможно, останутся в Эррибияге, и тогда они поедут вдвоем, прижавшись друг к другу в крохотной повозке Дечарри, под весьма снисходительным наблюдением Аррошкоа; пять или шесть часов пути втроем по весенним дорогам, среди свежей молодой зелени, с веселыми остановками в незнакомых деревнях.
Уже с одиннадцати часов в это прекрасное воскресное утро вокруг площади собираются зрители из самых удаленных, самых диких деревушек, затерянных высоко в горах. Это поистине международная встреча: три игрока из Франции против трех из Испании, а среди зрителей преобладают испанские баски; некоторые из них, по старинной моде, в широкополых сомбреро,[41]41
Сомбреро – шляпа (исп.).
[Закрыть] куртках и гетрах.
Выбранные по жребию среди испанцев и французов судьи приветствуют друг друга со старомодной вежливостью, и игра начинается в абсолютной тишине под ослепительным солнцем, которое мешает игрокам, несмотря на натянутые козырьком береты.
Вскоре зрители стали восторженно аплодировать Рамунчо, а следом за ним и Аррошкоа, и поглядывать на внимательно следящих за игрой незнакомок в первом ряду, таких хорошеньких и элегантных в своих розовых платьицах. Слышался шепот: «Это невесты этих двух прекрасных игроков». И Грациоза, которая все слышала, чувствовала, как ее охватывает гордость за своего жениха.
Полдень. Они играли уже час. Старая, выкрашенная охрой с закругленным куполообразным краем стена трескалась от сухости и жары. Тяжелые громады Пиренеев подступали здесь еще ближе, чем в Эчезаре; еще более высокие и более величественные, они сжимали кольцом человеческие фигурки, мечущиеся в глубоком ущелье между их склонами. Солнечные лучи падали отвесно на плотные береты мужчин, на ничем не прикрытые головы женщин, распаляя спортивные страсти. В азарте кричали зрители, летали мячи, когда вдруг раздался тихий звук колокола. Тогда какой-то старик с обветренным, изрезанным шрамами лицом, поджидавший этот момент, поднес к губам рожок – старинный рожок африканского зуава[42]42
Зуавы – алжирские стрелки; колониальные французские войска, формировавшиеся главным образом из жителей Северной Африки – как коренных национальностей, так и европейцев.
[Закрыть] – и протрубил сигнал «в поход»; тотчас же все женщины встали, все мужчины сняли береты, обнажив темные, белокурые или седые головы, и все осенили себя крестным знамением, а игроки, мокрые от пота, остановились в самый разгар игры и замерли посреди площади, благочестиво склонив голову…
В два часа игра завершилась блистательной победой французов. Аррошкоа и Рамунчо сели в свою маленькую повозку под приветственные крики юных жителей Эррибияга. Грациоза устроилась между ними, и, с карманами полными только что заработанных монет, опьяненные радостью, шумом и светом, они двинулись в долгий обратный путь по прелестной горной дороге.
И Рамунчо, губы которого еще хранили вкус вчерашнего поцелуя, хотелось, уезжая, крикнуть им всем: эта девушка, такая хорошенькая, она моя! Ее губы принадлежат мне. Вчера я целовал их и снова буду целовать сегодня!
Они выехали из деревни, и тотчас же их окружила тишина тенистых долин, заросших наперстянкой и папоротником.
Ездить по узким пиренейским дорогам, колесить по стране басков, нигде не задерживаясь больше одного дня, ехать в одну деревню на праздник, в другую – ради операции на границе, – такова была теперь жизнь Рамунчо, днем заполненная игрой в лапту, ночью – контрабандой.
Подъемы и спуски среди бесконечной зелени девственных буковых и дубовых лесов, оставшиеся такими же, как и прежде, в безмятежные старые времена.
Когда им попадалось какое-нибудь ветхое жилище, затерявшееся в лесной гуще, они замедляли шаг, чтобы прочесть выбитую над дверью традиционную надпись: Ave Maria! В году 1600 или 1500 такой-то из такой-то деревни построил этот дом, чтобы жить в нем с такой-то, своей супругой.
Вдали от всякого человеческого жилья, в защищенном от ветра уголке ущелья, где было невыносимо жарко, они увидели торговца изображениями святых, который сидел на траве, вытирая со лба пот. Он поставил на землю корзину с жалкими изображениями разных святых в рамках и надписями на баскском языке, которыми баски любят украшать белые стены своих жилищ. Он сидел изнемогающий от жары и усталости, словно разбитая лодка, выброшенная волной в гущу папоротников у поворота горной тропинки, одиноко петляющей под сенью могучих дубов.
Грациоза захотела остановиться, чтобы купить у него изображение Пресвятой Девы.
– Потом повесим ее у нас как память, – сказала она Рамунчо.
И сверкающая в своей позолоченной рамке картинка отправилась вместе с ними в путь под бесконечными зелеными сводами…
Они сделали крюк, чтобы проехать по Вишневой долине, но не потому что рассчитывали в апреле уже полакомиться вишнями, а чтобы показать Грациозе это знаменитое в краю басков место.
Когда они приехали туда, было около пяти часов, и солнце стояло уже довольно низко. Тихое и тенистое место, где весенние сумерки уже ласково касались роскошной апрельской зелени. Сладкий и свежий воздух был напоен ароматами сена и цветущей акации.
Горы, особенно высокие с севера и преграждавшие путь холодным ветрам, окружали долину со всех сторон, окутывая ее таинственной печалью отрезанного от мира райского уголка.
Когда показались вишневые деревья, они замерли в радостном удивлении: вишни были уже красными, двадцатого апреля![43]43
Речь идет не об обычной вишне, а о лавровишне, которая на Пиренейском полуострове повсеместно цветет в апреле; очевидно, здесь речь идет о долине с особым микроклиматом, где преграждающие путь холодным ветрам горы значительно повышают температуру замкнутой котловины и способствуют ускорению естественного роста растений.
[Закрыть]
И ни души на дорогах, над которыми вишневые деревья распростерли усеянные кораллами ветки.
Изредка встречались еще пустые летние домики, заброшенные сады, заросшие высокой травой и шиповником.
Они пустили лошадь шагом и, стоя в повозке, отпустив поводья, ели вишни прямо с деревьев, не останавливаясь. Потом они вставили букетики себе в петлицы, а ветками вишен украсили голову лошади, упряжь и фонарь; маленькая повозка, казалось, спешила на какой-то праздник молодости и счастья.
– А теперь поедем быстрее! – попросила Грациоза. Надо приехать в Эчезар засветло, чтобы все увидели, как мы разукрашены!
А Рамунчо с приближением теплых сумерек все больше думал о вечернем свидании, о поцелуе, о том, как он коснется губами, словно спелой вишни, нежных губ Грациозы.
18
Май! Трава, трава поднимается отовсюду и раскидывается, словно возникший из-под земли роскошный шелковистый бархатный ковер.
Чтобы орошать этот край басков, где лето такое же влажное и зеленое, но более теплое, чем в Бретани, морские испарения концентрируются все в этой части Бискайского залива, сгущаются в тучи над пиренейскими вершинами и изливаются дождями.
Вдоль дорог сплошной полосой тянутся пастбища. Края тропинок покрыты густыми пушистыми всходами маиса; и куда ни кинь взгляд – цветы: огромные маргаритки, золотистые лютики на тонких высоких стеблях, майские ландыши и большие розовые мальвы, похожие на те, что распускаются весной в Алжире.
А вечерами в долгих теплых сумерках нежно позванивают укрытые зацепившимися за склоны гор облаками бледно-сиреневые или голубовато-серые майские колокольчики.
В течение всего мая Грациоза то и дело ходила в церковь с монашенками. Часто под дождем они проходили вместе через заросшее розами кладбище. Вместе, всегда вместе, тайная невеста Рамунчо в своем ярком платьице и девушки в чепцах и траурных покрывалах, в немногословных речах и даже в наивном смехе которых не было жизни. Утром они приносили букеты цветов, маргариток и больших лилий; а вечером еще более звонко, чем днем, пели они ликующие и нежные гимны Деве Марии:
Слава Тебе, царица Ангелов! Звезда морей, слава Тебе!
О! Как ослепительна белизна лилий, освещенных свечами, как сияют их белые лепестки, осыпанные золотистой пыльцой! О! Как благоухают они в церкви и в садах весенними сумерками!
И едва Грациоза входила туда вечером, под замирающий гул колоколов, сменив бледный сумрак утопающего в розах кладбища на усыпанную звездами свечей ночь церкви, ароматы сена и роз на запах ладана и срезанных лилий, теплый и живой воздух мая на тяжелый могильный холод, которым протекшие столетия наполняют древние храмы, тотчас же какой-то особый покой снисходил в ее душу, усмирял желания, звал к отречению от всех земных радостей.
А потом, когда, преклонив колени, она слышала первые звуки взлетающих к гулким сводам песнопений, ее восторг переходил в религиозный экстаз, перед ее взором проплывали белые видения: белизна, белизна повсюду; лилии, мириады белых букетов и белые крылья, трепет ангельских крыльев.
О! Только бы оставаться так как можно дольше, забыть обо всем, ощущать себя чистой, освященной, непорочной под этим завораживающим, нежным, неумолимо влекущим взглядом Пресвятой Девы в длинных белых одеждах, устремленным на нее с высоты престола.
Но когда она выходила из церкви, весна снова обволакивала ее теплым дыханием жизни, и воспоминание о свидании, которое она обещала вчера, вчера, как и во все прочие дни, вихрем уносило прочь все церковные видения. Желание очутиться рядом с Рамунчо, вдохнуть запах его волос, почувствовать легкое прикосновение его усов и вкус его поцелуя кружило ей голову; ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание и упадет как подкошенная к ногам своих странных подруг, невозмутимых, словно призраки, черных монашенок.
И в условленный час, вопреки всем своим решениям, полная тревожного и страстного ожидания, она спешит к заветной скамье, вздрагивает от малейшего шороха в объятом мраком саду, замирает от мучительного нетерпения и страха, если любимый хоть на мгновение опаздывает.
И он всегда приходил бесшумным шагом контрабандиста, с не меньшим количеством предосторожностей и хитростей, чем для самых опасных ночных вылазок.
В дождливые ночи, на которые так щедра весна в краю басков, она оставалась в комнате на первом этаже, а он садился на подоконник открытого окна, не пытаясь войти, а впрочем, и не имея на это разрешения. Так они и сидели, она внутри, он снаружи, но руки их сплетались, а щека нежно прижималась к щеке.
В хорошую погоду она выпрыгивала из низкого окна и ждала его в саду на скамейке, где происходили их долгие молчаливые свидания. В этих свиданиях не было обычного шепота влюбленных, в них почти не было слов. Они не решались говорить, опасаясь быть обнаруженными, – ведь ночью слышен малейший шепот. Да и зачем было им говорить, если ничто не грозило помешать их встречам? Что могли они сказать друг другу, что говорило бы красноречивее, чем их сплетенные руки и склоненные друг к другу головы?
Страх быть застигнутыми врасплох заставлял их быть все время настороже, и эта тревога делала еще более сладостными те мгновения, когда, оправившись от испуга, они могли вновь отдаться своему чувству. Впрочем, опасались они только Аррошкоа, который был в курсе всех дел Рамунчо и не хуже него умел бесшумно передвигаться в ночном мраке. Он, конечно, был на стороне влюбленных, но кто знает, что бы он сделал, случись ему все узнать?..
О! старые каменные скамьи под деревьями у дверей одиноко стоящих домов в теплые весенние вечера!.. Их скамья была настоящим тайником любви, и каждый вечер в их честь раздавалась серенада: среди камней соседней стены жили древесные лягушки, и с наступлением ночи эти крохотные обитатели юга начинали свою нехитрую песенку: всего лишь одна повторяющаяся нота, короткая и забавная, напоминающая одновременно и звон хрустального колокольчика, и детский смех. Словно кто-то легко, без нажима прикасался к клавишам небесного органа. Эти лягушки были повсюду и перекликались на разные лады. Даже те, что прятались под скамейкой, совсем рядом с ними, успокоенные их неподвижностью, время от времени начинали петь. Услышав этот внезапно раздавшийся совсем рядом нежный звук, они вздрагивали от неожиданности и улыбались. Эта музыка словно наполняла жизнью восхитительную темноту ночи, проникая и в гущу листвы, и в камни, и в черные трещины в стенах и скалах; она напоминала то ли перезвон колоколов крохотных церквей, то ли тоненькое, чуть-чуть насмешливое – и совсем беззлобное – робкое пение гномов, пронизывающее ночь трепетом жизни и любви.
После пьянящей дерзости первых встреч они стали еще более пугливыми. Когда им надо было что-то сказать друг другу, они без слов брались за руки; это означало, что нужно тихо-тихо, по-кошачьи, идти до аллеи за домом, где можно говорить, не опасаясь быть услышанными.
– А где мы будем жить, Грациоза? – спросил как-то Рамунчо.
– Но… я думала, у тебя…
– Да! Я тоже… я тоже так думал… Только я боялся, что тебе будет грустно жить так далеко от церкви и от площади…
– О, разве с тобой мне может быть где-нибудь грустно?
– Тогда мы выселим тех, кто живет внизу, и займем большую комнату, которая выходит на дорогу в Аспариц…
И это тоже было счастьем, знать, что Грациоза согласна прийти в его дом, озарить светом своего присутствия старое и такое дорогое для него жилище, где они будут вить свое гнездо…








