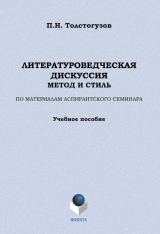
Текст книги "Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По материалам аспирантского семинара"
Автор книги: Павел Толстогузов
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Б.О.: И в котел ее не надо!
Л.К.-Б.: Этим объясняют, почему русские женщины красивее европейских. Потому что у нас не жгли красивых женщин.
А.С.: Один священник возвращался с дьяконом из Швейцарии. «Как тебе там?» – спрашивает священник. «Там спасаться проще». – «Почему?» – «Ты видел там женщин?» – «Нет, не помню». – «Вот то-то и оно! А вспомните, батюшка, как у нас в Москве-то…»
Р.В.: Это правда. У них и костюмы мешковатые…
Б.О.: Ну, это тема для отдельного семинара.
Р.В.: Да-да. Вот мы ведь воспринимаем это в современном ключе: как здорово, что Тристан и Изольда друг друга полюбили. А почему они друг друга полюбили? Они выпили колдовской напиток. Ничем, кроме колдовства, любовь не может быть вызвана. Поэтому Тристан нарушил обет феодальной верности. Это назидательное произведение. Я только что понял, что здесь есть параллель с «Песней о Стеньке Разине»: не должна женщина мешать мужчине служить своему господину. Не надо искать любовную лирику в средневековой литературе, ее там нет!
М.Р.:.И все-таки она там есть. Вот это-то и парадокс.
С.Ш.:
Под старой липой у сторожки
Ну и прием устроил мне,
Мать пресвятая, мой дружочек,
Я до сих пор горю в огне.
Поцеловал да раз пятьсот,
Ведь красен до сих пор мой рот…
Это Вальтер фон дер Фогельвейде. Это конец XII – начало XIII века. Причем это не просто лирика, а лирика ролевая, от имени женщины.
Р.В.: А вот крупный французский медиевист Ле Гофф в «Рождении Европы» пишет очень интересную вещь, что первоначально поцелуй в Европе, среди германцев, в раннее Средневековье, был распространен только среди мужчин и не имел никакого эротического смысла. Во время обряда оммажа, когда вассал давал клятву сеньору, сеньор должен был взять его руку и поцеловать в губы.
С.Ш.: То, что практиковалось в Политбюро.
Р.В.: Ле Гофф делает такое примечание, что поцелуй в губы, означающий мирные намерения, был распространен среди коммунистических руководителей Восточной Европы в XX веке. Когда в эпоху рыцарства начинают формироваться рыцарские представления о любви, отношения сеньора и вассала переносятся на отношения женщины и мужчины. Прекрасная Дама выступает по отношению к своему кавалеру как сеньор к вассалу. Это не современные отношения любви, предполагающие равноправие. Это обет верности, перенесенный на межполовую сферу. Ле Гофф пишет, что жена рыцаря не могла быть его Прекрасной Дамой. Почему?
М.Р.: Вы сами и сказали, почему. Во-первых, это проекция культа Девы Марии, а во-вторых, проекция отношений сеньориальных, поскольку она по статусу всегда должна быть выше.
Р.В.: Да, жена по статусу ниже мужа, а Прекрасная Дама символизирует сеньора, поэтому она должна быть выше.
М.Р.: Женщина вообще не субъект права.
Р.В.: Я об этом и говорю. Поэтому когда мы говорим о средневековой любовной лирике, мы совершаем некую модернизацию, если не учитываем средневековых представлений о феодальной верности.
М.Р.: Но если мы скажем, что ее вообще там нет, мы тоже погрешим против истины. Была любовная лирика.
С.Ш.: Все вроде так, но действительность богаче закона. (смех) Вы говорили о трубадурах, а я о миннезингерах. С нашего расстояния это как будто одно и то же. А вообще это конец X – начало XIII века, 200 с лишним лет от начала до конца. Немецкая рыцарская культура была немного позже, и поэтому в ней есть вещи, немыслимые для французской рыцарской культуры.
Р.В.: Ле Гофф в основном про Францию говорил, я думаю.
С.Ш.: Наверное. У Вальтера фон дер Фогельвейде есть просто предренессансные вещи, именно любовная лирика.
А.С.: Разложение Средневековья.
С.Ш.: Ну почему? Это высокое Средневековье. Если мы говорим, что и эпоха Возрождения – это разлагающееся средневековье, то оно разлагается полтысячи лет.
Р.В.: Когда я говорил, что нет любовной лирики в Средние века (и, кстати, остаюсь на этой точке зрения), как нет ее и в античности, то, строго говоря, имел в виду, что в том понимании, которое мы вкладываем в термин «любовь», в средневековой литературе не было любовной лирики, и тем более не было ее в античности, так как не существовало представления о личности в современном смысле слова, человек понимался как природная стихия.
М.Р.: Мы говорим, что это те же люди, но жившие в других условиях, поэтому видевшие все иначе? Тогда мы их вообще не поймем.
Р.В.: Нет, совершенно правильно в самом начале было сказано про историю литературы, а я бы сказал это про историю. История нам дана для самопознания. По-моему, человек существо не историческое, человек бессмертное существо, так как душа бессмертна, но мы находимся в истории, в истории сами себя раскрываем. В античности человек был личностью, потому что человек от природы является личностью, но в античности он не воспринимал себя как личность, как нечто уникальное, незаменимое. В средневековье он начинает раскрывать себя как образ Божий, а новая эпоха приносит понимание человека как человека.
И еще я хотел бы добавить пару слов о литературе, а литературоведы дадут этому профессиональную оценку. Я думал, что такое литература. Я понимаю, что это глупо звучит, но все же. Философия – это теоретическое, понятийное мышление, осмысляющее абсолют. Мышление рождается из мифа. В мифе мышления нет, в первобытную эпоху человек не мыслил понятиями, потому что мыслить понятиями означает чувствовать себя немного чуждым окружающему. Например, я мыслю Бориса, значит, я понимаю, что я и Борис – это разные люди. Я субъект, а он объект мышления. Можно и наоборот, если он меня мыслит. А первобытный человек не чувствует себя чем-то отличным от общины, от природы, даже от животных. Отсюда представление о превращении человека в животное, об оборотничестве. Мышление возникает в процессе самоотчуждения, противостояния субъекта и объекта. В диалектике оно снимается, диалектика нас возвращает к мифу, но уже на более высоком уровне, к философскому мифу, как в неоплатонизме. Для литератора инструмент – язык. Чем отличается литературное произведение как феномен языка от простой информации? Тем, что здесь присутствует эстетический момент, а эстетика – это тоже отчуждение. Чтобы эстетически оценивать, нужно находиться вовне. Если считать, что мышление, как Гегель говорил, это дух, который отрицает сам себя, противопоставляет себя самому себе, то общий ответ будет таким: литература – это язык, который самоотчуждается и начинает себя созерцать как эстетический феномен. Литератор не просто сообщает нечто, а сообщает так, что это звучит красиво. [Это ужасно. Я понимаю, что он хотел сказать другое, но. Мы и так слишком часто получаем от учеников (продвинутых, олимпиадников) и учителей ответы типа: – Зачем здесь аллитерация, ассонанс и пр.? – Чтобы звучало красивее. – Ред.] Можно посмотреть на историю литературы как на процесс развития само-отчужденного языка. Может быть, что-то из этого получится.
С.Ш.: Конечно. Можно даже на этот язык посмотреть с обратной стороны, с территории лингвистики как на уровень языка. Фонетика, морфология, синтаксис. и поэтика один из этих уровней и развивается по тем же самым примерно законам семантического переноса».
Вопросы и задания
1. Попробуйте найти формальное логическое противоречие в рассуждении докладчика Р. Р. Вахитова о «систематическом» и «историческом» изложении материала в гуманитарных курсах.
2. Если противоречие найдено, ответьте на вопрос: является ли оно противоречием по существу?
3. К какому виду аргументов следует отнести сравнение Л. А. Каракуц-Бородиной, в котором участвуют слоны и писатели?
4. Являются ли слова докладчика о необходимости признать за учебным предметом (предметом исследования) самостоятельную сущность и обеспечить для этой сущности единство ви́дения – контраргументом или аргументом в пользу ранее высказанного мнения о важности авторизации учебного курса?
5. Кратко опишите внутренний сюжет в пространном рассуждении докладчика. начинающемся словами «Но философами они от этого не становятся».
6. Как вы думаете, какие задачи в литературоведческой дискуссии хотел решить докладчик, давая столь обширный обзор истории философии?
7. Скажите, какой характер имеет вмешательство редактора в текст доклада Р. Р. Вахитова? Можно ли считать это вмешательство функциональным? Если да/нет, то почему?
8. Что означает тезис Р. Р. Вахитова «мы не должны модернизировать историю философии»?
9. Как Вы думаете, чем (психологически?) вызвана смеховая ситуация, возникшая к концу доклада?
10. Чьи аргументы в «случайно» возникшем споре о любовной теме в средневековой литературе вы бы признали наиболее весомыми и почему?
11. В чем смысл несогласия вокруг понятий «разложение» эпохи и «высокое» состояние эпохи (реплики А.П. Соловьева и С.М. Шаулова)?
12. Чем, на ваш взгляд, отличается стиль высказываний философа Р. Р. Вахитова от стиля высказываний участников-филологов?
13. Считаете ли вы, что изложение докладчика соответствовало заявленной теме дискуссии? Если да/нет, то почему?
14. Попробуйте снабдить аргументами / контраргументами мысль докладчика о литературе как о явлении «самоотчуждения» языка.
15. Почему, на ваш взгляд, редактор так болезненно отнеслась к слову «красиво» в словах докладчика? Вообще – в каких случаях «оживляется» редактор со своими пометками и заметками?
16. Что, по вашему мнению, означает тезис С. М. Шаулова о взгляде на литературу «с территории лингвистики как на уровень языка»? Почему он называет это взглядом «с обратной стороны»?
17. Какой вам представляется основная параллель, заявленная Р. Р. Вахитовым в докладе: «философия и история философии» это примерно то же самое, что и «литература и история литературы», – обоснованной (в том числе ходом рассуждений самого докладчика) или не вполне обоснованной?
Промежуточное резюме
Доклад Р. Р. Вахитова, судя по некоторым признакам, ожидался как ultima ratio основной темы для этого состава участников обсуждения (особый вид активности докладчика в предыдущих фазах дискуссии намекал на это). Для ощущения коллоквиума доклад эту роль, скорее, сыграл, а для заполнения предложенной тематической рамки, скорее, нет. Т. е. в логике предшествующих горестных констатаций по поводу реплик внешних корреспондентов и здесь можно было бы сказать: нет, опять не о том…
О чём же? Докладчик оговорил параллель истории литературы и истории философии и повёл речь о «систематическом» и «историческом» изложении материала в гуманитарных курсах, при этом непоследовательно отдав вначале предпочтение историзму, а затем пропев небольшую осанну систематике, которая, в пику сумятице исторических фактов и мнений, свидетельствует о «культуре мышления» (эта непоследовательность, в свою очередь, наверное, свидетельствует о том, что приведение в оппозицию двух видов изложения вряд ли полезно). При этом он оговорил свое представление об историзме: «не нужно подменять историю философии историей философов». Т. е. ввёл разграничение подлинного (не противоречащего систематике?) и мнимого историзма, тем самым вроде бы сняв проблему собственной непоследовательности. (Правда, осталось неясным, как «философия» – не «философы»! – может переживать «интеллектуальные драмы»? Разве что в виде какой-то сценической персонификации.)
Постепенно – и вне зависимости от усилий докладчика доказать противное – прояснялся тот момент, что параллель истории литературы и истории философии не вполне корректна. Если на философию при определенных допущениях еще можно взглянуть как на процесс исторической самоорганизации мысли, то литература как «письменность» и «словесность» сопротивляется сплошной объективации во внеличностные процессы. Отсюда некоторые суждения докладчика приобретают слишком уязвимый характер, например: «Хороший литератор не тот, кто пишет все, что ему придет в голову. Это графоман, его мнение никому не интересно, так как он выражает свою индивидуальность» (на это можно возразить, что авторская литература именно этим-то, т. е. выражением индивидуального, и интересна; графоманство же интересно не тем, чего в нём, видимо, нет, а, напротив, усиленной актуализацией общих мест: мания всегда привязана к постоянно воспроизводимым ролям и жанрам).
В целом же докладчик (закономерно?) совершает поворот к общим основаниям (что такое «литература» и т. п.), тем самым вновь – в который раз за время дискуссии – уходя от решения задачи, поставленной Ведущим, и заставляя вспомнить очень уместную цитату из пока ещё памятных многим трудов В.И. Ленина (об «общих вопросах»), приведенную до этого С.М. Шауловым.
Раздел пятый. «Закрытый» и «открытый» финалы обсуждения
«Р.В.: Мне очень дорога мысль, что не литература творится поэтами и писателями, а наоборот, поэты и писатели являются агентами языка. У Бродского я встречал это.
Л.К.-Б.: В Нобелевской лекции. «Поэт, повторяю, есть орудие языка. Он тот, кем язык жив».
Р.В.: Я с ним совершенно согласен. Литература есть развитие языка, но особого языка. Мы можем в лингвистике проследить историческое развитие языка, а это язык самоотчужденный, сам себе противопоставленный. Как философ подчиняется законам развития истории философии, так же и литератор подчиняется законам, скажем так, выразительности языка. Если найти эти законы, можно излагать систематически историю литературы.
С.Д.: Разве мы можем свести литературу к языку? Тот же Бахтин заявляет, что художник мыслит моментами мира, преодолевая язык в своем творении.
С.Ш.: Он преодолевает именно тот язык, который ему достается.
С.Д.: Да, но можно ли свести это все только к языку?
Р.В.: А мне кажется, можно.
С.Д.: Нет. Получается, что красиво сказал – и все. [Видите? Как можно оторвать КАК от ЧТО, во-первых, и свести КАК к красивости, во-вторых? – Ред.]
Л.К.-Б.: А можно резюме? Извините, что я берусь за это. Получается, что преподавание литературы на любом уровне (от школы до университета) можно свести к комментированию как к методу и к интерпретации как к цели. К историческому комментированию (о котором вы говорили), к литературоведческому комментированию (это я не очень понимаю, но, по крайней мере, сюда может относиться комментирование на уровне темы, идеи, образа автора) и к лингвистическому (что я более или менее понимаю). Для тех учительниц, о которых говорил Сергей Михайлович, и с которыми мне тоже доводилось работать в течение трех лет в Башкирском институте развития образования, что бы они ни говорили, читая стихотворение Самойлова «Беатриче», все сводилось к вопросу: «Так у них было что-нибудь или нет?».
Б.О.: «Не нужен был третий // Этой женщине и Алигьери»[13]13
Из стихотворения Давида Самойлова «Беатриче».
[Закрыть].
Л.К.-Б.: Да. «Так они встречались или не встречались?» Требуется какая-то очень тонкая работа, но как это делать, не очень понятно.
Р.В.: Может быть, я не это имел в виду все-таки?
Л.К.-Б.: Вы толковали, как мне кажется, очень долго об этом, когда говорили об историзме.
Р.В.: Я говорил о том, что это не должен быть пересказ произведений. Это должно быть понимание литературы (я предлагаю понимать литературу как самоотчужденный язык), по каким законам она развивается. Раньше, когда преподавалась марксистская философия, история философии подменялась историей экономики и политики. Нам говорили: сначала в Греции были натурфилософы, потом вдруг появляются софисты, потому что разрастался полис, торговля расширялась, появлялись люди-индивидуалисты. Эти индивидуалисты больше интересуются самим человеком и начинают сомневаться в правоте отеческой религии. Это все правда, но вот так просто переносить экономические отношения в область философии невозможно и неправильно. Философия развивается по своим внутренним законам, хотя ее развитие отражает развитие экономики, политики и т. д. Концепция, скажем так, Гегеля – Лосева дала мне ответ, почему, например, появляются софисты. Потому что натурфилософы то одну сторону космоса выдвигают, то другую, диалектики у них нет, и они не могут разрешить эту антиномию. Софисты делают великое дело. Они заявляют, что прежде чем постигать первоначала космоса, нужно изучить само человеческое мышление. Это трансцендентальный переворот. Таким образом можно диалектически показать переход от натурфилософов к софистам.
Для меня удовлетворительной будет такая история литературы, где будет показан диалектический переход от античной лирики к театру, от классицизма к сентиментализму, не потому что произошли какие-то экономические изменения и появился сентиментализм, а как диалектически из классицизма вырастает его противоположность.
Л.К.-Б.: Вы блестяще на множестве примеров раскрываете принцип историзма, исторического мышления.
Р.В.: Ну, скажем так, логического историзма, а не фактического историзма.
М.Р.: Я в докладе Рустема Ринатовича увидела две парадигмы, хотя и дополняющие друг друга. Идея, что в основе каждой философской системы лежит свой миф, и некий принцип, который смог бы показать внутреннюю логику смены этих мифов.
Р.В.: И более того: внутри каждой эпохи идет осмысление этого мифа, оно тоже происходит по определенным законам.
М.Р.: В каждой системе прорастает зародыш следующей, важно, по каким законам происходит развитие. Здесь возникает вопрос применительно к истории литературы. Можно построить историю литературы таким образом, но это будет определенное ограничение, потому что если мы возьмем только язык [хотела бы я представить, как это можно сделать – взять только язык. Это что? Лексика? А почему такая, а не иная? А это уже диалог, интертекстуальный, интерперсональный и т. д. Почему такой синтаксис, а не иной? А это уже и смысл, и замысел, и жанр, и литературное направление, и т. д. и т. д. – Ред.], то мы утрачиваем большой пласт, о котором мы неизбежно должны говорить. К примеру, тот миф, который существует в культуре. Можно построить историю литературы как историю жанров, но это опять будет определенным ограничением. Перед нами будет стоять выбор, и выбор этот будет субъективным и, возможно, модернизирующим.
Р.В.: Я не говорю, что то понимание, которое я излагаю, и которое, кстати сказать, у меня еще не до конца сформировалось, надо ввести во всех университетах Российской Федерации как обязательное. Я думаю, как мне построить изложение материала, чтобы не предстало все как какая-то мешанина мнений. Может быть, можно обозначить параллели с историей литературы. Мне все-таки близка мысль, что язык – это форма мышления и литература – форма мышления, поэтому должны действовать общие законы мышления.
С.Ш.: До чистого схематизма это доходило в первые десятилетия XX века у немецких литературоведов. В тот момент, когда усваивался литературоведением сам термин «барокко» в применении к литературным явлениям (Вельфлин). У Ворингера есть мысль, что вся история искусства (а литература одно из искусств) есть борьба и смена в доминирующей позиции искусства впечатления и искусства выражения. Тогда выстраивается синусоида, в верхней части которой будут готика, барокко, романтизм, экспрессионизм, неоромантизм XX века, а нижние пики – ренессанс, классицизм, реализм. Но это просто схема. Эти пики оказываются смещенными во времени. Барокко противоречит классицизму совсем не так антагонистически. Это одно и то же явление, увиденное с разных сторон. Вы смотрите на этот профиль слева, а кто-то справа, и вы видите разные профили. От этих схем потом отошли. Как только приходишь к какой-либо схеме, оказывается, что это не более чем абстракция, это как линейка с миллиметрами, которую можно прикладывать к реалиям литературы, и тогда становится понятно, что есть что на самом деле в истории во взаимной корреляции и как на самом деле складывались отношения между пиками этой синусоиды. Но такая история была построена сто лет назад.
С.Д.: А понятие эпохи готового слова у Аверинцева и Михайлова? Это ведь тоже объяснительный принцип.
С.Ш.: В принципе, да. Барокко как конец риторической эпохи и, соответственно, романтизм как литературная революция. Тут оказывается важным уровень, с которого мы рассматриваем этот процесс. Эпоха романтизма это, с одной стороны, первая треть Х!Х века, а с другой – она пока не кончилась. Для Михайлова барокко завершает двухтысячелетнюю риторическую эпоху, а я вижу, что барокко – это начало немецкой национальной литературы, и оказывается, что это не конец, а начало.
С.Д.: То есть в другой системе измерений все по-другому выглядит. С точки зрения «большого времени».
С.Ш.: В истории не бывает концов и начал.
Р.В.: Одни только переходы в истории.
С.Ш.: Как сказал мой замечательный друг доктор Мегентесов, наука – это структурирование неструктурного. Проблема в этом.
Р.В.: Я согласен, что схема упрощает реальность, в реальности всегда присутствует момент иррациональный, неструктурируемый. Я как платоник могу сказать: идея погружается в материю и благодаря этому возникает несовершенство. Но мы говорим о педагогике, о преподавании. Без схемы преподавать невозможно.
Б.О.: Нам нужно упрощение в методических целях.
С.Ш.: Да, мы должны что-то принять. Без этого мы не поделим материал на пропедевтические курсы.
Л.К.-Б.: Дидактические единицы! (общий смех)
Р.В.: Это смешно, но это действительно так. Чтобы построить здание, нужны леса. И вот такие леса нужны педагогике.
С.Ш.: Если взять вашу (или лосевскую) концепцию этих периодов, опять важно, с какой стороны смотреть. Сам Лосев последний неоплатоник. После ассимиляции неоплатонизма с христианством он становится христианским неоплатоником. В этом смысле платонизм вообще поглощает историю и ни на что не делится.
Р.В.: В каком-то смысле по Лосеву неоплатонизм и есть философия.
С.Д.: То есть возникает вопрос, какой миф лежит в основе философии самого Лосева.
С.Ш.: В связи с этим возникает вопрос: материализм – это тоже философия? Когда я думаю о материализме в том смысле, в котором нам его преподали, дальше слова «материализм» я вообще не могу пойти мыслью. Там и нет философии.
Р.В.: То, что нам преподавали под названием «марксизм», даже не было марксизмом. Кстати говоря, это действительно была просто схема.
Л.К.-Б.: Три этапа освободительного движения в России, как в них все здорово укладывалось!
А.С.: В том-то и дело, что не все. Тут обрезание было, что называется, по полной. (смех) Я хотел бы добавить: мы говорили о науке и о преподавании.
Хороший специалист не тот, кто все знает, а тот, кто умеет это найти. Поэтому вопрос не в схеме, которая систематизировала бы знания по полочкам, философия начинается с удивления. В мифе все уже объяснено, там не надо ничего понимать и объяснять. Важнее увидеть проблему, чем дать знания. В этом плане схема изложения материала Рустема Ринатовича работает. Но я в эту цепочку Гегель-Лосев добавлю несколько звеньев: Хомяков, Данилевский, Леонтьев, так как акцент я делаю не на диалектике истории философской мысли в ее целостности, а на типологии философских эпох. Так, есть средневековый тип философии, он зарождается в античности и находит свое целостное завершение в Новое время. То же и с античностью. Античность заканчивается, когда начинается христианство – в V в. н. э.
Б.О.: Можно вопрос? То, что вы говорите, очень разумно и спорить с этим трудно. Это противоречит мнению Толстогузова, когда он возражает против нарушения хронологии в преподавании?
А.С.: Нет, тут нет нарушения хронологии. Просто логика есть не только историческая, но и внутренняя. Я хотел привести классический пример из истории русской философии – Василий Васильевич Зеньковский, который начинает и заканчивает проблемами методологии философского исследования (не преподавания). Он говорит, что при подаче материала и при исследовании главная задача историка философии – выявить исходную интуицию мыслителя; зная это, мы можем сопоставить исходные интуиции разных философов, «пунктик» того или иного философа.
Л.К.-Б.: Это аналогично стилистике декодирования в филологии.
А.С.: Это дает возможность для творческой работы. Я даю такое задание: на белом листочке с цифрами 1, 2, 3 я даю отрывки из Платона, Августина, Фомы Аквинского и говорю: я рассказал про Платона, Августина и Фому. Чей это текст и на каких основаниях вы сделали вывод? Так студенты получают возможность самостоятельно работать. [И в литературе мы даем тексты, например, трех элегий и просим сделать выводы о развитии элегического жанра, можно и усложнить задание, и упростить. – Ред.]
Р.В.: Мне ценно, что сказал Артем. За разговорами о схемах я забыл то, о чем говорил вначале. Я приводил слова Лосева о том, что история философии тем и хороша, что учит мыслить, в отличие от систематической философии, которая дает готовые конструкции.
С.Д.: История философии учит мыслить. История литературы чему учит?
Р.В.: Важно не то, что мы даем схему, а то, что эта схема внутренне подвижная, она развивается, в ней есть диалектика. Человек, изучивший историю философии, должен прежде всего научиться этой диалектике, чтобы ее применять в разных областях. Я не специалист, но я попробую сформулировать: задача преподавания истории литературы не в том, чтобы как можно больше произведений прочитал студент, а в том, чтобы он научился литературоведческому анализу (именно с принципом историзма).
Л.К.-Б.: Идеальная форма преподавания литературы показана в фильме «Человек эпохи Возрождения» с милейшим Дэнни в главной роли. Там выгнанный с работы журналист попадает на единственно возможное место, которое предлагает ему биржа труда, – в военную школу, в самую тупую безнадежную группу. Интеллектуальные способности их просто на нуле. Он начинает с ними читать «Гамлета», они занимаются историко-культурным комментарием текста. В результате эта группа не только понимает «Гамлета», в перспективе они читают и другие книги мировой литературы, а в результате становятся отличными офицерами.
Р.В.: Человек, который читает «Гамлета», не может быть хорошим офицером. Простите меня, пожалуйста, но это мое глубокое убеждение.
Р.К.: Я бы хотел опуститься с высот философии ближе к школе. Прежде чем преподавать историю литературы, хотелось бы определить, чему мы должны научить, преподавая литературу. Мы выдвинули перед учителями три аспекта, на которые нужно было бы обратить внимание при преподавании многих дисциплин (не только литературы): 1) научить учащихся думать, рассуждать; 2) развить умение индивидуально относиться к информации, событиям; 3) научить действовать в реальной ситуации. Если ученик будет вооружен этими тремя параметрами, мы сможем поднять его общий уровень культуры. Правильно ли это?
Л.К.-Б.: Из этой системы начисто исключено развитие вкуса, возможность оценивать эстетическое произведение. Относиться – да, они могут сказать: так в жизни бывает, Анна Каренина неправильно поступила, как говорит моя соседка тетя Шура. Но оценивать с точки зрения того, как это сделано, вряд ли. Самое страшное, что так преподают учителя в школе. С этим приходят студенты, и это превращается в порочный круг.
С.Д.: Литература превращается просто в пример жизни. В жизни так бывает – и вот вам пример, пожалуйста: Лев Толстой писал для того, чтобы показать, что под поезд бросаться плохо.
Р.В.: (смеясь) Конечно! «Мне отмщение и аз воздам». Плохо мужу изменять, каким бы дурным он ни был!
Р.К.: Но тогда вы должны высказать и свою точку зрения. Я высказал свою. Под отношением я понимаю и то, что вы говорите. Отношенческий фактор очень широкий.
С.Д.: Тогда это широкий ценностный аспект получается.
Р.К.: Это и общечеловеческие ценности, и эстетические. Может быть, что-то еще надо добавить? Можно ли так ставить вопрос перед учителями, пусть даже литературы?
А.С.: Как философу, мне нравится первый пункт – учить думать. И в частном порядке я хотел спросить, верно ли я понимаю: та система, которая сейчас вводится в начальных классах – Эльконина-Давыдова – как раз учит детей думать. Не знание чисел и операций с ними, а понимание, что за ними стоит, оперирование с абстрактными величинами. Так детей учат с первого класса. Это уже первый шаг.
Р.К.: Это «Программа 2100». Она направлена на развитие личностных качеств через умение думать, рассуждать, относиться, действовать. Мы имеем сейчас лишь инфантильных потребителей. Они могут хорошо написать про экологию, но сами экологически не поступать. То есть знания не соотносятся с собственным поведением.
А.С.: С философами в этом смысле все понятно. Понимаю, как можно помочь человеку научиться думать, размышлять, сравнивать. Но как подать литературу в таком плане?
С.Ш.: Мне кажется, нужно ему позволять думать.
Р.В.: Мы живем в литературоцентричной стране, где литература часто выполняла несвойственные ей функции. Она была политической и публицистической, поскольку было невозможно выразить все это иначе. Литература должна давать и какие-то нравственные ориентиры, я с этим согласен. Но нельзя доводить до морализаторства. Литература – это искусство. И цель учителя литературы (если уж говорить про школу, а до сих пор мы говорили про историю литературы, т. е. про вуз) – показать красоту литературы. [Если бы только в этом месте, то можно оставить. – Ред.]
Post actum
С.Д.: Трудность в переносе того, что говорил Р.В. об истории философии, на историю литературы в том, что в первом случае историк философии и философ говорят одним языком. А историк литературы говорит на одном семиотическом языке, в то время как предмет изучения функционирует в другом семиотическом поле. Необходим перевод с одного языка на другой. Уже здесь возникает разница между историей философии и историей литературы».
Вопросы и задания
1. Редактор продолжает активно участвовать и на этом отрезке дискуссии… Дает ли этот факт какую-то дополнительную характеристику ходу обсуждения?
2. Р. Р. Вахитов цитирует Иосифа Бродского «поэты и писатели являются агентами языка» и снабжает эти слова своим толкованием: «литератор подчиняется законам, скажем так, выразительности языка». Насколько цитата и ее истолкование близки друг другу? С чем связано в этом случае принципиальное возражение С.Ю. Данилина?
3. С чем связана попытка «резюме» у Л.А. Каракуц-Бородиной? Почему она возникает в контексте разговора о языке, не раньше и не позже? Что на деле содержит это странное, на первый взгляд, «резюме»?
4. С чем связано настойчивое определение литературы как «самоотчужденного языка» Р. Р. Вахитовым? Какова при этом, так сказать, «интенция» участника?
5. Разговор в итоге возвращается к обсуждению природы литературы («пример жизни», «как сделано» и т. п.). Это неизбежно в логике всей дискуссии или просто зависит от непредсказуемых поворотов беседы?
Промежуточное резюме
В этой (финальной) части обсуждения актуализируется вопрос о «языке», поставленный до этого в докладе Р. Р. Вахитова. Мысль (упрощённая, конечно, в интересах резюме) примерно такова: язык является самостоятельной сущностью, претерпевающей историческое развитие в русле определённых закономерностей. Если мы отнесёмся к литературе как к «особому языку» (Р. Р. Вахитов), то наука о ней предстанет как «литературоведческая лингвистика» со всеми вытекающими из этого следствиями – как для содержания учебных курсов, так и для их структуры. Осталось открыть законы и «можно излагать систематически историю литературы» (Р. Р. Вахитов).
Этот тезис вызывает возражения, связанные с толкованием слова «язык»: расширенным и суженным. Т. е. если речь идёт о естественном языке, то писатель «преодолевает» его (С. Данилин со ссылкой на Бахтина). Докладчик же, конечно, имеет в виду не естественный язык, а язык как некую мистифицированную сущность (отсюда не случайна отсылка к Бродскому), который не только овладевает «говорящими», но и является своеобразным аналогом гегелевского исторического духа, прокладывающего себе путь по какому-то собственному разумению. Тем не менее это различие толкований понятия «язык» не было вовремя вскрыто, и разговор после реплики Л. Каракуц-Бородиной (о сложностях передачи навыков интерпретации и воспитания вкуса) поменял русло.
Здесь самое время сделать отступление на тему «как по-разному может быть воспринята речь». Формальное и неформальное коммуникативное лидерство Р. Р. Вахитова должно было отступить перед ситуацией неоднозначной рецепции его собственных слов. Так, Л. Каракуц-Бородина услышала в его докладе призыв к «тонкому» комментированию текстов или, иначе, к воспитанию исторической и эстетической чувствительности в слушателях.
В русле этого отхода от довлеющей систематики оказывается и рассуждение С. М. Шаулова: об исторической бедности культурологического и литературоведческого схематизма (пример Ворингера) и о правомерности (принципиальной совместимости?) двух или нескольких контрастных точек зрения на явление культуры («Для Михайлова барокко завершает двухтысячелетнюю риторическую эпоху, а я вижу, что барокко – это начало немецкой национальной литературы, и оказывается, что это не конец, а начало»). С. Данилин подытоживает это рассуждение фразой о нескольких «системах измерений». Мы, в свою очередь, напомним друг другу о принципе дополнительности, который предполагает учёт позиции наблюдателя.
Тем не менее, применение этого принципа не отменяет основного условия преподавания: давать можно только то, что можно взять[14]14
При первом приближении «преподавать» кажется тем способом преподнесения материала, который максимально учитывает – даже с определённой церемонностью – интерес принимающего (то, что дают). Мы же, и это уже не «кажется», привыкли понимать позицию преподавания как позицию верховного распорядителя (бери, что дают, и успевай при этом: уронишь – твои проблемы). Вряд ли в нашей современности продуктивны обе эти позиции: историческая и актуальная. В качестве настоятельной альтернативы видится какой-то арбитраж, в котором оказались бы совмещены преподнесение и распоряжение, суверенность и власть, вопрос и осторожный ответ.
[Закрыть]. Об этом вспоминает Р.Р. Вахитов: «Без схемы преподавать невозможно». С другой стороны, «важнее увидеть проблему, чем дать знания» (А.С. Соловьев). Но ведь проблема сколь осознаётся, столь и переживается. Если она не была до этого твоим переживанием, то она может стать им только в результате сопереживания: «Мне нравится, Сократ, то, что ты говоришь» («Лахет»). Так мы вновь возвращаемся к проблеме личности преподавателя (даже если и не говорим об этом открыто).(В скобках важно отметить развитие концепций и уточнение позиций некоторых участников, происходившее по ходу беседы. Ср. реплику Р.Р. Вахитова: «Мне ценно, что сказал Артём (А.П. Соловьев, говоривший о необходимости выявления «исходных интуиций» авторов – П.Т.). За разговорами о схемах я забыл то, о чем говорил вначале». Это наблюдение важно потому, что внутренняя готовность к корректировкам собственной точки зрения и её риторические экспликации являются неотъемлемой составляющей коммуникативной компетенции в научных дискуссиях).
Возвращение к «общему» вновь вовлекло в обсуждение проблему литературы: реплика Р.Х. Калимуллина (о том, «чему мы должны научить, преподавая литературу») с неизбежностью приводит к вопросу о природе предмета литературоведения. В обмене мнениями об этом были разграничены эстетический и прагматический критерии в отношении к литературе (Л.А. Каракуц-Бородина, С.Ю. Данилин, Р.Р. Вахитов). В заключение были высказаны 1) старая ясная мысль о России как о «литературоцентричной» стране (Р. Р. Вахитов) и 2) не вполне ясная мысль С.Ю. Данилина о разных «семиотических полях» историка литературы и самой литературы. Поскольку слова С.Ю. Данилина пришлись на абсолютный конец стенограммы (post actum по рубрикации ведущего), то я предложил участникам аспирантского семинара «распутать» это высказывание до состояния более или менее отчётливого тезиса и выяснить его отношение к дискуссии в целом.
После примерно получасового обсуждения мы пришли к выводам, которые заслуживают внимания независимо от того, имел в виду С.Ю. Данилин только это или что-то ещё. Во-первых, было обращено пристальное внимание на постоянно возникавшую в уфимской дискуссии аналогию между проблемами преподавания философии и литературы. Автор последней реплики указывает на то, что прямой «перенос» здесь вряд ли возможен, поскольку «историк философии и философ говорят одним языком», а «историк литературы говорит на одном семиотическом языке, в то время как предмет изучения функционирует в другом семиотическом поле». Позволительно предположить, что речь идёт об общей для историка философии и философа привычке мыслить и оперировать специфицированными отвлечёнными понятиями и общем пафосе аналитического подхода к их предметам, тогда как историк литературы и литератор представляют собой людей совершенно разных занятий.
В связи и рядом с этим возникает другое, не менее интересное суждение: философия изначально – от софистических школ, рощи Академа и Ликея – заявляется и структурируется как преподавание, тогда как авторская (и в значительной степени доавторская) литература изначально воспринимается, с той или иной степенью взыскательности, как предмет досуга. Преподавание литературы мыслится как область практической поэтики и риторики, позже
– теории и истории, но не литературы как таковой (преподавание литературы как «мастерства» в Новое время иногда совершалось в рамках литературных групп, в советский период приобрело вид образовательной оффиции – «института литературы», но почти всегда предмет преподавания осознавался как что-то не вполне подвластное преподаванию, что-то не вполне преподносимое, т. е. то, что нельзя толком взять).
Что влечёт за собой признание этой отчётливой разницы? Именно то, что преподавание литературы, если оно желает сохранить теоретическое достоинство, должно построить себя как систематический курс и вместе с тем отдавать себе отчёт в том, что значительная часть предмета должна быть выведена в область угадывания и вкусовых оценок. Отсюда задача «как построить курс истории литературы» неотделима от задачи «как себя вести».
Таким образом мы стали свидетелями особой ситуации: дискуссия организуется не только предварительными установками (пусть и разделёнными большинством участников), но и некоей самостоятельной логикой предмета обсуждения, заставляющей вновь и вновь возвращаться к тому, что вроде бы было признано уводящим в сторону экскурсом. Причём попытка привести беседу к соответствию с предварительной установкой даёт, как правило, «закрытый» финал: принудительное подытоживание темы. К этому ведут дело формальные коммуникативные лидеры, чьё первенство оспаривается с позиции «постороннего». Гадамеровское первенство вопроса обусловлено именно сосредоточенностью на предмете обсуждения, а не на коммуникативных тактиках; т. е. импликации сущности делают перспективы разговора открытыми в рабочем смысле этого определения.








