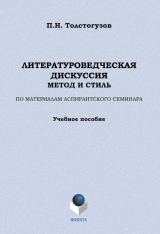
Текст книги "Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По материалам аспирантского семинара"
Автор книги: Павел Толстогузов
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Р.В.: Иконописец скажет, что икона – это тоже «реалистическая» живопись.
С.Ш.: Конечно. Она отсылает к реальности. У студента нет фоновых знаний, с которым должна перекликаться, быть диалогизирована эта история литературы, нет багажа культуры, т. е. нет среднего образования.
Р.К.: В школе мы проводили исследование и пришли к выводу, что знания это хорошо, но у ученика нет общих учебных умений. Провели простой эксперимент: сначала преподавание велось только словесно, как обычно. И этот же материал студентка повторяла еще один раз, все это делая графически на доске. Многие учащиеся стали усваивать материал лучше, стали лучше это все представлять. Может быть, с этого нужно начинать, с методов, которые касаются общей культуры. Общая культура в литературе, умение учиться. И, может быть, это даст толчок.
Р.В.: Я преподаю историю философии. Передо мной стоит проблема, как преподавать. Я хотел сегодня об этом рассказать, но пока так же далек от этого момента, как и когда только пришел сюда. Но вот о чем я хочу сказать. Если ставить перед собой цель, чтобы студенты прочитали все философские тексты и ориентировались в них, то это нереально. Я боюсь уронить себя в ваших глазах, но я сам не читал всех философских текстов. Мы к студентам предъявляем нереальные требования. А студенты вынуждены выкручиваться: пересказывать друг другу сюжеты, покупать разные книжки. Не нужно предъявлять к ним дурацкие требования. Как я сейчас смотрю на это: историк философии должен раскрыть теоретическое понимание философии, раскрыть внутреннюю диалектику ее развития и дать в руки студенту диалектический инструментарий, который он и дальше будет использовать. Хорошо, если он прочитал базовые тексты Платона, Фомы Аквинского и Гегеля. Но он знает, что такое историкофилософский анализ, и может его применять. Мы научили его диалектически мыслить. И поэтому он может раскрыть Франсиско Суареса и, применяя тот же инструментарий, уже его анализировать. То же самое и в истории литературы. Нельзя требовать, чтобы студент прочитал эту гору книг. Пусть на базовых текстах он научится историко-литературному анализу.
М.Р.: Но тогда возникает вопрос, что же такое литературоведческий анализ? Мы уже пытались один раз поговорить об этом.
Л.К.-Б.: Как раз у нас сейчас «юбилей», мы возвращаемся к тому, что делали год назад.
Б.О.: Год прошел решительно впустую.
С.Д.: Ну почему, может быть, это новый виток.
Б.О.: Да, все по Гегелю. По спирали. Все по спирали.
Ю.К.: Борис Валерьевич, на прошлом заседании мы подошли к решению этого вопроса. Нам ведь удалось прийти к выводу, что есть какие-то общие принципы.
Б.О.: Да, это, пожалуй, наше достижение (смех). Вот в этом месте и пора дать слово Рустему Ринатовичу, чтобы он нам все объяснил.
Вопросы и задания
1. Кто из подключившихся к дискуссии или более активно заявивших о себе в этот раз показался вам наиболее значительным по своим суждениям в этом фрагменте? Почему?
2. Считаете ли вы, что содержание реплики Ю.М. Камильяновой, открывающей эту часть дискуссии, соответствует её зачину: «Абстрагироваться-то можно от болячек все-таки. Можно и в идеальном мире чуть-чуть пожить»? Или оно ему противоречит?
3. В чём М.С. Рыбина усмотрела «противоречия» в рассуждениях Ю.М. Камильяновой?
4. Какую проблематизацию предмета обсуждения предлагает Р. С. Бакаев («Я хочу несколько проблематизировать обсуждаемое»)? Согласен ли с этой проблематизацией Ведущий?
5. В чём заключается предложение С.Ю. Данилина и как к нему отнеслись участники дискуссии?
6. С. М. Шаулов предлагает новую (после Р. Р. Вахитова) генерализацию, оценив полученные на тему отклики как «совершенно правильные». В чём заключается его подход? В его словах возникает «экзистенциальный» аспект темы: неожиданно или ожидаемо (с точки зрения предшествующего хода дискуссии)?
7. Возможен ли филологический контраргумент на слова философа Р. Р. Вахитова «Мы не можем с Платоном поговорить, приходится читать» и если «да», то какой?
8. Чем вызвана критика администраторов российских реформ в образовании?
9. Чем вызвана критика «нашего студента» в словах С. М. Шаулова и его «защита» в словах других участников?
10. В чём заключается заключительное для этого фрагмента предложение Р. Р. Вахитова?
11. Как вы думаете, не определился ли к этому моменту личный стиль ведения дискуссии кого-либо из участников? Если определился, то как его можно охарактеризовать?
Промежуточное резюме
В этом фрагменте круг подключившихся к дискуссии существенно расширился, и в ней выделился ещё один (кроме Р. Р. Вахитова) неформальный лидер обсуждения: С.М. Шаулов. Участники, призвав ещё раз к соблюдению тематической конвенции (Ю.М. Камильянова), увлеклись, тем не менее, привычным обсуждением «помех» для деятельности (студенты не в состоянии овладеть теми объёмами чтения, которые предлагает учебная программа, а сами программы предстают в виде учебно-методических комплексов, проверка которых в условиях вуза ведется некомпетентными людьми и проч.). При этом хороший тонус дискуссии определялся, в том числе, рефлексией над возникавшими в ходе обсуждения противоречиями (например, суждение М. С. Рыбиной о репликах Ю.М. Камильяновой).
Попытка проблематизации предмета, предпринятая Р.С. Бакаевым (о необходимости задать критерий результата), вызывает почти раздраженную реакцию Ведущего: «Я все-таки предприму последнюю попытку вернуть наш разговор в подразумевавшееся русло». С.Ю. Данилин предлагает компромиссный вариант разговора об основных понятиях литературоведческого курса, но всё же подлинная коллизия этого фрагмента обнаруживает себя тогда, когда С.М. Шаулов неожиданно соглашается со всеми «внешними репликами» (теми самыми, что недавно отклонялись как не соответствующие теме), выделив среди них реплику П.Н. Толстогузова как «близкую» себе по основному критерию, и заявляет о настоятельной необходимости обсуждения проблемы в предельно общем, антропологическом и экзистенциальном, ракурсе («Для чего читает человек? Почему живут книжки?» и т. п.). При этом первый «генерализатор» Р. Р. Вахитов привычно пытается осуществить свой способ обобщения («ни того, ни другого мы до конца не поймем»), но при этом лишь контрастно обнаруживает отличие в стилистике и логистике спора на фоне участников-«экзистенциалистов».
Фрагмент и участок коллизии завершается новым обращением к «помехам» (в виде студентов без «фоновых знаний») и к требованию рационализировать историко-литературный курс с помощью преподавания универсального аналитического инструментария к многообразным текстам (по аналогии с философией).
Раздел четвёртый. Исторический и систематический подходы как предмет методологической оценки
«Р.В.: Позволю себе поделиться своими мыслями о преподавании в вузе истории философии, которым я занимаюсь уже около 15 лет… Возможно, эти рассуждения подтолкнут моих коллег-литературоведов на мысли относительно преподавания истории литературы. Мне кажется, что здесь вполне уместны некоторые параллели с историей литературы и некоторые из них я даже попытаюсь наметить в последней части своего доклада, разумеется, не претендуя на истину в последних инстанциях.
На мой взгляд, история философии – одна из самых увлекательных дисциплин. Ведь она показывает, как философы пришли к тому или иному выводу, позволяет увидеть живое развитие философской мысли. И только так можно научиться самому мыслить, философствовать, причем не в обывательском смысле, подразумевающем «разговоры обо всем сразу и ни о чем конкретно», а в строго научном смысле, имеющем в виду попытки решать философские проблемы. А.Ф. Лосев писал об этом: «История философии относится к числу тех областей знания, из которых должна складываться теория познания. Ведь только с помощью истории философии люди смогли понять, как вырабатывались формы и категории теоретического мышления, методы освоения мыслью действительности, методологическая культура»[10]10
Лосев А.Ф. История философии как школа мысли // Коммунист. 1981. № 11. С. 55–66.
[Закрыть]. Мне неоднократно приходилось самому убеждаться, что историко-философский материал вызывает гораздо более живую реакцию у студентов, чем материал блока «Систематическая философия», где философия представлена не как сложный и полный интеллектуальных драм и парадоксов путь, а как набор готовых истин. К тому же история философии предполагает отступления в область истории культуры, искусства, политической и экономической истории, а это затрагивает область специализации студентов, что зачастую им близко и понятно.
Но как преподавать историю философии? Это вопрос неизбежно встает перед каждым преподавателем, если только он попытается вникнуть в суть философских проблем и их решений и передать эту суть студентам, не ограничиваясь банальностями дурных учебников. Речь идет даже не о методике преподавания, а о самой концепции истории философии. Прежде чем ответить на этот вопрос, я, опираясь на свой горький опыт, отвечу на другой: как не надо преподавать историю философии. Как это часто бывает, легче сказать «как не надо», чем «как надо». Должен признаться, что я и сам иногда делаю «как не надо» и сейчас размышляю над тем, как бы перейти на другие рельсы. Преподавать историю философии не надо, представляя ее как простой набор философских мнений, каждое из которых слабо связано с другими и проистекает из особенностей жизни того или иного великого философа, его культурного окружения, менталитета эпохи и т. д. То есть не нужно подменять историю философии историей философов. Как это бывает и в истории литературы, когда ее заменяют рассказом об отдельных произведениях. Хотя это бывает и занимательно, и интересно, особенно если философ любимый… К сожалению, такая установка навязывается преподавателю истории философии даже лучшими современными учебниками по этой дисциплине. Об этом говорит сам метод их написания, который состоит в том, что они пишутся коллективом специалистов-философоведов, каждый из которых является знатоком того или иного мыслителя или той или иной эпохи истории философии. Они разбивают материал на главы, и каждый пишет отдельную главу. При этом такие специалисты придерживаются зачастую противоположных философских воззрений, но это не смущает ни их самих, ни редактора учебника. Я сталкивался с буквально шоковой реакцией студентов-естественников, которые привыкли к систематическому изложению, к культуре мышления. Я не хочу обидеть гуманитариев, но у гуманитариев часто очень смутно все это в голове, а физик привык все четко укладывать по полочкам. И вот на одной странице учебника, в главе о Марксе, написанной марксистом, студент читает, что материя первична и Бог – иллюзия, а на другой странице того же самого учебника, в параграфе о Соловьеве, написанной христианином, читает об убожестве материализма, о Боге как всеединстве и т. д. Возникает впечатление, что учебник написан философом-шизофреником, который менял свои взгляды от главы к главе. Очевидно, при этом исходят из того, что наилучший курс истории философии должен быть построен так, чтоб о каждом более или менее выдающемся философе было бы сказано максимально подробно. С этой точки преподаватель, обладающий неограниченным количеством учебного времени и увлеченными, благодарными студентами, излагал бы учения разных философов до самых мелочей и тонкостей. А в идеальных условиях рассказ о каждом философе должен был бы вести отдельный ученый, а еще лучше – сам философ.
Б.О.: Но это не касается истории литературы. Вряд ли возможно доверить самим писателям рассказ о своем художественном творчестве.
Л.К.-Б.: Вспоминается известная фраза Р. Якобсона о Набокове, когда последнего рекомендовали как преподавателя русской литературы, аргументируя это тем, что он крупный писатель: «Слон тоже крупное животное, но мы же не доверим ему чтение курса зоологии».
Р.В.: Как я понимаю, курс истории литературы – это компиляция литературоведческих концепций. У каждой концепции есть свой автор. Поэтому в идеале вы бы доверили рассказ о ней самому автору концепции, мнение которого вы, собственно, пересказываете в своих лекциях. Установка такого преподавания истории философии – в понимании истории философии как галереи мнений. была известна еще Гегелю, который писал: «.мы тотчас же наталкиваемся на весьма обычное воззрение на историю философии, согласно которому она должна именно рассказать нам о существовавших философских мнениях в той временной последовательности, в которой они появлялись и излагались. Когда выражаются вежливо, тогда называют этот материал истории философии мнениями; а те, которые считают себя способными высказать этот же самый взгляд с большей основательностью, даже называют историю философии галереей нелепиц или, по крайней мере, заблуждений, высказанных людьми, углубившимися в мышление и в голые понятия. Такой взгляд приходится выслушивать не только от людей, признающих свое невежество в философии (они признаются в нем, ибо по ходячему представлению это невежество не мешает высказывать суждения о том, что, собственно, представляет собою философия, – каждый, напротив, уверен, что он может вполне судить о ее значении и сущности, ничего не понимая в ней), но и от людей, которые сами пишут или даже написали историю философии»[11]11
Г.-В.-Ф. Гегель Лекции по истории философии. Кн.1. СПб.: Наука, 1993. С. 77–78.
[Закрыть]. Если экстраполировать на историю литературы, то мы пришли к тому, что усредненный курс истории литературы состоит из определенных концепций, и зачастую эти концепции плохо согласуются между собой. Хотя преподаватель и студенты часто не замечают противоречий. В этом смысле я не видел более-менее хорошего учебника, за исключением, пожалуй, «Лекций по истории философии» Гегеля. Можно взять любой учебник на русском языке и показать: вот осколок марксистской парадигмы, вот осколок постмодернистской парадигмы. Несогласованность наблюдается зачастую, даже если книга написана одним автором.
Однако легко заметить, что в этом случае отрицается само наличие истории у философии как формы мировоззрения, а также отрицается сам статус науки у дисциплины «история философии». В самом деле, развитие философского мировоззрения состоит не в том, что с течением времени оно наполняется все новыми и новыми мнениями, которые слабо связаны с предыдущими и друг с другом. Тогда философия как таковая – просто фикция, пустое понятие, которое обозначает конгломерат разных философских мнений. В таком случае нет, как говорят философы, субъекта развития, и развиваться нечему. В то же время если нет предмета истории философии – философии как таковой, развивающейся в истории по своим законам, то нет и науки, изучающей это развитие, истории философии как дисциплины. Наука изучает закономерности развития тех или иных процессов, а не разрозненные мнения, существующие путь даже у гениальных людей и возникшие у них, может быть, по вполне субъективным причинам. Как от этого уйти?
Разрешить это затруднение нам поможет несколько неожиданное замечание Гегеля. Многообразие школ и направлений в истории философии, которое многими воспринимается как аргумент против существования философии как единого предмета, свидетельствует, по мысли Гегеля, об обратном. Ведь при всех различиях между ними по содержанию, при всех спорах между ними их объединяет хотя бы то, что они поднимают философские проблемы, разрешают их при помощи философских методов, говорят на общем языке, иначе и споры между ними были бы невозможны: «.как бы различны ни были философские учения, они все же имеют то общее между собою, что все они являются философскими учениями», – пишет Гегель[12]12
Там же. С. 83.
[Закрыть].
Л.К.-Б.: Позвольте короткую реплику. Тут у нас сложнее. У нас есть Уельбек и Бегбедер, и надо еще выяснить, литература это или нет.
Р.В.: У нас те же самые проблемы. Что такое, например, постмодернизм? Философия это или литература? Сами постмодернисты вообще избегают термина «философия». Они считают, что все вообще является литературой. Итак, возникает вопрос: что же из себя представляет философия как таковая, если она, развиваясь в истории, порождает множество философских учений и направлений, зачастую противоречащих друг другу? Ответ на этот вопрос мы находим у того же Гегеля, но, поскольку этот ответ изложен на непростом, полном трудных терминов гегелевском языке, он вызывает много недоразумений. Мы попытаемся показать, что в этом ответе нет ничего мистического и идеалистического, как полагает большинство.
Философствовать – значит, мыслить, недаром ведь синонимом к слову «философ» является слово «мыслитель». Что делает писатель? Он пишет художественный текст. Сапожник делает сапоги. А философ мыслит. Но писатель тоже мыслит. И даже сапожник мыслит. (смех)
С.Ш.: Особенно если это Якоб Бёме.
Р.В.: Но философами они от этого не становятся. Философия – это чистое мышление, мышление чистыми понятиями, теоретическое мышление. Но физик-теоретик тоже мыслит теоретически, однако его тоже нельзя назвать философом. Это оттого, что философия – это не мышление об особенном, об ограниченных областях универсума, философия – это мышление об универсуме в целом, о всеобщем или об абсолюте. Философ – тот, кто в понятиях стремится осмыслить всеобщее, абсолют, предельную форму бытия, вопросы, связанные с ней и ее отношением к человеку. Это мышление развивается, как и всякое мышление, это развитие и есть история философии. Но здесь важно понять раз и навсегда, что развитие философии как формы мышления подчинено собственным законам. Это означает одну очень важную вещь. Хотя развитие философии происходит при посредстве живых людей, философов, живущих в определенной историко-культурной обстановке, оно не может быть сведено ни к индивидуальному мировоззрению и психологии этих людей, ни к социокультурным факторам современной им эпохи. Здесь перед нами своеобразная разновидность тезиса о смерти автора. Хороший философ отличается от плохого именно тем, что мыслит не как желает сам и не как диктует политическая конъюнктура, а как велит внутренняя логика развития самого мышления, историко-философского процесса. В этом плане через отдельного человека мыслит сама философия: как развивающееся в истории теоретическое мышление, осмысляющее абсолют. Скажем, Кант был великим и гениальным философом, но только потому, что он не стал создавать изощренную систему ради самовыражения, а поставил свой интеллект и талант на службу главнейшей тенденции философии его эпохи – тенденции объединения двух односторонних, но несущих свою долю истины направлений – рационализма и эмпиризма, спор между которыми давно уже зашел в тупик. Здесь напрашивается параллель с литературоведением. Существует точка зрения, восходящая к Баденской школе, что есть науки, изучающие общие закономерности, и есть идеографические науки, такие, как литература, которые описывают особенное. В физике все повторяется: камень мы бросаем, а он падает все время с одной и той же закономерностью. Поэтому физика должна открывать общие закономерности, а литература просто должна описывать особенное, необщее. Но это, на мой взгляд, ошибочно. Наука на то и наука, чтобы найти какие-то закономерности. Если ученый отказывается от поиска закономерностей, он престает быть ученым, он становится просто рассказчиком. Хороший литератор не тот, кто пишет все, что ему придет в голову. Это графоман, его мнение никому не интересно, так как он выражает свою индивидуальность. Хороший литератор включен в контекст развития литературы. Философия живет по своим законам, подчиняя своим законам философа. То есть не философ делает историю философии, а она его. Так и история литературы делает литератора. В «Сонетах» Шекспира идет противопоставление тому идеалу красоты, который был в предшествующей поэзии. Это не свободный творческий полет Шекспира, это то, что было востребовано в его время. То же и в истории философии. Если поймем это, то сможем преподавать историю философии систематически. Мы поймем, почему вслед за Локком пришел Кант, а не наоборот. Это не мистификация процесса истории философии. Это не некий оторванный от земли и от людей самодостаточный гегелевский дух. Это мышление, которое осуществляется посредством мыслительных усилий земных людей, но диалектика этого процесса в том, что они столь же субъекты истории философии, сколько и ее объекты. История философии может быть рассмотрена сама в себе, как развивающееся по своим законам теоретическое мышление. История литературы, соответственно, может быть рассмотрена как особый тип мышления (о чем мы сегодня говорили), но не понятийного, а образного, символического, которое развивается тоже по своим законам. Отдельные концепции и системы истории философии предстают при этом как необходимые этапы развития философии, и уже отсюда видно, что в философии нет случайных и абсолютно ошибочных мнений, каждое мнение занимает свое, только ему отведенное место в общем процессе исторического становления философии, каждое философское учение, пусть оно кому-то и не нравится, необходимо, без него не появились бы другие учения.
Абсолютизировать какое-либо из учений, приписывать ему статус высшей истины, как это делают догматики, которые видят в истории философии лишь путь к одной единственно верной философии, будь то марксизм или позитивизм, неверно. Например, Рассел в «Истории западной философии» всю историю западной мысли представил как восхождение от наивной мысли к позитивизму, истинно научной философии. Это догматизм. Ни одно из философских учений в истории не лишено односторонности. Но и нельзя отбрасывать какое-либо учение как полностью лишенное истинности.
Правда, Гегель считал, что развитие философского логоса и есть абсолютная сверхъестественная истина. В истории философии, по Гегелю, раскрывает себя Абсолютный дух, который и есть Бог. То есть историю философии Гегель понимал как истинное Откровение Божье, а саму философию как Бога, погруженного в историю. Я далек от этой точки зрения и считаю, вслед за А.Ф. Лосевым, что сверхъестественная истина открывается человеку в религии, а философия есть область деятельности и самопознания естественного разума, которому, однако, открываются и некоторые высшие трансцендентные истины в той мере, в какой они понятны для человека. Философия осмысляет при помощи понятий абсолют не непосредственно, а как он дан человеку через его мировоззрение в ту или иную эпоху. Философия осмысляет миф, но не в обыденном понимании, а в том смысле, который вкладывает в это слово Лосев. По нему миф – это единство субъекта и объекта, единство мировоззрения человека и его жизненного опыта, связанного со спецификой того общества, в котором он живет. Лосев разделяет историю на три формации… Он считал, что в основе формации лежит миф, который воплощается и в экономике, и в духовной, и в политической жизни, и в литературе, и в искусстве. Так, общество рабовладельческое, где человек понимается как живая безличная вещь, порождает понимание универсума как живой безличной, внешне прекрасной материальной вещи – космоса, т. е. космоцентрический миф. Общество феодальное, где человек открывает в себе свободу и творческий дар, но они внутренние, проявляющиеся в духовной жизни, а не во внешней деятельности, порождает восприятие универсума как личностного живого Божества, т. е. теоцентрический миф. Общество капиталистическое, где человек и внешне социально свободен, порождает восприятие универсума как человеческого субъективного духа, порождающего все и вся, т. е. антропоцентрический миф. При этом речь не идет о том, что экономика первична, а мировоззрение вторично, миф есть сердцевина того или иного общества, модель, в соответствии с которой выстраивается и экономическая, и духовная жизнь.
Итак, философия есть диалектика мифа: сначала – космоцентрического, затем – теоцентрического, затем – антропоцентрического. Осмысление же это происходит по законам самого мышления, которые тоже были описаны Гегелем. Гегель отметил, что мысль, возникнув из цельного восприятия, которое Гегель называет наивным восприятием, а мы бы назвали мифом, как бы раздваивается. Здесь мышление еще чуждо диалектике, и поэтому оно кружится в колесе конечных определений, остается рассудочным и постоянно стакивается с антиномиями (в лучшем случае на этом этапе возможна стихийная, неосознанная диалектика). Итак, на раннем этапе всякой эпохи истории философии возникает множество соперничающих между собой направлений, борьба между которыми бесплодна, потому что рассудок не может разрешить это противоречие (в древнегреческой философии это натурфилософы: от Фалеса Милетского до Анаксагора, в средневековой – борьба реализма и номинализма в ранней схоластике, в новоевропейской философии – борьба рационализма и эмпиризма). Затем мысль обращается к самой себе и открывает свою диалектичность, недостаточность конечных определений, потому что, обращаясь к себе, мысль ограничивает себя собой же, т. е. становится бесконечной. Это этап отрицательно-разумного мышления или отрицательно-диалектической философии, которая каждому тезису противопоставляет свой антитезис (в древней Греции – это философия софистов с их поворотом к человеку, в средневековье – философия латинских аверроистов с их теорией двойственной истины, в Новое время – философия Канта с ее обращением к сознанию и разуму). Затем наступает этап положительно-разумного или положительно-диалектического мышления, когда философия обращается снова к своему предмету, т. е. к абсолюту, но уже вооруженная систематической диалектикой и диалектика эта позволяет не только противопоставлять одному утверждению другое, но и видеть их внутреннее единство (в классической Греции это философия Платона и Аристотеля, в средневековье – философия Альберта Великого и Фомы Аквинского, в Новое время – философия Шеллинга и Гегеля). Но на этом не заканчивается диалектическое осмысление мифа, а заканчивается лишь его первый классический этап, когда абсолют осмысляется как объект. Наступает черед осмысления абсолюта как субъекта, который разбивается на три такие же этапа (эллинистический и римский период в античности, период поздней «второй» схоластики в средние века и в эпоху Возрождения, период неклассической европейской философии XIX–XX вв.). В конце истории каждой эпохи ее философский путь суммируется в одной досконально разработанной диалектической системе (античность завершает неоплатонизм, средневековая схоластика находит свое завершение в философии Франсиско Суареса, новоевропейская философия еще не получила своего завершения).
В реальной истории не бывает, чтоб одна эпоха сразу сменила другую, они прорастают друг в друга. Внутри античной философии зарождается христианская [здесь и далее как-то неясно, можно подумать, что автор не разводит понятия христианская религия и христианская философия, то бишь богословие
– Ред.], появляется элемент гностицизма. Внутри теоцентрической философии появляется новоевропейская, переплетается с ней. В этом тайна Возрождения. Возрождение – это смешение христианства с новоевропейской антропоцентрической философией и с неогностицизмом. Возрожденцы живут средневековым духом. Возвышая человека, они возвышают его как образ Божий, они сохраняют представления христианства об особом месте человека.
Ни исламская, ни японская, ни китайская философия не породили гуманизма. Только на руинах (средневекового. – Ред.) христианства возник гуманизм. Потому что гуманизм несет в себе осколок христианского мировоззрения – понимание человека как особого существа. господствующего над другими существами. [Я бы убрала, потому что в христианстве нет господства. Или надо разводить христианское мировоззрение и философию – Ред.]
Я немного отвлекся. Можно систематически излагать историю философии. Мы показываем, как из мифа рождается философия, при этом миф полностью не погибает, а становится ядром философии… Показываем, как в рамках мифа происходит осмысление этого мифа, показываем периоды: [наверно, лучше этапы развития мышления, потому, что это лучше соотносится с вышесказанным, и потому, что у периода временное значение – Ред.] додиалектический, отрицательно диалектический, положительно диалектический. Показываем переход от одной эпохи к другой.
Кстати, я не вижу корней перехода от космоцентризма к теоцентризму. [Как здорово! Это, мне кажется, еще одно доказательство того, что христианство – не философия. – Ред.] Корней этого перехода нет. Интуиция христианской личности рождается из ничего, она просто дана. [Вот именно. А не рождена мыслью. – Ред.] А переход от теоцентризма к антропоцентризму объясняется легко. Это просто вырождение мифа: на место Бога ставится человек.
И еще: мы не должны модернизировать историю философии. Мы должны показать, что мир, человек, философия понимались различно в каждый период истории. Зачастую этого нет. Открывая стандартный учебник, мы читаем, что история философии началась с Фалеса Милетского и Анаксагора и что первые ученые были первыми материалистами. Почему? Авторам учебника они напомнили современных ученых-естествоиспытателей. А потом пришли Платон и Аристотель и стали интересоваться Богом. Но у Фалеса, у Анаксагора все разговоры – о Боге. Античная философия космоцентрична, и вся природа понимается как Бог. Если средневековый естествоиспытатель бежит в природу от Бога и, занимаясь природой, перестает заниматься Богом, то античный философ, занимаясь природой, обращается к Божеству. Если уж искать параллели между Фалесом и европейскими мыслителями, то это не Галилей и Фарадей, а скорее Псевдо-Дионисий Ареопагит и Иоанн Дамаскин. То же и со средневековой философией: Августин Блаженный – средневековый философ, так как занимался проблемой человека. Но для средневекового философа абсолют – это Бог, философия – это богословие, философы – отцы церкви, которые занимались осмыслением вопросов Божества.
То же и в истории литературы. Мы переносим стандарты современной эпохи на другие эпохи. Что такое средневековая литература? Для нас темой литературы является человек, поэтому важнейшая тема – любовь. Значит, говоря о средневековой литературе, надо найти что-то о любви. Находим поэзию трубадуров. Но средневековая литература это в первую очередь церковная литература, это церковная поэзия, богослужебные тексты. И только в последнюю очередь это поэзия трубадуров, которая, кстати говоря, тоже имела религиозное происхождение. Многие современные люди «Тристана и Изольду» понимают неверно, так как в наше время любовь понимается как чувство, которое возвышает человека, пережить любовь означает подняться на другой уровень развития. Средневековье не знало романтизации любви. Любовь понималась как страсть, как что-то осуждаемое. Об этом говорит и язык. Красивая женщина – чаровница, прелестница. Но любой человек, который с церковной культурой немного знаком, сразу поймет, в чем тут подвох. Прелесть идет от дьявола, он первый прелестник. Чары – это от колдовства, значит, красивая женщина, пробуждающая в мужчине страсть, это ведьма. Я не говорю, что женщин надо жечь.








