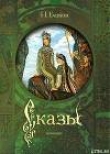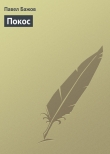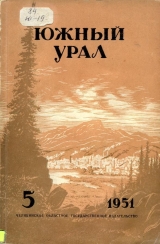
Текст книги "Южный Урал, № 5"
Автор книги: Павел Бажов
Соавторы: Лидия Преображенская,Людмила Татьяничева,Иван Иванов,Василий Кузнецов,Леонид Чернышев,Константин Боголюбов,Валентин Сержантов,Иван Ногтев,Евгений Манько,Петр Кулешов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Южный Урал, № 5
Светлой памяти талантливого художника,
писателя-большевика, певца Урала —
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА БАЖОВА посвящается этот номер альманаха.
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ
3 декабря 1950 года перестало биться сердце замечательное писателя-большевика, нашего славного земляка-уральца Павла Петровича Бажова. Ушел от нас своеобразный, самобытный писатель, общественный деятель, вся жизнь которого была органически связана с народом и посвящена Родине.
П. П. Бажов родился в Сысертском заводе, в семье коренного уральского рабочего. В Сысерти, в Полевском заводе, а затем в Свердловске (тогда Екатеринбурге) и Молотове (тогда Перми) прошли детство и юность Павла Петровича. В 1899 году П. П. Бажов начинает свою трудовую деятельность. Преподаванию русского языка сначала в уральской деревне Шайдуриха, затем в Екатеринбурге и Камышлове он отдает 18 лет своей жизни. Но, работая учителем, П. П. Бажов не порывает связи с рабочими Урала. Ежегодно во время летних каникул он путешествует по Уралу, по уральским заводам, изучает жизнь, условия труда, устное народное творчество рабочих горнозаводского Урала.
С первых дней Великой Октябрьской социалистической революции П. П. Бажов на активной общественно-политической работе. Он депутат Камышловского Совета рабочих и крестьянских депутатов, комиссар по просвещению, редактор камышловской газеты. В 1918 году П. П. Бажов вступает в ряды великой партии Ленина – Сталина. Став коммунистом, он с еще большей энергией борется за упрочение Советской власти на Урале.
Как только началась гражданская война. П. П. Бажов уходит добровольцем на фронт. С 1918 по 1921 год он – активный участник партизанского движения в Сибири, политработник Красной Армии, редактор дивизионной газеты «Окопная правда». Возвратившись в 1921 году на Урал, П. П. Бажов посвящает себя журналистской деятельности. Он работает в редакции уральской областной «Крестьянской газеты», в Свердловском областном государственном издательстве.
В 1924 году выходит первая книга П. П. Бажова «Уральские были», повествующая о жизни рабочих до революции в Сысертском горном округе. Показу революционной борьбы уральских рабочих в 1905 году посвящена книга П. П. Бажова «К расчету!» Героическим годам гражданской войны, борьбе трудящихся Урала и Сибири за Советскую власть посвящает П. П. Бажов книги «За советскую правду» и «Бойцы первого призыва». Наряду с этим П. П. Бажов создает произведения о колхозной деревне и автобиографическую повесть для детей «Зеленая кобылка».
В 1936 году появляются в печати первые сказы П. П. Бажова «Дорогое имячко», «Про великого Полоза», «Медной горы хозяйка» и др.
В 1939 году выходит из печати сборник сказов «Малахитовая шкатулка», принесший его автору заслуженную известность в нашей стране и за ее пределами. Книга «Малахитовая шкатулка» явилась вдохновенным гимном творческому труду, гимном трудящемуся человеку – созидателю, творцу. Многомиллионные массы читателей полюбили героев этой книги. Образы «Малахитовой шкатулки» нашли широкое отражение в музыке, театре, кино и живописи. П. П. Бажов является также автором книги «Дальнее – близкое», посвященной истории Свердловска.
Партия и правительство высоко оценили творческий труд П. П. Бажова, наградив его орденом Ленина и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». За книгу сказов «Малахитовая шкатулка» П. П. Бажов был удостоен Сталинской премии. Трудящиеся Красноуфимского избирательного округа оказали писателю высокое доверие, дважды избрав его депутатом Верховного Совета СССР.
До последних дней своей жизни П. П. Бажов не прекращал своей творческой и общественной работы. Он создавал все новые и новые сказы, пополняя ими свою книгу «Малахитовая шкатулка». Он шел в передовой шеренге борцов против поджигателей войны – англо-американских империалистов. Делегат первой Всесоюзной конференции сторонников мира, П. П. Бажов писал статьи и выступал перед трудящимися с докладами, посвященными борьбе за мир во всем мире.
Много сил и внимания П. П. Бажов отдавал развитию литературы на Урале. В течение многих лет он руководил работой Свердловского отделения Союза советских писателей, был главным редактором альманаха «Уральский современник». С отеческим вниманием Павел Петрович следил за ростом молодых писателей, радовался их успехам, резко, но всегда справедливо критиковал недостатки в их произведениях. Большое внимание П. П. Бажов уделял и писателям Южного Урала. Он часто беседовал с ними, читал их произведения, помогал советами, указаниями. Неоднократно П. П. Бажов посещал Челябинск и другие города нашей области.
Со смертью П. П. Бажова советская литература понесла тяжелую утрату. Память о Павле Петровиче Бажове – талантливом писателе-большевике, общественном и государственном деятеле, нашем старшем товарищей друге – сохранится навсегда в наших сердцах, в сердцах миллионов советских читателей, в сердцах трудящихся Урала, талантливым певцом которого он был.
П. Бажов
ТРИ СКАЗА
Самобытный творческий труд златоустовских граверов, творцов булатной стали, каслинских мастеров художественного литья, изумительные богатства Ильменских гор вдохновили П. П. Бажова на создание замечательных сказов о Южном Урале – «Коренная тайность», «Иванко-Крылатко», «Чугунная бабушка», «Солнечный камень» и др. В сказе «Солнечный камень» писатель рассказывает о В. И. Ленине, проявлявшем заботу об охране богатств Ильменских гор.
Редколлегия альманаха помещает в этом номере три сказа П. П. Бажова, посвященные Южному Уралу.
СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ
Против нашей Ильменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому – на всяких языках про это записано. На что немцы самохвалы да завистники, и в тех нашлись люди, по совести сказали: так и так, в Ильменских горах камни со всего света лежат.
Такое место, понятно, мимо ленинского глазу никак пройти не могло. В 20-м году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. Чтоб, значит, промышленников и хитников всяких – по загривку, а сберегать эти горы для научности, на предбудущие времена.
Дело будто простое. Известно, ленинский глаз не то что по земле, под землей видел. Ну, и эти горы предусмотрел. Только наши старики-горщики все-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть. Война тогда на полную силу шла. Товарищу Сталину с фронта на фронт поспешать приходилось, а тут вдруг камешки выплыли. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так.
Жили два артельных брата: Максим Вахоня да Садык Узеев, по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкирцев, а дело у них одно – с малых лет по приискам да рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают, меж ними дружба велась, на удивленье людям. А сами друг на дружку нисколько не походили. Вахоня – мужик тяжелый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак – глядеть страшно, нога медвежья и разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит, и то мух в сторону на полсажени относит, а характеру мягкого. Прямо сказать, смирняга. По пьяному делу, когда какой заноза раздразнит, так только пригрозит:
– Отойди, парень, от греха! Как бы я тебя ненароком не стукнул.
Садык ростом не вышел, из себя тончавый, вместо бороденки семь волосков, и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь так-то. Ровно и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был веселого. Попеть, и поплясать, и на курае подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали Сандугач, по-нашему, соловей.
Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугач и сошлись в житье на одной тропе. Не всё, конечно, на казну да хозяев добывали. Бывало и сам-друг пески перелопачивали, – свою долю искали. Случалось, – и находили, да в карманах не залежалось. Известно, старательскому счастью одна дорога была показана. Прогуляют всё, как полагается, и опять – на работу, только куда-нибудь на новое место: там, может, веселее.
Оба бессемейные. Что им на одном месте сидеть! Собрали котомки, инструмент прихватили – и айда. Вахоня гудит:
– Пойдем, поглядим, в коем месте люди хорошо живут.
Садык веселенько шагает да посмеивается:
– Шагай, Максимка, шагай! Новым мистам золотой писок сама руками липнит. Дарогой каминь барадам скачит. Один раз твой барада полпуда станит.
– У тебя, небось, ни один не задержится, – отшучивается Вахоня и лешачиным обычаем гогочет: хо-хо-хо.
Так вот и жили два артельных брата. Бродили по рудникам да приискам. Хлебнули сладкого досыта: оба покалечились. Садык в работе правый глаз потерял, Вахоня на левое ухо совсем не слышал.
На Ильменских горах они, конечно, не раз бывали. У Андрея Лобачева на шахтах старались, а как у него запой случится, к Гологузову переходили. Этому не одну тыщу в сундук загнали. Про Подвинчиху и говорить нечего. Этой стерве кучу камешков добыли. Тут Садык и глаз потерял.
Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались: на Кочкаре, у Подвинчихи, золото добывали. По горняцкому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит:
– Пламенное, дескать, вам спасибо, товарищи старики, от лица советской власти, а только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же, – говорит, – фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой.
Старикам это обидно, а что поделаешь? Правильно политрук сказал – надо поглядеть, что на приисках делается. Пошли сразу к Ильменям, а там народу порядком набилось, и всё хита самая последняя. Этой ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить. Все ямы, шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется. Сходили в Кочкарь, на Бишкиль – везде такая же штука. Заподумывали наши старики, – как быть? Сбегали в Миасс, в Златоуст, обсказали, а толку не выходит. Отмахиваются.
– Не до этого, – говорят, – теперь, да и на то главки есть.
Стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу – одна главка, по золотому – другая, по каменному – третья. А как быть, коли на Ильменских горах все есть. Старики тогда и порешили:
– Подадимся до самого товарища Ленина. Он, небось, найдет время.
Стали собираться, только тут у стариков рассорка случилась. Вахоня говорит: для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Ну, и золотой песок тоже. А Садык свое заладил: всякого камня образец взять, потому дело научное.
Спорили, спорили, на том договорились: каждый соберет свой мешок, как ему лучше кажется.
Вахоня расстарался насчет цирконов и фенакитов. В Кочкарь сбегал, спроворил там эвклазиков синеньких да розовых топазиков. Золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел и камень всё – самоцвет. А Садык наворотил мешок, что и поднять не в силах, и камень больше такой, что с дороги только понимающий человек подымет. Вахоня грохочет:
– Хо-хо-хо. Ты бы все горы в мешок забил. Разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо.
Садык на это в обиде.
– Глупый, – говорит, – ты, Максимка, человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность надо, а базарная цена камню – наплевать.
Поехали в Москву. Без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте Вахоня от поезда отстал. Садык, хоть и в сердцах на него был сильно, запечалился, захворал даже. Как никак, всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно. Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везешь? А как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы, к чему такие камни, для личного обогащения али для музея какого? Одним словом, беспокойство.
Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой. До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до слез насмешили: обниматься стали. Потом опять о камнях заспорили, который мешок нужнее, только уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, Вахоня и говорит:
– Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше.
Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать. Скоренько нашли и прямо в Совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди,, откуда, по какому делу. Садык отвечает:
– Бачка Ленин желаим каминь казать.
Вахоня тут же гудит:
– Места богатые. От хиты ухранить надо. Дома толку не добились. Беспременно товарища Ленина видеть требуется.
Ну, провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обсказывать, торопятся, друг дружку перебивают. Владимир Ильич послушал, послушал и говорит:
– Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо.
Тут Вахоня, откуда и прыть взялась, давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит: из такой ямы, из такой шахты, камень взял, и сколько он на рубли стоит.
Владимир Ильич и спрашивает:
– Куда эти камни идут?
Вахоня отвечает – для украшения больше. Ну, там перстни, серьги, буски и всякая такая штука. Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал:
– С этим погодить можно.
Тут очередь до Садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает:
– Амазон-каминь, калумбит-каминь, лабрадор-каминь…
Владимир Ильич удивился:
– У вас, смотрю, из разных стран камни.
– Так, бачка Ленин! Правда говоришь. Со всякой стороны каминь сбежался. Каменный мозга-каминь, и тот есть. В Еремеевской яме солничный каминь находили.
Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит:
– Каменный мозг вам, пожалуй, ни к чему. Этого добра и без горы найдется. А вот солнечный камень нам нужен. Веселее с ним жить.
Садык слышит этот разговор и дальше старается.
– Потому, бачка Ленин, наш каминь хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят.
– Это, – говорит Владимир Ильич, – всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают.
Тут Владимир Ильич позвонил и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготовить, чтоб на Ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит:
– Спасибо вам, старики, за заботу. Большое вы дело сделали! Государственное! – И руки им, понимаешь, пожал.
Ну, те, понятно, вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами как росой покрылась, а Садык бороденкой трясет да приговаривает:
– Ай, бачка Ленин! Ай, бачка Ленин!
Тут Владимир Ильич написал записку, чтоб определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить.
Только наши старики так и не доехали до дому. По дорогам в ту пору, известно, как возили. Поедешь, не знаю куда. Так и Вахоню с Садыком повезли в одно место, а угадали они вовсе в другое. Война там, видно, кипела, и, хотя один был глухой, а другой – кривой, оба снова воевать стали.
С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике вскорости пришел в здешние места. Теперь этот заповедник Ленинским зовется.
ЧУГУННАЯ БАБУШКА
Против каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь.
Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло.
В Каслях, видишь, это фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут над народом изгальничали, художники в Каслях живали. Народ, значит, и приобык.
Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники готовили. Больше того их со стороны привозили: которое, как говорится, из столицы, которое из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли, – приглянется заводским барам какая вещичка, они и посылают ее в Касли с наказом:
– Отлейте по этому образцу к такому-то сроку.
Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат.
Ну вот…
В числе прочих литейщиков был в те годы Торокин Василий Федорыч. В пожилых считался. Дядей Васей в литейном его звали.
Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талан к этому имел. Даром что неграмотный, а лучше всех доводил.
Самые тонкие работы ему доверяли.
За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам дивится: «Придумывают тоже! Все какие-то Еркулесы да Лукавоны. А нет того, чтобы понятное показать… А ну-ко, попробую сам».
Только человек возрастной, свои ребята уже большенькие стают – ему и стыдно в таких-то годах ученьем заниматься.
Так он что придумал? Вкрадче от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. От нее, понятно, не ухоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал, спрашивает.
Ну, он и рассказал.
– Так и так… Придумал свой образец для отливки сготовить.
Жена посомневалась:
– Барское, поди-ко, это дело. Они к тому ученые, а ты что?
– Вот то-то, – отвечает, – и горе, что придумывают непонятное, а мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисью вылепить, как она прядет. Видала?
– Как, – отвечает, – не видала, коли чуть не каждый день к ним забегаю.
А по соседству с ними Бескресловы жили. У них в семье бабушка была, вовсе преклонных лет. Внучата у ней выросли, и у этой бабки досуг был.
Только она – рабочая косточка – разве может без дела? Она сидела день-деньской за пряжей, и все, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой.
Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет и зайдет к соседям будто за делом каким, а сам на бабку смотрит.
…Ну, вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло – показывать ли? Еще на смех подымут!
Все-таки решился, пошел сразу к управляющему. На счастье дяди Васи, управляющий тогда из добрых принялся, неплохую память о себе в заводе оставил… Поглядел он торокинскую работу, понял, видно, да и говорит:
– Подожди маленько – придется мне посоветоваться.
Ну, прошло сколько-то времени, пришел дядя Вася домой, подает жене деньги:
– Гляди-ко, мать, деньги за модельку выдали! Да еще бумажку написали, чтоб вперед выдумывал, только никому, кроме своего завода, не продавал.
Так и пошла торокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок ее вовсе бойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таиться.
На дядю Васю глядя, другие заводские мастера осмелели – тоже принялись лепить да резать, кому что любо.
Только недолго так-то было.
Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит:
– Вот что, Торокин… Считаю тебя самолучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. Сконфузил ты меня своей моделькой.
А прочих, которые по торокинской дорожке пошли – лепить да резать стали, тех всех до одного с завода прогнал…
…Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых значились. А это уж так повелось – где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К турчаниновскому, скажем, наследству прилипли Кронеберги, к яковлевскому – Берги, а к расторгуевскому – подобрался фон-барон Меллер, да еще Закомельский.
У этого Меллера была в родне какая-то тетка Каролина. Она будто Меллера и воспитала. Приезжала она к нам на завод.
Кто видел, говорили – сильно сытая, вроде стоячей перины, ежели сдаля поглядеть.
И почему-то эта тетка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер всегда с этой теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала. В литейной подсмеивались:
– Подобрано на немецкой тетки глаз – нашему брату не понять.
Ну, так вот… уехала эта немецкая тетка Каролина куда-то за границу.
Меллеру, видно, не до этого было либо он на барыши позарился, только облегчение нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тетка, так сразу перемена делу вышла: визгом да слюной чуть не изошлась, как увидела чугунную бабушку.
Меллер, видно, умишком-то небогат был, забеспокоился:
– Простите-извините, любезная тетушка, – недоглядел. Сейчас дело поправим.
И пишет выговор управляющему со строгим предписанием – всех новоявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить.
Так вот и плюнула немецкая тетка Каролина со своим дорогим-племянничком нашим каслинским мастерам в самую душу.
Ну, только чугунная бабушка за все отплатила.
Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо. И видит – на столе у этого начальника, на самом видном месте, торокинская работа стоит. Каролинка, понятно смолчала бы, да хозяин сам спросил:
– Ваших заводов литье?
– Наших, – отвечает.
– Хорошая, – говорит, – вещица. Живым от нее пахнет.
Пришлось Каролинке поддакивать:
– О, та. Ошень превосхотный рапот.
Пришлось Каролинке это проглотить. А тут любезный племянничек пеняет:
– Что ж вы, дорогая тетушка, меня конфузите да в убыток вводите. Отливки-то, которые по вашему выбору, вовсе никто не берет. Совладельцы даже обижаются, да и в газетах нехорошо пишут: либо, говорят, в Каслях на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей.
Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролину. Может, заводские художники дотолкали…
Теперь, конечно, это дело прошлое. С той поры много воды утекло.
Полсотни годов прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорыч Торокин, а работа его и теперь живет.
В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе, вот-вот ласковое слово скажет:
– Погляди-ко, погляди, дружок, на бабку Анисью. Давно жила. Косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка моя, может, и посейчас внукам-правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом. Честно, дескать, жизнь прожила и, по старости, сложа руки не сидела. Али взять хоть Васю Торокина. С пеленок его знала, потому в родстве мы и по суседству. Мальчонком стал в литейную бегать. Добрый мастер вышел. С дорогим глазом, с золотой рукой. Как живая, поди-ко, сижу, с тобой разговариваю, памятку о мастере даю – о Василье Федорыче Торокине…
Так-то, милочек! Работа – она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.